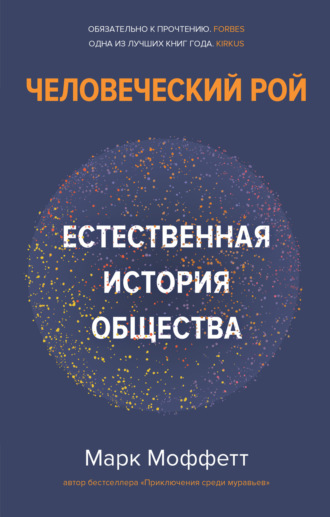
Марк Моффетт
Человеческий рой. Естественная история общества
Анонимы с позвоночником
Должен признать, что я не решался говорить об этом. Есть по меньшей мере один вид позвоночных, живущий в анонимных сообществах, который действительно помечает свои сообщества с помощью запаха, подобно тому как это делают муравьи: голые землекопы[158]. По признанию двух ведущих специалистов по этому виду животных, эти покрытые морщинами, бесшерстные розовые грызуны, обитатели африканской саванны, «нарушают даже самые либеральные стандарты красоты среди животных»[159]. Их маркеры, возможно, объясняют, каким образом численность их колоний выходит за рамки популяционного максимума в 200 особей, характерного для большинства сообществ других млекопитающих: самое крупное среди когда-либо зафиксированных сообществ голых землекопов состояло из 295 членов.
В отличие от муравьев-рабочих голые землекопы распознают друг друга и как индивидуумов. Извлекают ли голые землекопы из этого максимальную пользу – есть ли у них лучшие друзья, например, – непонятно. Неизвестно также, способен ли голый землекоп в большой колонии вспомнить каждого члена своего сообщества или, как я предполагаю, должен полагаться на запах, если неожиданно повстречается с этими морщинистыми шариками, которые ему не очень хорошо знакомы.
Явное сходство нрава голых землекопов и муравьев поражает. Холодными ночами эти единственные холоднокровные млекопитающие, дрожа от холода, собираются вместе, как пчелы. Возможно, такие сеансы тесного общения, когда животные льнут друг к другу, обусловливают формирование общего запаха колонии, то есть выполняют такую же функцию, как груминг у муравьев. У голых землекопов, как и у дамарских пескороев, еще одного вида грызунов, обитающих в Африке, существует разделение труда: размножается только одна грузная царица. В этом они больше похожи на термитов, чем на муравьев: царица выбирает двух или трех самцов в качестве царей, ее исключительных брачных партнеров.
Голые землекопы напоминают термитов и своей склонностью к подземной активности. По необходимости они погружены с головой в создание инфраструктуры и выкапывают извитые тоннели на территории площадью несколько тысяч квадратных метров, чтобы получить доступ к луковицам и клубням, своей единственной пище. Эти млекопитающие не перемещаются постоянно, в отличие от стад, из одного места в другое целой колонией: у них рабочие уходят и возвращаются в центральное гнездо. Оно похоже на гнездо насекомых и представляет собой совокупность камер, плотно расположенных на участке диаметром от 50 см до 1 м. Грызуны ведут кочевой образ жизни, меняя местоположение своего гнезда в лабиринте нор каждые несколько недель. Самые крупные особи среди рабочих обычно действуют как солдаты, защищая колонию от змей и всех посторонних голых землекопов, которых выявляют по их чужому запаху.
Я бы не удивился, если маркеры, указывающие на принадлежность к сообществу, обнаружатся и у других млекопитающих, особенно если это запахи или звуки, которые люди не способны улавливать. Например, пятнистые гиены натирают секретом анальных желез скопления растений – это действие называется «намазыванием». Каждая гиена имеет свой особый запах, и, как полагают, обмен запахами на помеченных точках – это способ поддерживать хорошие отношения с другими особями своего клана. Тем не менее смешение выделений разных членов клана порождает уникальный для группы запах. В теории гиены могли бы различать кланы по запаху. Даже если и так, каждый клан состоит всего из нескольких десятков особей и достаточно мал, чтобы животные уже хорошо знали, кто к нему принадлежит, а кто – нет. В лучшем случае запах клана мог бы стать своего рода запасным вариантом, тогда как в повседневной жизни гиен индивидуальное распознавание играет ключевую роль[160].
Более убедительное свидетельство существования анонимных сообществ встречается у птиц. Западноамериканские остроклювые, или сосновые, сойки собираются в стаи, состоящие из сотен особей, и это вполне обычное поведение для птиц. Но вот факт, который указывает на нечто изумительное: когда одна стая встречается с другой, сойки образуют облако, которое потом, без всяких сомнений, разделяется точно на две исходные стаи. Это напоминает мне, как саванные слоны (иногда огромное число особей) мирно объединяются, но всегда возвращаются к своим первоначальным основным группам. Поразительно, что стая соек включает примерно 500 птиц, тогда как основная группа слонов состоит всего из нескольких особей. Поэтому то, что на первый взгляд выглядит всего лишь скромным (по птичьим меркам) скоплением, при более тщательном рассмотрении оказывается многонаселенным и хорошо организованным сообществом. Каждое такое «сообщество-стая» сохраняет свой состав из множества расширенных семей на протяжении года[161]. Стая сосредоточивается на участке земли площадью примерно 23 км2, хотя им не свойственна территориальность: сойки не защищают участок или находящиеся там источники корма и часто вторгаются в воздушное пространство соседей. Большую часть года стая летает одной плотной массой, собирая семена и охотясь на насекомых. В сезон размножения пары птиц, которые верны своим партнерам всю жизнь (сосновая сойка более склонна к строгой моногамии, чем люди), расселяются на участке земли, занятом стаей, чтобы растить свой выводок в гнездах. И даже тогда они отождествляют себя с той же группой птиц.
Никто не может с уверенностью сказать, как сообщества-стаи остаются отделенными от других, как их представители идентифицируют членов своего сообщества в то время, когда птицы находятся в плотных стаях, и в тот период, когда они расселяются по гнездам. Определенные вокализации соек, в том числе слышимая только на близком расстоянии позывка (тихий носовой звук), у каждой птицы отличаются. И даже в этом случае трудно приписать сойкам использование индивидуального распознавания, потому что тогда это означало бы, что они отслеживают сотни других птиц во время полета. Исследования показали, что ни одна сойка не способна распознавать каждого члена стаи, а лишь своего партнера, птенцов и нескольких других птиц в своей личной сети поддержки, которых она может привлечь, чтобы получить передышку в стычке с доминантными членами стаи из-за корма или материала для гнезда. Гипотетически, знакомства с некоторыми, но не всеми членами стаи могло бы быть достаточно, чтобы сохранить целиком состав из 500 особей, возможно, если бы каждая птица чувствовала себя комфортно, пока слышит «ближнюю» позывку хотя бы одной знакомой сойки. Тем не менее на практике такие альянсы внутри сообщества не сохранили бы стаю неизменной. Со временем она бы распалась на фрагменты или объединилась бы навсегда с другими стаями.
При таком большом количестве особей, для того чтобы сохранить подобную птичью стаю, должно действовать нечто большее, чем индивидуальное распознавание. Почти наверняка сосновые сойки формируют анонимные сообщества, и их вокальный репертуар действительно включает пару вероятных маркеров принадлежности к стае. Сойки повторяют позывку «рэк» при появлении хищника, и этот звук отличается достаточно, чтобы идентифицировать как саму птицу, так и стаю, к которой она принадлежит. Еще более значимым является сигнал «кау», который птица издает в полете. Этот звук, по которому орнитологи-любители идентифицируют вид, тоже отличается у разных стай, как и следовало ожидать, когда речь идет о маркере. Я не сомневаюсь, что «кау», «рэк» или обе эти позывки служат опознавательными знаками принадлежности к стае и объясняют, каким образом сойки сохраняют состав сообщества неизменным.
У сосновых соек есть определенный стимул, чтобы жить в постоянных сообществах, а не во временных стаях. Во-первых, безопасность. Каждая сойка прячет в тайнике в земле семена про запас (хотя так же, как и в человеческих обществах, у сосновых соек тоже встречается воровство). В это время другие сойки, расположившись наверху на деревьях, стоят на страже и наблюдают, не появились ли хищники, например лисы, которые могут убить тех соек, что закапывают тайник. Члены сообщества также координируют свою деятельность. Пока в гнезде матери охраняют птенцов, все отцы отправляются на совместную охоту. Действуя в группе, они добывают больше насекомых, чем им это удавалось бы поодиночке, и все вместе возвращаются каждый час, чтобы принести еду в свои гнезда. Покинув гнездо, оперившиеся птенцы встречаются в ясельной группе под надзором пары взрослых птиц, которые несут дежурство и охраняют птенцов весь день, пока другие родители отсутствуют, занимаясь поиском корма для своего потомства. Год спустя молодые птицы отделяются от оперившихся птенцов и присоединяются к группе, которую можно сравнить с шумной ватагой подростков, до тех пор, пока они не будут готовы принять на себя обязательства по отношению к брачному партнеру, зачастую после того, как примкнут к другой стае. Жизнь сосновых соек строго организована.
Наконец, накапливается все больше свидетельств, что еще одна группа позвоночных, китообразные, создает анонимные сообщества, которые иногда могут достигать невероятных размеров. Убедительные доказательства в пользу существования таких сообществ собраны по отношению к кашалотам, питающемуся кальмарами виду, принадлежащему к подотряду зубатых китов и ставшему знаменитым благодаря «Моби Дику»[162]. Это чудище и в самом деле обладает тем, что я назвал бы сообществами, действующими независимо на двух разных уровнях.
На первый взгляд кажется, что сообщества кашалотов – довольно скромных размеров для позвоночных животных: социальная единица включает от 6 до 24 взрослых самок и их потомство, которые всегда держатся вместе. (Взрослые самцы кашалотов, как и самцы слонов, скитаются, как хотят, спариваются, с кем смогут, и не участвуют в жизни сообществ, состоящих только из самок.) Социальные единицы-сообщества сохраняются десятилетиями; большинство самок остается со своей группой в течение всей жизни, хотя некоторые переходят в другую социальную единицу по неизвестным причинам, так что в конечном итоге многие группы включают не состоящих в родстве особей.
Молодые кашалоты заучивают короткие ряды щелчков – коды (ед. ч. «кода»), которые можно представить как один или два символа из послания, переданного азбукой Морзе. Определенные коды немного отличаются в разных социальных единицах-сообществах. Киты издают эти щелчки, когда их социальная единица приближается к другой, по-видимому, таким образом давая возможность социальным единицам распознавать друг друга и координировать свои передвижения.
Что интересно: социальные единицы являются частью кланов, и такая структура двояким образом четко определяет принадлежность китов. В Тихом океане встречается пять кланов, каждый из которых обозначен специфическим набором код. Кланы состоят из сотен социальных единиц, распределенных на площади в несколько тысяч квадратных километров. Хотя киты ведут повседневную жизнь в рамках своих социальных единиц, они также ценят принадлежность к клану. Только социальные единицы, принадлежащие к одному клану, приближаются друг к другу и могут какое-то время охотиться вместе – представьте это как своего рода слияние-разделение. Маловероятно, что животные из разных кланов дерутся, принимая во внимание, что такие крупные животные могут навредить самим себе. Более того, им не свойственна территориальность (хотя в Атлантическом океане некоторые кланы обитают на большом расстоянии друг от друга). Они просто избегают друг друга.
Социальные единицы обеспечивают кашалотам множество тех же выгод, что и сообщества других животных: защиту от хищников, совместный уход за детенышами и возможности для обмена накопленным опытом. Преимущества принадлежности к клану, по-видимому, связаны с тем, как киты добывают пищу: погружаются ли социальные единицы клана на глубину или мигрируют вместе, остаются недалеко от островов или в открытом океане. Эти детали имеют значение, поскольку именно они служат причиной того, что каждый клан охотится на определенные виды кальмаров. Один клан, например, прекрасно себя чувствует в теплый период Эль-Ниньо[163], когда кальмаров трудно добыть. Согласно гипотезе, киты мастерски ловят добычу, только когда они объединяются с другими социальными единицами своего клана, так как пользуются одинаковыми методами охоты.
Такие различия, касающиеся способов добычи пищи, не детерминированы генетически. Поскольку самцы свободно спариваются с самками из любого клана, все кланы имеют одинаковый набор генов. На формирование стратегии влияют культурные факторы: киты учатся свойственным клану методам охоты у старших, подобно тому как дельфины изучают тактику ловли рыбы[164]. Благодаря простоте код ошибки в определении принадлежности к клану должны быть исключительно редкими.
Размножение муравьиного царства
Сообщества сосновых соек, голых землекопов, напоминающих поведением насекомых, и кашалотов представляют собой эволюционные отклонения среди сообществ позвоночных, большинство которых функционирует на основе индивидуального распознавания. Однако анонимные сообщества муравьев и, вне всяких сомнений, небольшое количество видов муравьев, образующих огромные суперколонии, по-прежнему выделяются своей сложностью, эффективностью и размерами. Каким образом первоначально формируется идентичность колонии муравьев и как это получается, что аргентинские муравьи формируют и поддерживают идентичность в таких масштабах, что получают статус суперколонии?
Как правило, новое сообщество муравьев рождается из уже существующего. Процесс начинается, когда зрелая колония выращивает будущих цариц – крылатых самок, – которые вылетают из гнезда и спариваются в воздухе, иногда с несколькими крылатыми самцами из других колоний. Затем каждая царица опускается на землю и сама выкапывает маленькое «начальное» гнездо, для того чтобы вырастить первый из своих многочисленных расплодов, из которого появляются муравьи-рабочие. Рабочие становятся оплотом сообщества. Генетические и экологические факторы обусловливают выработку ими запаха, отличающегося от запаха всех остальных, в том числе «родной» колонии царицы, и формирование идентичности. Численность свиты растет из поколения в поколение до тех пор, пока колония не достигнет зрелости и размера, характерного для данного вида муравьев, и на этом этапе из части куколок появляются новые царицы и самцы, которые покидают гнездо, чтобы через год дать начало следующему поколению сообществ. Царица-основательница остается со своей колонией, которая существует, пока она жива. Это может быть действительно долгий период: четверть века у муравьев-листорезов. С кончиной царицы-основательницы рабочие впадают в депрессию и вскоре погибают. Даже если дать колонии всю пищу и пространство в мире, она не проживет дольше, чем ее царица.
Суперколонии аргентинских муравьев обязаны повороту истории тем, что их население постоянно растет: большая суперколония – это дом не одной, а миллионов цариц, потому что царицы никогда не улетают. Передвигаясь пешком между гнездовыми камерами, разбросанными по территории, они остаются в своем родном сообществе, чтобы отложить еще больше яиц, из которых появляются муравьи, которые тоже остаются в колонии. Год за годом суперколония расширяется и заселяет любой подходящий уголок или трещину.
До тех пор пока одинаковый запах производится во всех, зачастую довольно обширных владениях суперколонии, сообщество остается целым. Казалось бы, такого постоянства невозможно достичь, и все же мы можем представить метод автокоррекции, встроенный в систему. Предположим, у одной из многих цариц произошла мутация в гене, влияющем на маркер колонии. Любые другие генетические изменения, связанные с ее поведением или морфологией, не играют роли в ее признании колонией. Однако, если запах этой царицы больше не будет соответствовать идентичности муравьев вокруг нее, рабочие убьют ее до того, как она отложит яйца. Мутация исчезнет без следа. Результатом такой непрерывной очистки является приверженность муравьев общей идентичности не просто в одном гнезде, как у большинства видов муравьев, а на расстоянии в несколько сотен километров. С одинаковой идентичностью от одного конца до другого суперколонии достигают своего рода бессмертия. Вспомните о четырех калифорнийских колониях, которые являются теми же самыми сообществами, что оккупировали штат сто лет назад. И они не проявляют никаких признаков замедления роста, хотя иногда и возникают слухи об обратном[165].
Эту реальность трудно осознать, когда находишься в Калифорнии, где всюду кишат муравьи Большой колонии. Ряд биологов задается вопросом о том, действительно ли суперколония может быть одним сообществом. Не обходится и без перегибов: так, некоторые ученые предполагают, что, поскольку население суперколонии никогда не представляет собой сплошную массу на земле, то это и не сообщество вовсе, а скорее созвездие из множества сообществ. Однако такое неоднородное распределение муравьев больше связано с пригодностью среды обитания, чем с социальным поведением или идентичностью жителей. Например, муравьи избегают чрезмерно сухих участков. Но включите машину для поливки газонов в жаркий день – и два пятна (участки, занятые муравьями) без труда расширятся и сольются в один.
Если тех же экспертов настойчиво спросить, могут ли миллиарды этих муравьев представлять собой сообщество, то ученые, скорее всего, осторожно ответят, что муравьи действуют так, будто это одно сообщество, даже с их неоднородностью и существованием генетической изменчивости в разных участках в рамках суперколонии. Мой ответ: конечно же! Какой еще критерий нужен при определении, что считать сообществом, как не выбор самих членов сообщества в отношении того, кто должен там находиться, а кто – нет? До тех пор пока муравьи признают друг друга и отвергают чужаков, площадь занятого ими участка и разнообразие членов сообщества важны не больше, чем они имеют значение в таком государстве, как Соединенные Штаты, со всеми его этносами и политическими спорами.
У муравьев с задачей хорошо справляются простые маркеры. Когда энтомолог Джером Ховард переместил муравья-рабочего с одной стороны колонии листорезов на другую сторону на расстояние в несколько метров, муравьи на новом месте иногда останавливались, чтобы проверить вновь прибывшего. Возможно, население такого мегаполиса с множеством магистралей и боковых дорог не полностью перемешивается, так что от участка к участку накапливаются едва заметные различия в запахе – незначительные отличия национального флага. Тем не менее после секундного проявления слабого интереса новичку позволили беспрепятственно продолжать заниматься своим делом: к нему по-прежнему относились как к члену колонии.
Аргентинские муравьи, учитывая масштабы их колонии, кажутся потрясающе сплоченными. Этот биологический вид привлекает внимание к тому, каким образом индивидуумы могут оставаться членами сообщества, независимо от того, насколько мало они сотрудничают или взаимодействуют. Аргентинские муравьи прекрасно переносят океанские путешествия; именно так четыре суперколонии впервые прибыли из Аргентины в Соединенные Штаты. Почти так же успешно перемещаясь на наших самолетах, поездах и автомобилях, суперколонии проложили себе путь по всему миру и при этом сохранили свою идентичность, подобно тому как гавайцы сохраняют общую с жителями материковой части США принадлежность к государству. Большая колония мигрировала и захватила контроль над 3000 км европейского побережья и другими дальними уголками планеты, включая Гавайи. Тем временем другие суперколонии утвердились в таких местах, как Южная Африка, Япония и Новая Зеландия.
Общий вес муравьев в инвазивных колониях может достигать и превосходить, без преувеличений, вес кашалота, в связи с чем возникает вопрос о том, как они этого добились. Возможно, самое поразительное в трансконтинентальных сообществах то, что они намного крупнее сообществ аргентинских муравьев на их родине. Сообщества этого вида в Аргентине определенно маленькие: в лучшем случае шириной километр. Для муравьев это, конечно, удивительно, но по сравнению с калифорнийскими стандартами – ничего особенного. Это отличие кажется настолько радикальным, что можно было бы предположить, что в его основе должно находиться крупное эволюционное изменение. Полагаю, инопланетяне могли бы сделать такое же предположение в отношении людей, если бы сначала высадились на Земле 20 000 лет назад и обнаружили общества, состоящие из нескольких охотников-собирателей[166], а потом через много веков вернулись и увидели Китай с его миллиардным населением. Однако гораздо более простое объяснение для сверхбольших обществ современных людей и сообществ аргентинских муравьев заключается в том, что никаких серьезных трансформаций не требовалось: у обоих видов рост обществ стал неизбежным, когда сложились подходящие условия. Именно эта удивительная способность к бесконечному росту, без ограничений размера как такового, отличает суперколонии от сообществ других видов животных. Следовательно, даже несколько десятков аргентинских муравьев в партии растений – это суперколония (или по крайней мере часть одной из них). Способность сообществ бесконечно расти встречается действительно редко и является отличительной чертой всего нескольких видов муравьев, возможно, кланов кашалотов и людей.
За исключением их ненасытного стремления к росту, сообщества аргентинских муравьев не слишком отличаются от сообществ других видов муравьев. Они направляют свою агрессию на чужаков и не проявляют враждебности по отношению к сородичам из своей колонии, как и все муравьи. Более того, сообщества в Аргентине действуют таким же образом, как и огромные заморские колонии, за исключением того, что их рост подавляется из-за избытка опасных соседних колоний муравьев. Условием, которое спровоцировало взрывной рост суперколонии за границей, стало отсутствие конкуренции. Не было ничего, что могло бы остановить завоевание штата суперколониями, попавшими в Калифорнию, до тех пор пока их рост не приостановился, когда они встретились и стали воевать друг с другом.
В следующих главах я утверждаю, что людям точно так же не нужно было измениться каким-то кардинальным образом, чтобы маленькие доисторические союзы стали расти, как только представилась возможность. Все элементы, необходимые для достижения успеха империй, уже были «встроены» в мозг человека палеолита, вплоть до одержимости людей маркерами идентичности.


