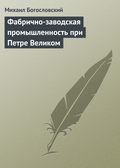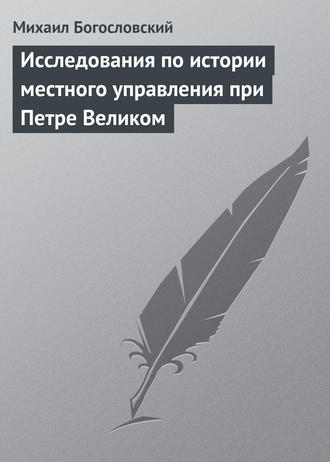
Михаил Богословский
Исследования по истории местного управления при Петре Великом
Избирательная коллегия, производя выборы на полицейские должности, брала на себя ответственность за избранных лиц. «А буде вышеписанный сотский и десятские по указу царского величества за выбором нашим отправлять во исполнительство не будут, – так заканчивается обыкновенно протокол избрания, – и великий государь указал бы нам жестокое наказанье». Протокол скреплялся подписями избирателей, за которых по безграмотности подписывался земский или церковный дьячок, а также подписью станового дворянина, который, давая свою подпись, также разделял ответственность за избранных лиц. В этом протоколе перечисляются обыкновенно те обязанности, для исполнения которых избирались сотские и десятские. На них возлагалось наблюдение за безопасностью в сотне. Им предписывалось смотреть, чтобы в их сотнях не находили себе убежища беглые и подозрительные люди, тати, разбойники, смертные убийцы, коренщики, ведуны, беглые драгуны и солдаты. В случае появления таких они должны были их ловить и отводить к становому. Если сотский и десятские получают известие о грабеже и разбое, они обязаны преследовать и ловить виновных со всяким усердием, не стесняясь границами сотни, уезда и даже губернии. Сотский и десятские должны были также отыскивать вора по следу и вынимать поличное. Этот наказ сельской полиции, как видим, очень напоминает собою старинные губные наказы, в которых на сотских и десятских, состоявших под начальством губных старост, возлагались такие же обязанности. В исполнении этих обязанностей по предупреждению и пресечению преступлений сельская полиция действовала довольно самостоятельно. Получив известие о появлении подозрительных людей или о совершившемся преступлении, сотский и десятские должны были тотчас же принимать меры к поимке без всяких распоряжений свыше. Но эти же чины были также и низшими служителями при становом дворянине и при ландратской канцелярии. Они караулили и конвоировали колодников, исполняли обязанности рассыльных и т. п.[178]
7. Деятельность ландратов в губернской канцелярии в 1715–1719 годах
Издавая указ 28 января 1715 года о разделении губерний на доли и превращая ландратов из постоянных членов губернского совета в правителей этих областных единиц, преобразователь, однако, не совсем отказался от идеи коллегиального управления губернией. Правда, большой постоянно действующий губернский совет ландратов под председательством губернатора с изданием этого указа прекратил свою деятельность; тем не менее губернатор не был оставлен распоряжаться губерниею один. Указ 28 января 1715 года предписывал: «Из ландратов всегда быть при губернаторах по два человека с переменою по месяцу или по два месяца». Таким образом, на место большого губернского совета ландратов стал теперь малый комитет, в котором должны были присутствовать по очереди по двое из ландратов. Но и большой совет не был уничтожен указом 28 января 1715 года окончательно. По этому указу в конце года все ландраты должны были «съезжаться к губернаторам со всеми правления своего ведомостьми к счету и для исправления дел всем вместе». Отменялось только постоянное действие ландратского совета, и он обращался в ежегодный временный ландратский съезд. Итак, вместо постоянного губернского ландратского совета указ 28 января 1715 года вводил два коллегиальных учреждения: постоянное губернское присутствие из двух очередных ландратов под председательством губернатора и съезд всех ландратов в конце каждого года. Этою мерою в значительной степени усложнялась прежняя простая схема губернской администрации.
Нам следует теперь посмотреть по уцелевшим практическим документам, насколько эти нормы указа 28 января 1715 года были осуществлены в действительности. Что касается очередного дежурства ландратов при губернаторе, то его можно считать вполне доказанным. Бумаги губернских канцелярий показывают ежедневное присутствие там ландратов. Эти дежурные ландраты называются «очередными» и «месячными», а самое их дежурство «ландратской чередой». Приговоры и указы губернской канцелярии подписываются губернатором и дежурными ландратами; иногда, впрочем, исходящие из губернской канцелярии бумаги, даже такие как доношение в Сенат, скрепляются только одним из дежурных ландратов. Скрепляя своею подписью приговоры, указы и доношения, дежурные ландраты разделяли с губернатором ответственность за действия губернии перед Сенатом. Одним из указов Сената было предписано Московской губернии прислать в Петербург дьяка Московской губернской канцелярии Тихменева. Губерния не исполнила этого указа. Тогда наложен был Сенатом штраф на губернатора в размере двухсот рублей и на каждого из двух месячных ландратов по пятидесяти рублей. В 1718 году в комиссии строения гаваней произведен был допрос московскому губернатору Нарышкину, вице-губернатору Ершову и месячным ландратам Д. Потемкину и Д. Камынину: «На гаванное строение с Московской губернии расположили они по 1 р. 7 алт. 4 д. с двора, итого 258 000 руб. И такое великое число для чего расположили собою без указу и не описывая о том к правительствующему Сенату и у приговора их, ландратов, закрепа есть ли?» Ландраты ответили, что приговор они подписали вместе с губернатором, но тотчас же после того уехали в свои доли и поэтому не знают, было ли доведено об этом приговоре до сведения Сената или нет[179].
Эта кратковременность ландратского дежурства при губернаторе вела к большим неудобствам в делопроизводстве, на которые указывала Сенату Московская губерния в 1716 году: месячные ландраты, отбыв свой месяц, уезжали в свои доли, как это имело место в приведенном выше случае, не дождавшись окончания дел, при них начатых. Ландраты, являвшиеся им на смену, заставая дело в середине его течения, должны были терять много времени на ознакомление с его началом. Губерния просила увеличить срок ландратского дежурства до одного года, указывая, что тогда дела будут начинаться и оканчиваться при одних и тех же ландратах[180]. К этому ходатайству она прибавляла еще просьбу увеличить число дежурных ландратов до шести, так как двое не могут справиться с тою массою дел, которая сосредоточивается в губернской канцелярии. Временно до сенатского указа в Московской губернии было уже установлено дежурство шести ландратов. Сенат не утвердил этого нововведения и предписал соблюдать указ 28 января 1715 года, но через два года должен был уступить и согласиться на увеличение в Москве присутствия ландратов до пяти человек[181].
Гораздо труднее решить вопрос, собирались ли на практике ландратские съезды «при окончании года» и насколько в этом отношении осуществился указ 28 января 1715 года. Ясных свидетельств, которые бы доказывали бесспорно регулярное существование таких ежегодных съездов, нам не пришлось встретить в памятниках делопроизводства губернии. Однако нельзя сказать, чтобы относящийся сюда параграф указа 28 января 1715 года сразу и совершенно стал мертвой буквой. Есть указания, что, по крайней мере, мысль о ландратских съездах не замирала некоторое время в губерниях. В 1715 году Троицкий Сергиев монастырь затеял тяжбу с одним из соседей по имению в Юрьев-Польском уезде. Дело сначала разбиралось у юрьевского ландрата М. Трусова, но монастырь остался решением ландрата недоволен, нашел, что он дружит и норовит противной стороне и на такую ландратскую «посяшку», т. е. потачку, принес жалобу московскому губернатору. Этот последний сначала было решил отправить в юрьевскую долю ландрихтера для розыска, как то и следовало по указу 28 января 1715 года в случае ландратских «прегрешений», но затем решение свое отменил и уполномоченному Троицкого монастыря «изволил сказать, что де он ландрихтеру в город Юрьев посылку отставил, потому что юрьевский ландрат М. Трусов, також и другие ландраты каждый из своей провинции с делами и со всеми своими правлениями будут к Москве в губернскую канцелярию в декабре ж месяце»[182]. Отсюда видно, что съезд московских ландратов в декабре 1715 года все-таки предполагался, и до него был отложен разбор дела Троицкого монастыря с соседними крестьянами. Неизвестно, состоялся ли этот съезд. По крайней мере, дело монастыря решено не было, и это дает право думать, что предположение губернатора о съезде едва ли осуществилось.
Иногда можно встретить в документах следы совещания губернатора с ландратами, но трудно сказать, были ли это именно те съезды, о которых говорил указ 28 января, или экстренные совещания, собираемые ad hoc для решения каких-либо чрезвычайных затруднительных дел. Такое совещание имело место в Казани в 1717 году. На нем участвовало пять ландратов из общего числа восьми, полагавшегося в Казанской губернии по отделении от нее Нижегородской[183]. Дело шло о применении в одном частном случае недавно изданного закона 23 марта 1714 года о единонаследии, вызывавшего вообще большие недоумения и затруднения на практике. Мнения на совещании разделились. Казанский вице-губернатор и двое ландратов стояли за распределение наследства между сонаследниками, предлагая свое толкование закона 23 марта 1714 года. Губернатор и трое других ландратов с этим толкованием не согласились и настаивали на том, чтобы обратиться за разъяснением в Сенат. В этом смысле и составлен был приговор. Мнения свои каждый из ландратов представлял письменно, один за другим, и так как мнения эти помечались датами, то можно проследить, что представление их тянулось в течение месяца – с половины февраля до половины марта[184]. Был ли это один из ежегодных ландратских съездов? Во всяком случае, он происходил не при окончании года в декабре, а в начале следующего года. Итак, прямых свидетельств об осуществлении указа 28 января 1715 года относительно ежегодных ландратских съездов мы пока не имеем. По косвенным соображениям мы можем заключать скорее, что указ этот не исполнялся или исполнялся не в той мере, на какую был рассчитан. Если съезды действительно происходили, они должны были оставить по себе следы в документах. Съезд, например, 44 ландратов Московской губернии был бы настолько внушительным явлением, что не мог проходить незамеченным. Другим соображением, говорящим в пользу того, что закон 28 января 1715 года не исполнялся, является, как увидим ниже, отвлечение ландратов от губернского центра, кроме их обычных дел в доле, различными посторонними возлагавшимися на них поручениями, так что для них не было времени являться еще на губернские съезды.
И самые отношения ландратов к губернатору сложились на практике совершенно не так, как их предполагал в своих указах преобразователь. В самом деле, указ 24 апреля 1713 года, учреждавший впервые самую должность, давал ландратам значение членов губернского совета, в котором губернатор был только председателем, и его отношение к ландратам формулировалось словами, что он «у них не яко властитель, но яко президент». И другой указ 28 января 1715 года, перенесший деятельность ландрата в долю, обеспечивал ему самостоятельное и независимое положение относительно губернатора. По этому указу ландрат являлся ответственным не перед губернатором, но перед съездом ландратов под председательством губернатора. Губернатору запрещалось вмешиваться в ландрат-ское управление в доле: «Губернаторам ни для каких сборов и дел от себя никуда в ландратское правление нарочных не посылать». Только в случае совершения ландратом преступления губернатор должен был командировать в долю ландрихтера «для розыску», т. е. для производства следствия. Но подсудным ландрат был не ландрихтеру и не губернатору, а тому же губернскому совету ландратов под председательством губернатора. Этот последний закон стремился таким образом сделать из ландрата областного правителя доли, вполне независимого от губернатора и подчиненного лишь исключительно губернскому ландратскому совету. На практике вышло совершенно иначе, и ландрат сделался правителем второстепенного подразделения губернии, подчиненным вполне губернатору. Характеризуя отношения московского губернатора Салтыкова к ландратам, московский вице-губернатор Ершов заявлял Сенату, что он, Салтыков, поступает, «яко властелински, а не яко президентски, делает, что хочет, не принимая товарищеского совета»[185]. Губернатор приказывает ландратам, как начальник подчиненным, и в таком тоне изображает свое отношение к ним. «Велел я им, ландратам, отправить дьячка в Петербург», – доносит Сенату смоленский вице-губернатор; «велел он, вице-губернатор нижегородский, в губернской канцелярии всякие губернские дела отправлять ландрату Ст. Кирееву»[186]. По указу 28 января 1715 года ландраты должны были присутствовать в губернской канцелярии поочередно, проводя там по месяцу и по два; но губернатор нарушает этот очередной порядок. Ландрат первой вологодской доли А. Курбатов доносил Сенату, что он «определен был вице-губернаторским приказом в Вологодскую губернскую канцелярию к его, великого государя, расправным и розыскным делам, также и к денежным сборам и был в той губернской канцелярии с того 1716 г. июля с 20-го числа по 2-ое июля 1717 г.». Сын умершего ландрата алексинской доли Г. Камынина рассказывал, что его покойный отец только числился в той доле, но на самом деле во все время своего ландратства «указом губернатора Салтыкова одержан был в Москве у губернских дел беспеременно». Другой ландрат, дмитровской доли, М. Арцыбашев жаловался Сенату, что он был «от доли своей отрешен и выслан губернатором не в очередь в Петербург». Наконец, мы встречаем случай, когда ландрат приносит на вице-губернатора жалобу в том, что тот не только отрешил его от управления долей, но и посадил под арест «за караул, безвинно, при губернской канцелярии»[187].
Одною из причин, расстраивавших ландратское управление в том виде, как оно было установлено указом 28 января 1715 года, было то, что на ландратов постоянно возлагались отдельные поручения, отвлекавшие их от их прямых обязанностей: и от управления долями, и от присутствия в губернском совете. Иногда ландрату дается то или другое специальное поручение в пределах губернии. Так, например, двоим из ландратов Московской губернии было поручено: одному, Левашову, – заведование Дворцовым приказом, а другому, Есипову, – «приход денежной казны всей губернии». Последний был сделан, таким образом, чем-то вроде губернского казначея. Находясь «безотлучно» у этих «губернских нужных дел», они, разумеется, уже не заглядывали в свои доли[188]. Но бывали случаи, когда ландратам поручались дела, выводившие их совсем за пределы губернии. Так, в 1717 году ландрату уржумской доли Казанской губернии Ждану Кудрявцеву «поведено было быть у отправления судов в морской поход в Астрахани и был он весь тот 1717 год в отлучке». Отлучки ландратов из губерний вызывала происходившая тогда постройка Кроншлота и Кронштадта. Доставка строительных материалов: леса и камня, необходимых для этих сооружений, а равным образом, и рабочего персонала была возложена на губернии и разверстана пропорционально количеству тяглых дворов в каждой. Для надзора за этой доставкой к месту назначения и командировались из губерний ландраты по очереди. Так, в 1717 году Московская губерния доносила Сенату: «Велено изготовить к гаваню с Московской губернии бревен всего 99 000, камня всего 13 735 сажень. А к приуготовлению того лесу и камня и для надсмотру над работными людьми из Московской губернии наряжены из ландрат первые по списку по очереди два человека»[189].
Чрезвычайным поручением, наиболее вредившим правильному ходу ландратского управления, была народная перепись 1715–1718 годов, так называемая ландратская, предпринятая вскоре после переписи 1710 года, результатами которой правительство осталось крайне недовольно. 10 декабря 1715 года, т. е. в тот же самый год, в который ландраты получили в управление доли, было им поведено «переписать дворы крестьянские и бо-быльские, и другие»[190]. Правительство предполагало, очевидно, что окончание этой переписи последует весьма скоро за ее началом, так как в том же указе предписывалось ландратам, окончив перепись, прислать немедленно переписные книги в Сенат, а самим не выезжать из своих долей, а ждать приезда туда особых правительственных ревизоров, которые будут назначены для проверки ландратской переписи. Однако эти ожидания не сбылись. Ревизорам не пришлось проверять этой переписи, так как она производилась ландратами крайне медленно и в иных долях не была окончена даже к тому времени, когда уже оканчивала свое существование самая ландратская должность. Затем она оказалась и ненужной, так как тяглый двор перестал быть податною единицею, уступив место «душе», и в 1719 году была предпринята новая перепись населения – поголовная. Эта последняя уже и проверялась особыми ревизорами, отчего и получила название «ревизии», сохранившееся и для всех последующих народных переписей до половины XIX века.
Было немало причин такой медленности в исполнении этого экстраординарного дела, порученного ландратам. Одного ландрата «одерживал» губернатор в течение целого года в губернской канцелярии, не отпуская его в долю. Другой был отвлечен от всех своих дел чрезвычайными приготовлениями «для шествия его величества, государыни царицы и других персон» через его долю и несколько месяцев должен был, ожидая этого шествия, наблюдать за сбором на подставах подвод и доставкой съестных и питейных припасов, отчего «переписное дело в те месяцы останавливалось». Ландраты Киевской губернии замедлили переписью, потому что почти все оказались «забранными» из своих долей в Курск к командированному туда «для розыска» капитану Головкину «и за тем взятьем книг своих не окончили». Само правительство замедляло иногда перепись, не доставляя ландратам книг предыдущих переписей, с которыми переписчикам вменялось в обязанность сравнивать и сверять новые полученные ими результаты и которые должны были служить базисом и отправным пунктом для новой переписи. Малочисленность служебного персонала, находившегося в распоряжении ландратов, мешала со своей стороны быстроте хода переписи, и на «малолюдство» подьячих они указывают, как на самую общую причину своей медленности. Этот недостаток личного состава администрации доли был тем более чувствителен, что производство переписи осложнялось иного рода действиями. При переписи ландратам предписывалось сыскивать беглых крестьян и водворять их к их законным владельцам, и такой сыск и возвращение не могли, конечно, не задерживать самой переписи, тем более что число беглых оказывалось иногда громадным. Средним числом считалось в доле, как мы уже знаем, 5536 дворов. Между тем ландрат можайской доли Дохтуров сыскал при переписи целых 494 беглых двора и возвратил владельцам 4853 человека обоего пола. «И за такою отдачею беглых крестьян, – доносил этот ландрат, – тех переписных книг отправить в скорых числах было невозможно». Наконец, и само население оказывало нередко сопротивление переписи. Как известно, одним из моментов переписи была подача самим населением так называемых «сказок», т. е. написанных по установленной форме показаний о дворах и душах в каждом имении. Получив эти сказки, переписчик проверял затем наличность населения и по проверке вносил их в переписную книгу. «Неподача» сказок землевладельцами и служила, как писали ландраты, «к немалому продолжению переписи»[191].