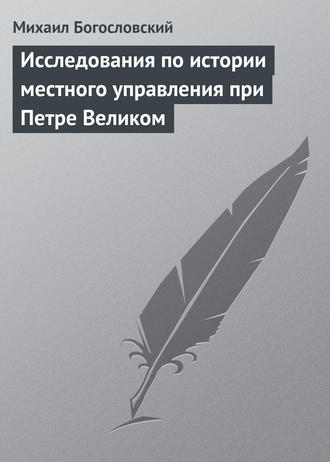
Михаил Богословский
Исследования по истории местного управления при Петре Великом
Из первоначального состава ландраты выбывали, и состав их обновлялся по различным причинам. Несколько из назначенных в 1714 году ландратов умерли. В Казанской губернии в том же самом 1714 году умер ландрат Ф. Есипов; в следующем, 1715 году умер ландрат Нижегородской губернии Ив. Молоствов; в 1716 году умерло двое ландратов в Архангелогородской губернии; в 1717 году – один в Петербургской[74]. Несколько принуждено было выйти в отставку по болезни, между прочими один из ландратов Московской губернии потому, что оказался «в исступлении ума»[75]. Иных увольняли от ландратской должности потому, что они получали другие назначения, бывали «отлучены к другим делам»[76]. Наконец, состав ландратов обновлялся не только потому, что из него выбывали отдельные лица, но также и потому, что в некоторых губерниях увеличивались штаты ландратуры. Так, в 1715 году число ландратов Петербургской губернии было увеличено одним, которому притом предписывалось «быть особливо в ландратах в с. – петербургской губернской канцелярии». В 1714 году вскоре после учреждения Нижегородской губернии скончался только что назначенный в нее губернатор А. П. Измайлов. Тогда к прежним ландратам был присоединен еще один, кн. Ст. И. Путятин, который и был сделан председателем ландратского совета. Реформа ландратуры в 1715 году, о которой будет речь ниже, создавшая отдельные ландратскиё доли, вызвала в некоторых губерниях необходимость увеличить число ландратов, так как это последнее превышалось там числом вновь организованных долей, и состоявших по штату 1714 года ландратов не хватало на все доли. Так, в Нижегородскую губернию было первоначально назначено 8 ландратов; девятый, назначенный летом 1714 года, исполнял обязанности губернатора. Между тем в 1715 году губерния была разделена на 12 долей, так что пришлось добавить четырех ландратов. В Московскую губернию, где первоначальный комплект ландратов был 13, пришлось их прибавить еще 31, так как эта огромная и густо населенная губерния разделилась на 44 доли[77].
Каким же образом совершались назначения ландратов во всех этих случаях? Можно положительно сказать, что ни в одном из них не было никаких дворянских выборов, и все ландраты, занявшие эту должность после февраля 1714 года, были назначаемы правительственною властью, а не избраны местным обществом. В одном случае это назначение состоялось по именному высочайшему указу, объявленному Сенату доношением одного из его членов, кн. Долгорукого, это именно назначение ландрата Каблукова в Петербургскую губернию в 1715 году[78]. В большинстве случаев ландраты назначались приговорами Сената[79]; такой порядок и следует считать нормальным. Но нередко встречаются случаи назначения в ландраты самим же губернатором, представлявшим затем такое назначенное им лицо на утверждение Сената, которое всегда и давалось. Так бывало обыкновенно в случае освобождения ландратского места вследствие болезни или смерти ландрата, и такой порядок мотивировался неудобством прерывать течение дел долговременной перепиской с Сенатом о назначении нового ландрата. Так, в 1714 году казанский губернатор доносил Сенату, что «из определенных ландратов из указного числа из восьми человек стольники: Леонтий Хрущов за старостью и за ножною болезнью лежит болен в Свияжске и в канцелярию ходить ему немочно; Федор Есипов в том 714 г. умре». На их места он и назначил сам двух ландратов впредь до сенатского указа[80]. Точно так же архангелогородский вице-губернатор доносил Сенату в 1717 году, что ландрат А. Ф. Уваров «за болезнью по осмотру лекарскому учинен свободен», а до указа на его, Уварова, место определен из подполковников П. Ф. Лыков. Лыков вскоре после назначения, так и не дождавшись утверждения Сената, умер. «И на его, умершого ландрата Лыкова, место, – продолжает вице-губернатор, – определил я, нижайший, с товарищи до присланного из канцелярии правительствующего Сената указа быть ландратом же князю П. М. Вадбольскому. А ежель до присланного указу и без приказу вас, сиятельных господ, ландрата в галицкую долю не определить, то во всяких настоящих и в переписных делах будет остановка» – так заканчивает вице-губернатор доношение, оправдывая свой образ действий[81]. Таким же губернаторским распоряжением были в 1716 году определены в Архангелогородской губернии ландраты А. К. Курбатов и кн. М. Ст. Вадбольский на место умерших кн. Н. И. Дябринского и Д. Ф. Черевина, а в 1717 году в Петербургской Н. Т. Квашнин-Самарин на место умершего Рудина[82]. В одном случае Сенат, даже как бы отрекаясь от принадлежавшего ему права, предоставил губернатору самому избрать и назначить ландратов. В марте 1717 года, когда Киевская губерния довела до сведения Сената, что в ней недостает до положенного комплекта ландратов трех человек, Сенат приказал: «В Киевской губернии в ландраты и в комиссары выбрать людей добрых киевскому губернатору по своему рассмотрению», сообщив затем Сенату имена назначенных[83]. Итак, и после общего назначения ландратов в 1714 году в отдельных случаях никогда мы не встречаем никаких выборов ландратов местным дворянством. Они назначаются или верховной властью, или приговором Сената, или губернатором с утверждения Сената.
Решение вопроса о том, из какого общественного класса назначались ландраты, также подтверждает нам, что ни о каких ландратских выборах не могло быть и речи. Первый указ 24 апреля 1713 года умалчивает о том, кого именно надо в губерниях «учинить» ландратами. Из повеления 20 января 1714 года, предписывавшего избирать ландратов «всеми дворяны», можно было бы заключить, что и избираемые будут также из «всех дворян», т. е. вообще из уездного дворянства, подобно тому как это было с прежними губными старостами и должно было быть с выборными воеводскими товарищами 1702 года. На практике, однако, вышло иначе. Уже в первые кандидатские списки, представленные губернаторами в течение 1713 года, были внесены служилые люди тех чинов, которые и прежде играли большую роль в центральной и местной администрации, управляя приказами и сидя воеводами в городах, и которые в XVIII веке получили общее название «царедворцев». То был контингент высшего дворянства, дробившийся на четыре «московских» чина: стольников, стряпчих, дворян московских и жильцов[84]. Со времени введения регулярных полков и разделения России на губернии эта старинная московская дворянская гвардия также испытала на себе перемены. Часть ее вошла в качестве офицеров в регулярные полки, другая часть, благодаря усложнению местной администрации, вызвавшему потребность в гораздо большем персонале в области, чем было прежде, была распределена по губерниям и отдана в распоряжение губернских начальств. Таким образом, восемь губерний Петра не только оттянули от центральной кассы стекавшиеся туда денежные ресурсы, распределяя их между восемью областными кассами, но точно так же отвлекали от Москвы и распределяли по восьми губернским центрам и высший класс дворянства, представлявший из себя личный запас для административной машины. При распределении всего группировавшегося прежде в Москве состава царедворцев по губерниям принималась во внимание связь их с губерниями по землевладению. Царедворец посылался именно в ту губернию, в которой находились его поместья и вотчины. По крайней мере, один документ перечисляет в виде исключения царедворцев, написанных по списку Московской губернии, за которыми, однако, поместий и вотчин в этой губернии не было «сыскано»[85]. Таким образом, в каждом губернском центре образовался известный запас царедворцев, которым губернатор постоянно и пользовался, частью для замещения открывающихся должностей в губернской администрации, частью для отдельных поручений. Из них обыкновенно назначались обер-коменданты и коменданты в городах; они отправлялись комиссарами в те полки, содержание которых было возложено на губернию. Им давались также и временные поручения: одного посылали наблюдать за доставкой «тялочных (лодочных) припасов», другому поручалось произвести какую-нибудь понадобившуюся перепись, на третьего возлагался разбор недоразумений между «большеплатежными и малоплатежными» членами купечества в каком-либо городе и т. п. Из этих-то царедворцев и брались ландраты, как при общем их назначении, так и затем при дополнительных. Так, из 13 ландратов, назначенных в 1714 году в Московскую губернию, 12 имели чин стольника и 1 был жилец; из 8 ландратов Киевской губернии один был комнатным стольником, остальные стольниками; из 10 ландратов Архангелогородской – было 2 стольника, 4 стряпчих и 4 жильца[86]. Назначать царедворцев в ландраты было, очевидно, обязательно: Казанская губерния потому именно не представила к сентябрю 1713 года кандидатских списков и доносила о невозможности выбрать ландратов, что, как писали оттуда, «царедворцы той губернии были на службе в походе с губернатором»[87]. Назначенные в 1714 году ландраты были люди уже немолодого возраста, по большей части прошедшие очень разнообразную карьеру «царедворца», побывавшие в придворной, военной и гражданской службе. Вот несколько примеров ландратских биографий. Ландрат Мякинин начал службу в 1688 году, когда он 15-ти лет от роду был написан в царицыны стольники. Придя в возраст, он из ведомства Мастерской палаты, управлявшей придворным штатом царицы, был передан в Разряд, откуда посылался в походы под Азов и под Нарву, переменив, таким образом, спокойную придворную должность на тяжелую службу боевого офицера. Возвратясь благополучно из нарвского похода, он получил поручение по дипломатической части и был из Посольского приказа назначен провожать до границы уезжавшего польского посла. Затем его не раз командировали по различным делам гражданского управления: поручали произвести перепись постоялых дворов в Москве и уезде, назначали неоднократно членом учреждавшихся по разным отдельным случаям специальных комиссий. По учреждении Петербургской губернии губернская канцелярия послала его сначала к приему «работных людей», т. е. поручила ему заведовать набором работников, поставка которых лежала на населении особою повинностью, а затем, когда он это поручение исполнил, назначила его «к управлению подвод» для шествия царевны Наталии Алексеевны. Прослужив некоторое время опять в военной службе, он попал в морское ведомство и был определен к «корабельному строению» в качестве надзирателя за рабочими и заведующего раздачей провианта. С этой последней должности он получил назначение в ландраты[88]. Другой ландрат Н. Т. Квашнин-Самарин начал службу жильцом в 1700 году в адъютантах при боярине князе И. Ю. Трубецком, с которым участвовал в нарвском сражении. Он побывал затем во многих битвах, между прочим при взятии Канцев, и с кратковременными отпусками домой служил попеременно в нескольких полках до тех пор, пока в 1708 году «за переломкою ноги» не был отставлен от полковой службы. Года три его не беспокоили, он сидел дома, леча свою ногу, но уже в 1711 году он назначен был «к делам», т. е. в штатскую службу, а именно: был определен «к пропуску дубовых лесов и тялок, и буеров» из Вышнего Волочка в Новгород и Ладогу. Потом он получал какие-то командировки из петербургской губернской канцелярии в Смоленск и, наконец, был назначен ландратом Петербургской губернии[89]. Карьера третьего ландрата Чирикова была несколько проще. Пройдя обычным порядком все чины с жильца до стольника, он затем был послан воеводою в захолустное местечко Каменный Затон, после чего и назначен старооскольским ландратом[90]. Большая половина царедворцев, назначенных в ландраты в Московскую губернию при увеличении штата ее ландратов в 1715 году, были ранее обер-комендантами в той же губернии[91].
Итак, бесспорным можно считать тот факт, что в ландраты назначались обыкновенно царедворцы из того запаса их, который состоял в каждой губернии. А раз это так, не могло быть никаких ландратских выборов. Какой смысл, в самом деле, могли бы иметь эти последние, если круг кандидатов для избрания был так мал и ограничен, что его едва могло хватать для замещения определенного на губернию комплекта ландратов? Действительно, царедворцев не хватало при той напряженной деятельности, которую задавала губерниям реформа, и нередко можно встретить жалобы губерний на «умаление царедворцев» и неисполнение той или другой возложенной на губернию обязанности вследствие того, что «от дел свободных царедворцев в губернии нет». Этот недостаток служебного персонала – одна из характерных сторон петровской реформы, и благодаря ему при назначении ландратов устранялась совершенно возможность выборов: выбирать было не из кого, когда приходилось довольствоваться скудным запасом, имевшимся в наличности. С трудом находили губернаторы то количество царедворцев, которое требовалось для ландратских должностей, отвлекая их от разных других порученных им дел. В некоторых губерниях их все-таки недостало, и пришлось прибегнуть к назначению ландратов из городового дворянства. Это было в двух: в Смоленской, где из восьми ландратов четверо были стольники, а другие четверо принадлежали к простой «смоленской шляхте», как тогда называлось дворянство областей, присоединенных от Польши при царе Алексее; и в Казанской, где из 14 ландратов 1714 года шестеро были «казанцы», т. е. служили по городу Казани[92]. Отдельные случаи назначения не из царедворцев встречаются и потом при частных назначениях опять-таки по недостатку царедворцев. Так, на место казанского ландрата Л. Хрущова, отставленного по болезни, был назначен губернатором до указа подполковник Федор Нармацкий, которого, как оказалось, «по справке с разрядным столом в московских чинех с царедворцы не написано»[93]. Встречается даже случай назначения в ландраты из простых дьяков губернской канцелярии. В Нижегородской губернии четырьмя дворцовыми волостями: Толоконцевской, Дрюковской, Керженской и Хохломской управлял дьяк С. Нестеров. В 1715 году, когда губерния делилась на доли, старосты и крестьяне этих волостей подали в Сенат челобитную, в которой просили не назначать к ним другого правителя, кроме Нестерова, который пришелся им по душе, потому что оказался человек добрый и не чинил, как свидетельствовали челобитчики, никаких обид и разорения. Ходатайство это было уважено: из четырех волостей было предписано составить особую долю, и С. Нестеров был назначен в нее ландратом[94]. Это был, кажется, единственный случай назначения ландрата по ходатайству местного общества, притом общества крестьянского. Приведенные случаи показывают, что и при замещении ландратских должностей лицами не из московских чинов выборы точно так же не имели места.
Впрочем, вскоре после 1714 года ландратская должность перестала быть выборною и по закону. В 1716 году Петр предписал Сенату назначать в ландраты офицеров, получивших отставку за старостью или за ранами, особенно тех из них, которые не имеют за собою никаких населенных земель. Такое назначение получало, следовательно, характер пенсии в награду за военную службу, «ибо не без греха есть в том, – признавался царь, – что такие, которые много служили, те забыты и скитаются, а которые нигде не служили – тунеядцы – те многие по прихотям губернаторским в губерниях взысканы чинами и получают жалованье довольное». По этому указу ландраты уже не только не должны были избираться местным дворянством, но даже могли совсем не принадлежать к местному землевладельческому классу, так как указ рекомендовал преимущественно назначать в ландраты таких офицеров, у которых не было земельной собственности[95]. В нем совершенно игнорировалось таким образом предыдущее, не исполнявшееся на практике повеление 20 января 1714 года о выборах в ландраты местными дворянскими обществами. В свою очередь, указ 1716 года находил себе практическое осуществление, и мы встречаем несколько назначений ландратов из отставных офицеров по челобитным, подававшимся этими последними. В 1717 году в Сенат подал челобитную капитан Лукьян Мясоедов, который, объяснив, что он за старостью от полковой службы отставлен, указывал, что в Азовской губернии сидит другой год в Шацке ландратом неслужащий (т. е. не бывший в военной службе) Ив. К. Мякинин, просился на его место в ландраты. В том же году по такому же челобитью был назначен ландратом в Московскую губернию из отставных офицеров майор кн. Вяземский. В следующем году кроме двух случаев, указанных уже г. Мрочек-Дроздовским, в Сенат поступило еще два ходатайства в таком же роде. Майор ярославского полка кн. М. Мещерский, перечислив свои прежние службы с 1700 года, указывал, что ему за ранами и за увечьем ехать в Сибирскую губернию, куда его было назначали, за дальностью пути невозможно, и просил назначить его ландратом в Симбирск на место Д. М. Татищева, который «нигде не служивал в нынешних походах». Князь ссылался на то, что за ним ни поместий, ни вотчин ни в которых городах нет, так как он был «кадет», и все отцовские именья по указу о единонаследии перешли к старшему брату. Другой претендент на ландратство был отставной капитан псковского драгунского полка К. Е. Чернышев, участвовавший «во многих свейских походах» и потерявший левую ногу при осаде Дерпта. Он просился на место мещовского ландрата И. А. Яковлева на том основании, что он, Яковлев, в армии нигде не бывал. Замечательно, что все эти просьбы Сенатом были уважены, и прежние ландраты, места которых стремились занять просители, были смещены, хотя ни из чего не видно, чтобы Сенат мог быть недоволен их деятельностью в качестве ландратов.[96]







