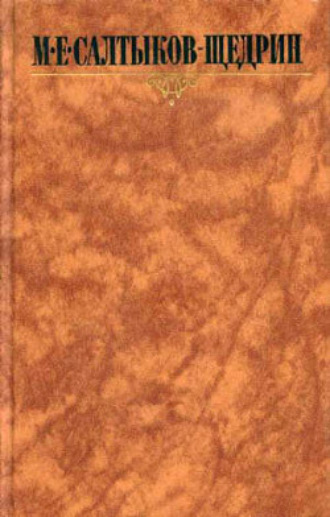
Михаил Салтыков-Щедрин
Благонамеренные речи
Как по морю по Хвалынскому
Выплывала лебедь белая —
раздается в моих ушах…
Ну, скажите на милость, зачем тут «калегварды»? что они могут тут поделать, несмотря на всю свою крупитчатость? Вот кабы Дерунову, Осипу Иванычу, годов сорок с плеч долой – это точно! Можно было бы залюбоваться на такую парочку!
– Ну-с, господа «калегварды», о чем лясы точите? – между тем фамильярно обратился к присутствующим Дерунов.
– Да вот, Осип Иваныч, хотим вам на Марью Потапьевну пожаловаться! никакого хорошего разговору не допускает! сразу так оборвет – хоть на Кавказ переводись, – ответил один юный корнет, с самым легким признаком усов, совсем-совсем херувим.
– Стало быть, перепустили маленько. А вы, господа, не всё зараз. Посрамословьте малость, да и на завтра что-нибудь оставьте! Дней-то ведь впереди много у бога!
– Да мы и то крошечку… об Шнейдерше чуть-чуть вспомнили!
– Знаю я вашу «крошечку». Взглянуть на вас – уж так-то вы молоды, так-то молоды! Одень любого в сарафан – от девки не отличишь! А как начнете говорить – кажется, и габвахта ваша, и та от ваших слов со стыда сгореть должна!
Общий смех.
– Вот я и привел нарочно писателя: авось, мол, он вас остепенит. Я уж Иван Иваныча (Зачатиевского) к ним не однажды в компанию припускал – для степенности, значит, – а они, не будь просты, возьмут да и откомандируют его в кондитерскую за конфектами!
Сказав это, Осип Иваныч тоже взял стул, придвинул его к кружку и сел верхом.
– Ну, что же притихли! – прикрикнул он, – без меня небось словно мельница без мелева, а пришел – языки прикусили! Сказывайте, об чем без меня срамословили?
– Да что при вас… без вас свободнее! – отозвался кто-то, и все вдруг смолкло.
Действительно, с нашим приходом болтовня словно оборвалась; «калегварды» переглядывались, обдергивались и гремели оружием; штатский «калегвард» несколько раз обеими руками брался за тулью шляпы и шевелил губами, порываясь что-то сказать, но ничего не выходило; Марья Потапьевна тоже молчала; да, вероятно, она и вообще не была разговорчива, а более отличалась по части мления.
– Ну, батюшка, это вы страху на них нагнали! – обратился ко мне Дерунов, – думают, вот в смешном виде представит! Ах, господа, господа! а еще под хивинца хотите идти! А я, Машенька, по приказанию вашему, к французу ходил. Обнатурил меня в лучшем виде и бороду духами напрыскал!
Марья Потапьевна лениво вскинула глазами на Осипа Иваныча; из рядов «калегвардов» послышалось несколько панегирических восклицаний.
– Скажите хоть вы что-нибудь! – вдруг обратилась ко мне Марья Потапьевна.
Обращение это застало меня совершенно впрасплох. Вообще я робок с дамами; в одной комнате быть с ними – могу, но разговаривать опасаюсь. Все кажется, что вот-вот она спросит что-нибудь такое совсем неожиданное, на что я ни под каким видом ответить не смогу. Вот «калегвард» – тот ответит; тот, напротив, при мужчине совестится, а дама никогда не застанет его врасплох. И будут они вместе разговаривать долго и без умолку, будут смеяться и – кто знает – будут, может быть, и понимать друг друга!
– Вы ко мне?.. Но ведь я… право, со мной не случалось ничего такого… – бормотал я сконфуженно…
И в то время мне думалось: а ну, как она скажет: "какой вы, однако ж, невежа!" Литератор, в некотором роде служитель слова – и ничего не умеет рассказать! вероятно ли это?
К счастию, меня озарила внезапная мысль. Я вспомнил, что когда-то в детстве я читал рассказ под названием: "Происшествие в Абруццских горах"; сверх того, я вспомнил еще, что когда наши русские Александры Дюма-фисы желают очаровывать дам (дамы – их специальность), то всегда рассказывают им это самое "Происшествие в Абруццских горах", и всегда выходит прекрасно.
"А что, не пройтись ли и мне насчет "Происшествия в Абруццских горах"? – пришло мне на ум. – Правда, я там никогда не бывал, но ведь и они тоже, наверное, не бывали… Следственно…"
Я наскоро припомнил басню рассказа, читанного мною в детстве, и в то же время озаботился позаимствоваться некоторыми подробностями из оперы «Фра-Диаволо», для соблюдения couleur locale.[27]
– Позвольте! – воскликнул я, не откладывая дела в долгий ящик, – есть у меня одна вещица: "Происшествие в Абруццских горах"… Происшествие это случилось со мной лично, и если угодно, я охотно расскажу вам его.
Предложение мое встретило радушный прием. Марья Потапьевна томно улыбнулась и даже, оставив горизонтальное положение на кушетке, повернулась в мою сторону; «калегварды» переглянулись друг с другом, как бы говоря: nous allons rire.[28]
– Итак, – начал я, – я обещал вам, милая Марья Потапьевна, рассказать случай из моей собственной жизни, случай, который в свое время произвел на меня громадное впечатление. Вот он:
ПРОИСШЕСТВИЕ В АБРУЦЦСКИХ ГОРАХ
(Посвящается русским беллетристам, очаровывающим русских дам рассказами из собственной жизни)
В 1848 году путешествовали мы с известным адвокатом Евгением Легкомысленным (для чего я привлек к моему рассказу адвоката Легкомысленного – этого я и теперь объяснить себе не могу; ежели для правдоподобия, то ведь в 1848 году и адвокатов, в нынешнем значении этого слова, не существовало!!) по Италии, и, как сейчас помню, жили мы в Неаполе, волочились за миловидными неаполитанками, ели frutti di mare[29] и пили una fiasca di vino.[30] Вот только однажды говорит мне Легкомысленный:
– А не съездить ли нам в Абруццские горы?
– С какой стати в Абруццские горы загорелось? – спрашиваю я.
– А там, говорит, разбойники!
Взглянул я, знаете, на Легкомысленного, а он так и горит храбростью. Сначала меня это озадачило: "Ведь разбойники-то, думаю, убить могут!" – однако вижу, что товарищ мой кипятится, ну, и я как будто почувствовал угрызение совести.
– Идет, – говорю, – едем!
Ну-с, только едем мы с Легкомысленным, а в Неаполе между тем нас предупредили, что разбойники всего чаще появляются под видом мирных пастухов, а потом уже оказываются разбойниками. Хорошо. Взяли мы с собой запас frutti di mare и una fiasca di vino, едем в коляске и калякаем.
– А знаешь ли, – говорит Легкомысленный, – я понимаю поступок гимназиста Полозова!
– Что ж тут понимать-то?
– Нет, как хочешь, а нанять тройку и без всякой причины убить ямщика – тут есть своего рода дикая поэзия! я за себя не ручаюсь… может быть, и я сделал бы то же самое!
– Наплевать мне на твою поэзию, а ты бы вот об чем подумал: Абруццские горы близко, страшные-то разговоры оставить бы надо!
– Помилуй! – говорит. – Да я затем и веду страшные разговоры, чтоб падший дух в себе подкрепить! Но знаешь, что иногда приходит мне на мысль? – прибавил он печально, – что в этих горах, в виду этой суровой природы, мне суждено испустить многомятежный мой дух!
Ладно. Между этими разговорами приезжаем на станцию. "Тут, – говорят нам, – коляску оставить нужно, а придется вам ехать на ослах!" Что ж, на ослах так на ослах! – сели, поехали.
Отъехали мы верст десять – и вдруг гроза. Ветер; снег откуда-то взялся; небо черное, воздух черный и молнии, совсем не такие, как у нас, а толстые-претолстые. Мы к проводникам: "Долго ли, мол, этак будет?" – не понимают. А сами между тем по-своему что-то лопочут да посвистывают.
– Молись! – кричит мне Легкомысленный.
И вдруг, при этом его слове, показался в стороне огонек. Смотрим – хижина, и на пороге крыльца бедные пастухи с факелами в руках.
– Помнишь, что нам в Неаполе о пастухах говорили? – шепнул мне на ухо Легкомысленный.
Признаюсь откровенно, в эту минуту я именно только об этом и помнил. Но делать было нечего: пришлось сойти с ослов и воспользоваться гостеприимством в разбойничьем приюте. Первое, что поразило нас при входе в хижину, – это чистота, почти запустелость, царствовавшая в ней. Ясное дело, что хозяева, имея постоянный промысел на большой дороге, не нуждались в частом посещении этого приюта. Затем, на стенах было развешано несколько ружей, которые тоже не предвещали ничего доброго.
– Видишь? – спросил я шепотом Легкомысленного. Но он, в ответ, только стучал зубами.
Не успели мы снять с себя верхнее платье и расположиться, как нам принесли овечьего сыру, козьего молока и горячих лепешек. Но таких вкусных лепешек, милая Марья Потапьевна, я ни прежде, ни после – никогда не едал! А шельмы пастухи и прислуживают нам и между тем всё что-то по-своему лопочут.
Поели, надо ложиться спать. Я запер дверь на крючок и, по рассеянности, совершенно машинально потушил свечку. Представьте себе мой ужас! – ни у меня, ни у Легкомысленного ни единой спички! Очутиться среди непроглядной тьмы и при этом слышать, как товарищ, без малейшего перерыва, стучит зубами! Согласитесь, что такое положение вовсе не благоприятно для "покойного сна"…
Надо вам сказать, милая Марья Потапьевна, что никто никогда в целом мире не умел так стучать зубами, как стучал адвокат Легкомысленный. Слушая его, я иногда переносился мыслью в Испанию и начинал верить в существование кастаньет. Во всяком случае, этот стук до того раздражил мои возбужденные нервы, что я, несмотря на все страдания, не мог ни на минуту уснуть.
В полночь мы совершенно явственно услышали шорох…
– Слышишь? – полушепотом спросил меня Легкомысленный, перестав стучать зубами.
– Слышу, – ответил я.
– Я полагаю, что теперь самое время выстрелить из револьвера!
– А я так думаю, что покуда мы с тобой разговариваем, разбойники давно уж догадались и спрятались. Будем же молчать и ожидать.
И действительно: едва мы умолкли, как шорох прекратился.
Через полчаса он, однако ж, возобновился с новою силой.
– Слышишь? – вновь спросил меня Легкомысленный.
– Стреляй! – отвечал я решительно.
– Но я боюсь стрелять!
– И все-таки стреляй, потому что ты адвокат. В случае чего, ты можешь целый роман выдумать, сказать, например, что на тебя напала толпа разбойников и ты находился в состоянии самозащиты; а я сказать этого не могу, потому что лгать не привык.
Не успел я высказать всего этого, как раздался выстрел. И в то же время два вопля поразили мой слух: один раздирающий, похожий на визг, другой – в котором я узнал искаженный голос моего друга.
– Легкомысленный! ты убит или ты убил? – воскликнул я, пораженный ужасом.
Но прежде, нежели я получил ответ, снаружи послышались голоса. Проводники, пастухи – все это всполошилось и стучалось к нам в дверь. Разумеется, я уперся и не отпирал, но дюжие молодцы в одну минуту высадили дверь, и без того чуть державшуюся на ржавых петлях. И что же представилось нашим взорам при свете факелов?! Во-первых, на полу простерта была простреленная насквозь кошка, и, во-вторых, на лавке лежал в глубоком обмороке мой друг. Разумеется, мы прежде всего употребили энергические усилия, чтоб возвратить Легкомысленного к сознанию, а остальное время ночи посвятили разъяснению недоразумений. Оказалось, что наши хозяева совсем не разбойники, а действительно добродушные пастухи, которые на другой день опять накормили нас сыром и лепешками и даже напутствовали своими благословениями.
На этот раз Легкомысленный спасся. Но предчувствие не обмануло его. Не успели мы сделать еще двух переходов, как на него напали три голодные зайца и в наших глазах растерзали на клочки! Бедный друг! с какою грустью он предсказывал себе смерть в этих негостеприимных горах! И как он хотел жить!
Хотите верьте, хотите не верьте этой истории, милая Марья Потапьевна, но вы видите пред собою не только очевидца, но и участника ее.
Конец.
Я кончил, но, к удивлению, история моя не произвела никакого эффекта. Очевидно, я адресовался с нею не туда, куда следует. «Калегварды» переглядывались. Марья Потапьевна как-то вяло проговорила:
– Я думала, что вы смешное что-нибудь расскажете, а вы, напротив, печальное…
А Осип Иваныч сказал:
– Слышал я что-то; один купец у нас сказывал, что с ним под Корчевой на постоялом такое же дело приключилось…
Затем все вдруг зевнули.
– А что, господа «калегварды»! в столовой закуска-то зачем же нибудь да поставлена! Ходим! – провозгласил Осип Иваныч.
Действительно, это был самый лучший и, по-видимому, даже давно желанный исход из затруднения, в котором неожиданно очутилась веселая компания. Оружие загремело, стулья задвигались, и мы все, вслед за поднявшеюся Марьей Потапьевной, направились в столовую.
В столовой всем стало как-то поваднее. «Калегварды» выпили по две рюмки водки и затем, по мере закусывания, поглощали соответствующее количество хересу и других напитков. Разговор сделался шумным; предметом его служила Жюдик. Некоторые хвалили; один «калегвард» даже стал в позу и спел "la Chatouilleuse".[31] Другие, напротив того, порицали, находя, что Жюдик слишком добродетельна и что, например, Шнейдерша…
– Черт ли мне в ее добродетели! – восклицал один из порицателей, – если я на добродетель хочу любоваться, я, конечно, в Буфф не пойду!
– Ты не понимаешь, душа моя! – возражал один из хвалителей, – это только так кажется, что она добродетельна, а в сущности – c'est une coquine accomplie![32] Вслушайся, например, как она поет:
Assez!
Finissez!
Monsieur! vous me faites mal! 3 —[33]
ведь она произносит это, как будто она совсем-совсем невинная, а вглядись-ка в нее поближе…
– Elle est tellement innocenle
Qu'elle ne comprend presque rien![34]
запел штатский «калегвард».
– То-то вот и есть! – подхватил панегирист Жюдик, – "qu'elle ne comprend presque rien!" – это очень тонко, душа моя!
– Оченно хорошо она это представляет, – подтвердила и Марья Потапьевна.
– Хорошо-то хорошо, – подался порицатель, – а все-таки… Помните, Шнейдер в «Dites-lui»[35] вот это… масло! Нет, воля твоя! мне в «Буфф» добродетели не нужно! Добродетель – я ее уважаю, это опора, это, так сказать, основание… je n'ai rien a dire contra cela![36] Но в «Буфф»…
– А я так, право, дивлюсь на вас, господа "калегварды"! – по своему обыкновению, несколько грубо прервал эти споры Осип Иваныч, – что вы за скус в этих Жюдиках находите! Смотрел я на нее намеднись: вертит хвостом ловко – это так! А настоящего фундаменту, чтоб, значит, во всех статьях состоятельность чувствовалась – ничего такого у нее нет! Да и не может быть его у французенки!
– Ха-ха! «фундамент» delicieux![37] про какой же это «фундамент» вы изволите говорить, Осип Иваныч? – подстрекнул старика один из «калегвардов».
– А про такой, чтобы и поясница, и бедра – все чтобы в настоящем виде было! Ты французенке-то не верь: она перед тобой бедрами шевелит – ан там одне юпки. Вот как наша русская, которая ежели утробистая, так это точно! Как почнет в хороводе бедрами вздрагивать – инда все нутро у тебя переберет!
– А вы таки, Осип Иваныч, любитель!
– В стары годы охоч был. А впрочем, скажу прямо: и молод был – никогда этих соусСв да труфелей не любил. По-моему, коли-ежели все как следует, налицо, так труфель тут только препятствует.
– Однако вы тоже, папаша! только молодым предики читаете, а сами ишь ты какой разговор завели! – укорила Марья Потапьевна.
– Я, сударыня, настоящий разговор веду. Я натуральные виды люблю, которые, значит, от бога так созданы. А что создано, то все на потребу, и никакой в том гнусности или разврату нет, кроме того, что говорить об том приятно. Вот им, «калегвардам», натуральный вид противен – это точно. Для них главное дело, чтобы выверт был, да погнуснее чтобы… Настоящего бы ничего, а только бы подлость одна!
– Ну, господа, беда! Теперь нам всем одно от Осипа Иваныча решение – в молчанку играть! – воскликнул один из "калегвардов".
– Нет, я ничего! По мне что! пожалуй, хоть до завтрева языком мели! Я вот только насчет срамословия: не то, говорю, срамословие, которое от избытка естества, а то, которое от мечтания. Так ли я, сударь, говорю? – обратился Осип Иваныч ко мне.
– Да как вам сказать! Я думаю, что вообще, и "от избытка естества", и "от мечтания", материя эта сама по себе так скудна, что если с утра до вечера об ней говорить, то непременно, в конце концов, должно почувствоваться утомление.
– Вот об этом самом я и говорю. Естества, говорю, держись, потому естество – оно от бога, и предел ему от бога положен. А мечтанию этому – конца-краю ему нет. Дал ты ему волю однажды – оно ежеминутно тебе пакость за пакостью представлять будет!
Покуда мы таким образом морализировали, «калегварды» втихомолку вели свой особливый разговор; слышалось шушуканье и тихое, сдержанное хихиканье; казалось, что вот-вот сама Марья Потапьевна сейчас запоет:
Assez!
Finissez!
Monsieur! vous me faites mal!
Вообще старики нерасчетливо поступают, смешиваясь с молодыми. Увы! как они ни стараются подделаться под молодой тон, а все-таки, под конец, на мораль съедут. Вот я, например, – ну, зачем я это несчастное «Происшествие в Абруццских горах» рассказал? То ли бы дело, если б я провел параллель между Шнейдершей и Жюдик! провел бы весело, умно, с самым тонким запахом милой безделицы! Как бы я всех оживил! Как бы все это разом встрепенулось, запело, загоготало!
Словом сказать, я почувствовал себя лишним и потому, улучив первую удобную минуту, взял шляпу и стал раскланиваться.
– Вы лучше вечерком к нам зайдите, – любезно пригласил меня Осип Иваныч, – по пятницам у нас хорошие люди собираются. Может быть, в стуколку сыграете, а не то, так Иван Иваныч и по маленькой партию составит.
* * *
Несмотря на богатство обстановки, которое я сейчас видел, впечатление, вынесенное мною, было очень неприятно. Мне было жаль прежнего Дерунова в старозаветном синем сюртуке, желающего «худым платьем» вселить в немце-негоцианте уверенность в своей «обстоятельности», пробующего на язык сало, дающего извозчику сначала двугривенный и потом постепенно съезжающего на гривенник и т. д. Несмотря на всю несовместность подобных поступков с миллионным состоянием, в личности Осипа Иваныча не было ничего такого, что бы сразу претило. Посторонний человек редко проникает глубоко, еще реже задается вопросом, каким образом из ничего полагается основание миллиона и на что может быть способен человек, который создал себе как бы ремесло из выжимания пятаков и гривенников. Ему видится в Дерунове какая-то искренность и простота, которые делают отношения к нему до крайности легкими. Осип Иваныч мог прямо смотреть в глаза своему собеседнику, рассказывая о гривенниках, пятаках, о колупании сала и о пользе «худого платья» в коммерческом деле. Он был в этом случае только юмористом, добродушно подсмеивающимся над самим собой и в то же время снисходительно выдерживающим и чужую шутку. Другое дело, если б он рассказал самую подноготную выжимательного процесса; но ведь и то сказать: еще вопрос, понимал ли он сам, что тут существует какая-то подноготная и что она может быть подвергаема нравственной оценке.
По крайней мере, что касается до меня, то хотя я и понимал довольно отчетливо, что Дерунов своего рода вампир, но наружное его добродушие всегда как-то подкупало меня. А еще более подкупали его практический ум и его бывалость. В первом смысле, никто не мог подать более делового совета, как в данном случае поступить (разумеется, можно было следовать или не следовать этому совету – это уже зависело от большей или меньшей нравственной брезгливости, – но нельзя было не сознавать, что при известных условиях это именно тот самый совет, который наиболее выгоден); во втором смысле, никто не знал столько "Приключений в Абруццских горах" и никто не умел рассказать их так занятно. Даже явно неправдоподобные рассказы его о чудодейственной силе скапливаемых гривенников и пятаков не казались особенно неприятными, потому что в самой манере рассказывания уже слышалось его собственное ироническое отношение к предмету рассказов. Видно было, что при этом он имел в виду одну цель: так называемое "заговариванье зубов", но, как человек умный, он и тут различал людей и знал, кому можно "заговаривать зубы" и наголо и кому с тонким оттенком юмора, придающего речи приятный полузагадочный характер.
Теперь, с исчезновением старозаветной обстановки, исчезла и прежняя загадочность; выжимание гроша втихомолку сменилось наглым вожделением грабежа, и хотя старинный юмор по временам еще сказывается, но имеет уже характер случайный, искусственный. Очевидно, что Дерунов уж оставил всякую оглядку, что он не будет впредь ни колоколов лить, ни пудовых свечей к образам ставить, что он совсем бросил мысль о гривенниках и пятаках и задумал грабить наголо и в более приличной форме. Все мелкие виды грабежа, производимые над живым материалом и потому сопровождаемые протестом в форме оханья и криков, он предоставляет сыну Николашеньке и приказчикам, сам же на будущее время исключительно займется грабежом «отвлеченным», не сопряженным с оханьями и криками, но дающим в несколько часов рубль на рубль. "И голова у тебя слободка, и совесть чиста – потому "разговоров нет!" – так, я уверен, рассуждает он в настоящее время. Генерал, который нарочно приезжал в К., чтоб доказать Осипу Иванычу, что в его рубле даже надобности никакой нет, что он нужен только для прилику, для видимости, а что два других рубля на этот мнимый рубль придут сами собой, – успел в этом больше, чем надо. Дерунов вдруг утратил присущее всякому русскому кулаку представление о существовании Сибири, или лучше сказать, он и теперь еще помнит об ней, но знает наверное, что Сибирь существует не для него, а для "других-прочиих".
И вот, хотя отвлеченный грабеж, по-видимому, гораздо меньше режет глаза и слух, нежели грабеж, производимый в форме операции над живым материалом, но глаза Осипа Иваныча почему-то уже не смотрят так добродушно-ясно, как сматривали во время оно, когда он в "худой одёже" за гривенник доезжал до биржи; напротив того, он старается их скосить вбок, особливо при встрече с старым знакомым. Он как бы чувствует, что его уже не защищает больше ни «глазок-смотрок», ни "колупание пальцем", ни та бесконечная сутолока, которой он с утра до вечера, в качестве истого хозяина-приобретателя, предавался и которая оправдывала его в его собственном мнении, а пожалуй, и в мнении других. Теперь он оголен, он ходит праздно с утра до вечера и только соображает, в какой степени выгодна новая финансовая пакость, которую предложил ему «генерал». По исстари установившемуся в нем самом понятию, все это никоим образом не осуществляет представления об «деле», как об чем-то, сопряженном с трудом. Он вполне сознает, что тут нет и тени «труда», а есть только ничем не прикрытое ёрничество, сопровождаемое наглым бросанием денег и бражничаньем без конца.
Самые отношения его к Марье Потапьевне утратили прежнюю загадочность. Нагота их разом всплыла наружу и, для своего прикрытия, потребовала такой обстановки, которая сообщает этим отношениям характер еще большей пошлости. В обществе «сквернословов» Осип Иваныч сам незаметно сделался сквернословом, и хотя еще держится в этом отношении на реальной почве, но кто же может поручиться, что дальнейшая практика не сведет и его, в ближайшем будущем, на ту почву мечтания, о которой он покуда отзывается с негодованием. Благо в жизнь вошел элемент срамословия, а что градации его будут пройдены все до конца – это неминуемо. И тогда – Марье Потапьевне мат: Осип Иваныч войдет во вкус и не станет смотреть, «утробиста» ли женщина или не «утробиста», а будет подмечать только, как она "виляет хвостом". И останется он постоянным жителем города С.-Петербурга, и наймет себе девицу Сузетту, а Марью Потапьевну шлет в К., в жертву издевкам Анны Ивановны и семьи Николая Осиповича…
Тем не менее в одну из пятниц я отправился в Европейскую гостиницу, отправился от скуки, сам не сознавая зачем. Было довольно поздно, когда я пришел. В столовой стоял раздвинутый стол, уставленный фруктами, конфектами и крюшонами с шампанским; в кабинете у Осипа Иваныча, вокруг трех соединенных ломберных столов, сидело человек десять, которые играли в стуколку. Было страшно накурено; там и сям около играющих виднелись стаканы с шампанским. Среди плавающих облаков дыма я заметил несколько физиономий, несомненно принадлежащих тузам финансового мира, – физиономий, по носам которых можно было безошибочно заключить о восточном их происхождении. Несколько перстней с крупными брильянтами блеснуло мне в глаза. Тут же сидел и «генерал», человек очень угрюмого вида, когда-то бывший полководец, совершивший знаменитую переправу через реку Вьюлку[38] и победивший мятежных семендяевцев,[39] но теперь, за победой и одолением, оставшийся за штатом и нашедший приют около концессионеров. Тишина царствовала невозмутимая, прерываемая только условным стуканьем пальцев и хлясканием карт. Один Осип Иваныч изредка балагурил, немилосердно мусля при этом карты. Посреди стола лежала изрядная куча скомканных бумажек.
Мое появление взбудоражило всю компанию. Осип Иваныч выразил как бы недоумение, увидев меня; когда же он назвал мою фамилию, то такое же недоумение сказалось и на других лицах.
– С нами, что ли, в стуколку играть сядете? – тем не менее любезно обратился ко мне хозяин, делая вид, что очищает место подле себя.
– Нет, я уж к Марье Потапьевне…
– Ну, к Марье Потапьевне так к Марье Потапьевне! А у ней соскучитесь, так с Иваном Иванычем займетесь. Иван Иваныч! вот, братец, гость тебе! Займи! да смотри, чтоб не соскучился! Да чаю им, да по питейной части чтоб неустойки не было! Милости просим, сударь!
Иван Иваныч Зачатиевский, куда-то исчезавший в минуту моего прихода, словно из земли вырос на зов своего патрона и стоял уже сзади меня, готовый по первому манию увлечь меня хоть в преисподнюю.
– Пожалуйте-с! Марья Потапьевна будут очень рады-с! – говорил Иван Иваныч, уводя меня под руку из кабинета.
– Помещик из наших местов… Еще родителя ихнего знавал… – объяснял, следом за мной, Дерунов, по-видимому, все еще недоумевающим игрокам и, сказав это, намуслил карты и стукнул.
В гостиной, вокруг Марьи Потапьевны, тоже собралось человек около десяти, в числе которых был даже один дипломат, сухой, длинный, желтый, со звездой на груди. В ту минуту, когда я вошел, дипломат объяснял Марье Потапьевне происхождение, значение и цель брюссельских конференций.
– Представьте себе, chere[40] Марья Потапьевна, что одна из воюющих сторон вошла в неприятельскую землю, – однозвучно цедил он сквозь зубы, отчего его речь была похожа на гуденье, – что мы видим теперь в подобных случаях? А то, что местное население старается всячески повредить победоносному врагу, устроивает ему изменнические засады, бежит в леса, заранее опустошая и предавая огню все, что стоит на его пути, предательски убивает солдат и офицеров, словом сказать, совершает все, что дикость и варварство могут внушить ему… тогда как теперь…
Мой приход помешал дальнейшему развитию объяснений. Но и в гостиной Марьи Потапьевны я был не более счастлив, чем в кабинете Осипа Иваныча. Она словно забыла мое лицо и одно мгновение как бы колебалась; потом, однако ж, вспомнила и подала мне руку, несколько кисло улыбнувшись. «Калегварды», которых я уже встретил во время моего первого утреннего визита, приняли меня радушнее. Казалось, им надоел дипломат (он, наверное, надоел и Марье Потапьевне), и они надеялись, что мой приход даст беседе новое направление. Многие зевали, и ежели не уходили, то только благодаря крюшонам, стоявшим в столовой, и ожидаемой перспективе ужина. Что касается до дипломата, то он взглянул на меня с недоумением, почти неприязненно.
– Помещики из наших местов, – как бы оправдывалась Марья Потапьевна, называя меня по фамилии.
– Вы, кажется, писатель? – спросил дипломат, сопровождая этот вопрос каким-то невыразимо загадочным взглядом, в котором в одинаковой степени смешались и брезгливость, и смутное опасение быть угаданным, и желание подольститься, показать, что и мы, дескать, не чужды…
Я поклонился, думая в то же время (эта мысль преследует меня везде и всегда): "А ну, как последует назначение… ведь бывали же примеры!"
– Они по смешной части! – объяснила Марья Потапьевна.
– Ah! Ah! "по смешной части"! joli.[41] Именно, именно по «смешной части»! Faites-nous rire, monsieur![42] Мы так бедны смехом, что нужно, чтобы кто-нибудь расправлял наши морщины.
Он благосклонно подал мне руку и затем обратился к прерванному разговору и окончательно разъяснил Марье Потапьевне пользу брюссельских конференций.
Исполнив это, он любезно обратился к "калегвардам":
– Ну-с, господа, как идут дела с мадам Жюдик?
– Да что, барон! Нельзя сказать, чтобы очень… добродетельна чересчур! – отозвался тот самый «калегвард», который и в первый визит мой заявил себя противником Жюдик.
– Ну, нет-с; я вам скажу, это женщина… это, как по-испански говорится, salado… salada…[43] Так, кажется?
– Так-то так, барон, не к чему эта строгость… се puritanisme, enfin![44]
– Не знаю, не заметил… а по моему мнению, бывает воздержность, которая гораздо больше говорит, нежели самая недвусмысленная жестикуляция… Впрочем, вы, молодежь, лучшие ценители в этом деле, нежели мы, старики. Вам и книги в руки.
– Что касается до меня, то я совершенно вашего мнения, барон! – вступился «калегвард», приверженец Жюдик, – я говорю: жест актрисы никогда не должен давать всё сразу; он должен оставлять желать, должен возбуждать воображение, открывать перед ним перспективы… Schneider! Что такое Schneider? – это несколько усовершенствованная Alphonsine – и ничего больше! Она сразу дает всё, она не оставляет моему чувству никакого повода для самодеятельности… Je vous demande un peu, si e'est de l'art![45]
– Так-с, так-с, совершенно с вами согласен… Vous avez saisi mon idee![46] А впрочем, вы, кажется, и из корпуса вышли первым, если не ошибаюсь…
– Точно так, барон.
– Н-да… это так… Жюдик… Salado, salada… Ну-с, chere Марья Потапьевна, я вас должен оставить! – произнес дипломат, с достоинством взвиваясь во весь рост и взглядывая на часы, – одиннадцать! А меня ждет еще целый ворох депеш! Пойти на минуту к почтеннейшему Осипу Иванычу – и затем домой!
– А я думала, что вы с нами отужинаете, барон?
– Нет, chere Марья Потапьевна, я в этом отношении строго следую предписаниям гигиены: стакан воды на ночь – и ничего больше! – И, подав Марье Потапьевне руку, а прочим сделав общий поклон, он вышел из гостиной в сопровождении Ивана Иваныча, который, выпятив круглый животик и грациозно виляя им, последовал за ним. Пользуясь передвижением, которое произвело удаление дипломата, поспешил и я ускользнуть в столовую.
– Ну, теперь я вас не выпущу! – шепнул мне по дороге Иван Иваныч, – вот дайте только проводить генерала.
Дипломат проследовал в кабинет и благосклонно присел около Осипа Иваныча, который в эту самую минуту загреб целую уйму денег.
– Ну-с, господа, как поигрываете? – спросил дипломат.







