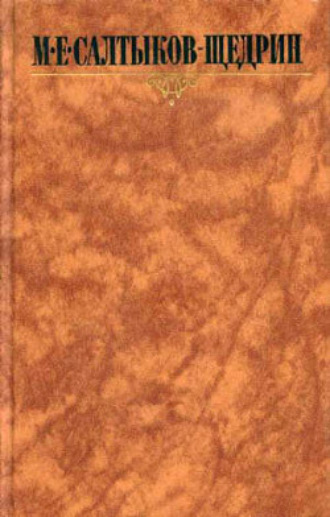
Михаил Салтыков-Щедрин
Благонамеренные речи
– Да вот его превосходительство побеждает, – шутил Осип Иваныч, указывая на бывшего полководца.
– Да? непобедим, как и везде! и на поле сражения, и на зеленом поле! А я с вами, генерал, когда-нибудь намерен серьезно поспорить! Переправа через Вьюлку – это, бесспорно, одно из славнейших дел новейшей военной истории, но ошибочка с вашей стороны таки была!
– Толкуй больной с подлекарем! – проворчал себе под нос полководец.
– Нечего, ваше превосходительство, сердиться, – с своей стороны подшучивал Осип Иваныч, – их превосходительство это правильно заметить изволили! Была ошибочка! действительно ошибочка была!
– Я, по крайней мере, позволяю себе думать, что если бы вы в то время взяли направление чуть-чуть влево, то талдомцы[47] не успели бы прийти на помощь мятежным семендяевцам, и вы не были бы вынуждены пробивать кровавый путь, чтоб достигнуть соединения с генералом Голотыловым. Сверх того, вы успели бы обойти Никитские болота и не потопили бы в них своей артиллерии!
– Да что говорить, ваше превосходительство, – подзадоривал Осип Иваныч, – я сам тамошний житель и верно это знаю. Сделай теперича генерал направление влево, к тому, значит, месту, где и без того готовый мост через Вьюлку выстроен, первое дело – не нужно бы совсем переправы делать, второе дело – кровопролития не было бы, а третье дело – артиллерия осталась бы цела!
– Ну, вот видите! я хоть и не тактик, а сейчас заметил… Впрочем, господа, победителя не судят! – решил дипломат и с этим словом окончательно встал, чтобы удалиться.
Осип Иваныч кинулся было за ним, но дипломат благосклонным жестом руки усадил его на место. Это не помешало, однако, Дерунову вновь встать и постоять в дверях кабинета, следя взором за Иваном Иванычем, провожавшим дорогого гостя.
– Ну, слава богу, проводили! – сказал мне Зачатиевский, возвращаясь из передней, – теперь вы – наш гость! садитесь-ка сюда, поближе к источнику! – прибавил он, усаживая меня к столу, уставленному фруктами и питиями.
Я не раз бывал у Зачатиевского во время наездов Дерунова в Петербург, но знал его вообще довольно мало. Помню, что он называл Осипа Иваныча благодетелем, но я никогда особенно не верил искренности его излияний. В сущности, благодеяния, изливаемые семейством Деруновых на Зачатиевского, были очень скудны и едва ли вознаграждали последнего за хлопоты и стеснения. Несмотря на неприхотливость Осипа Иваныча, правила гостеприимства требовали и успокоить его, то есть отдать в его распоряжение лучший угол, и приготовить лишнее блюдо к обеду. Все это делалось почти бескорыстно, потому что Дерунов отбояривался домашнею провизией, присылаемой из К., и тем, что крестил детей у Зачатиевского, причем давал на зубок выигрышный билет с пожеланием двухсот тысяч. Но таково уже магическое действие богатства: Зачатиевский, быть может, и ругал втихомолку Дерунова, но никогда не позволил себе отказать ему в какой-либо услуге, хотя бы для этого он вынужден был бегать несколько дней сряду высуня язык.
Впрочем, сама природа, казалось, создала Зачатиевского для услуги. Он был среднего роста и весь круглый. Круглый живот, круглая спина, округлые ляжки, круглые, как сосиски, пальцы – все это с первого раза делало впечатление, что вот-вот этот человек сейчас засеменит ногами и побежит, куда приказано. Круглое, одутловатое и несколько суженное кверху лицо не свидетельствовало о значительных умственных способностях, но постоянно выражало возбужденность и беззаветную готовность что-то выслушать и сейчас же исполнить. И на лице у него все было кругло: полные щеки, нос картофелиной, губы сердечком, маленький лоб горбиком, глаза кругленькие и светящиеся, словно можжевеловые ягодки у хлебного жаворонка, и поверх их круглые очки, которые он беспрестанно снимал и вытирал. Даже лысина на его голове имела вид пятачка, получившего постепенно значительное распространение. Проворен он был изумительно, и я думаю, что в этом случае ему в весьма большой степени помогала бочковатость его существа. Он устремлялся вперед и при этом учтиво вилял всем телом, что особенно приятно поражало начальствующих лиц.
Несмотря, однако ж, на услужливость, действительной доброты в нем не было. Собственно говоря, он был услужлив помимо своей воли, потому только, что тело его очень удобно для этого было приспособлено. Но, оказывая услуги, вскакивая и устремляясь, словно на пружинах, он внутренно роптал и завидовал. В этой зависти, впрочем, скорее сказывалось завидущее пономарское естество, которое всю жизнь как будто куда-то человека подманивает и всю жизнь оставляет его на бобах. На деле он довольствовался очень малым, но глазами захапал бы, кажется, целый мир. Вообще это был очень своеобразный малый, в котором полное отсутствие воли постоянно препятствовало установлению сознательных отношений к людям.
– Так вот мы здесь, у источника, и побеседуем! – сказал он, садясь возле меня, – нам с вами там делать нечего, а вот около крюшончиков… Постойте! я сейчас велю новый принести… с земляникой!
– Да нужно ли, Иван Иваныч?
– Что вы! что вы! да Осип Иваныч обидится! Не те уж мы нынче, что прежде были! – прибавил он, уже стоя, мне на ухо.
И прежде нежели я успел остановить его, он быстрыми шагами юркнул в переднюю.
– А не то, может быть, вы закусить бы предпочли? – продолжал он, возвратившись, – и закуска в передней совсем готовая стоит. У нас все так устроено, чтоб по первому манию… Угодно?
Но в эту минуту лакей уже внес новый крюшон, и вопрос насчет путешествия в переднюю для закусыванья остался открытым.
– Да, не те мы нынче! – возобновил он прерванную материю, нервно передвигая на носу очки, – гривеннички-то да пятачки оставили, а желаем разом…
– Да, большую перемену и я в Осипе Иваныче замечаю.
– В каретах мы нынче ездим – да-с! за карету десять рубликов в сутки-с; за нумер пятьдесят рубликов в сутки-с; прислуге, чтобы проворнее была, три рублика в сутки; да обеды, да ужины, да закуски-с; целый день у нас труба нетолченая-с; одни «калегварды» что за сутки слопают-с; греки, армяне-с; опять генерал-с; вот хоть бы сегодня вечерок-с… одного шампанского сколько вылакают!
При этом перечислении меня так и подмывало спросить: "Ну, а вы? что вы получаете?" Само собою разумеется, что я, однако ж, воздержался от этого вопроса.
– Здесь в один вечер тысячи летят, – продолжал, как бы угадывая мою мысль, Зачатиевский, – а старому приятелю, можно сказать, слуге – грибков да маслица-с. А беготни сколько! с утра до вечера словно в котле кипишь! Поверите ли, даже службой неглижировать стал.
– Вольно же вам!
– Нельзя, сударь, нрав у меня легкий, – он знает это и пользуется. Опять же земляк, кум, детей от купели воспринимал – надо и это во внимание взять. Ведь он, батюшка, оболтус оболтусом, порядков-то здешних не знает: ни подать, ни принять – ну, и руководствуешь. По его, как собрались гости, он на всех готов одну селедку выставить да полштоф очищенного! Ну, а я и воздерживай. Эти крюшончики да фрукты – кто обо всем подумал? Я-с! А кому почет-то?
– Иван Иваныч! распорядись, братец! – раздался из кабинета голос Дерунова, – с гостем со своим занялся, а нас бросил!
Зачатиевский засеменил ногами по направлению к передней, и вслед за тем прошли в кабинет два лакея с подносами, обремененными налитыми стаканами.
– Ваше превосходительство! повелите! Новенького! – раздавалось в кабинете.
– Не велеть ли закуску подавать? – обратился ко мне Иван Иваныч, смотря на часы, – первый в половине!
– Не знаю; по-моему, спать пора.
– У нас ведь до четырех часов материя-то эта длится… Н-да-с, так вы, значит, удивлены? А уже мне-то какой сюрприз был, так и вообразить трудно! Для вас-то, бывало, он все-таки принарядится, хоть сюртучишко наденет, а ведь при мне… Верите ли, – шепнул он мне на ухо, – даже при семейных моих, при жене-с…
– Но чем же вы объясняете эту перемену?
– Да как вам сказать? первое дело, кровь на старости лет заиграла, а главное, я вам доложу, все-таки жадность.
– Он и мне что-то об концессии говорил.
– Да-с, вот этот генерал… вон он, полководец! Он первый его обрящил. Нарочно в К. ездил, чтоб залучить. Я, знаете, так полагаю, что думали они, вся эта компания, на простачка напасть, ан вышло, что сами к простачку в передел попали. Грека-то видите, что возле генерала сидит? – он собственно воротило и есть, а генерал не сам по себе, а на содержании у грека живет. Вот они и затеяли эту самую механику, думали: мужик жадный, ходко на прикормку пойдет! – Ан Осип-то Иваныч жаднее всякого жадного вышел, ходит около прикормки да посматривает: "Не трог, говорит, другие сперва потеребят, а я увижу, что на пользу, тогда уже заодно подплыву, да вместе с прикормкой всех разом и заглону!" И так этот грек его теперь ненавидит, так ненавидит!
– Ну, а Осип Иваныч что?
– Смеется – ему что! – Помилуйте! разве возможная вещь в торговом деле ненависть питать! Тут, сударь, именно смеяться надо, чтобы завсегда в человеке свободный дух был. Он генерала-то смешками кругом пальца обвел; сунул ему, этта, в руку пакет, с виду толстый-претолстый: как, мол? – ну, тот и смалодушествовал. А в пакете-то ассигнации всё трехрублевые. Таким манером он за каких-нибудь триста рублей сразу человека за собой закрепил. Объясняться генерал-то потом приезжал.
– И что же?
– Велел закуску подать – и только. Коли, говорит, от тебя, ваше превосходительство, и впредь заслуга будет, и впредь не оставлю, а теперь, говорит, закусим да в кабинет пойдем, там по душе потолкуем. Заперлись они это, пошушукали там, только на сей раз остался наш генерал уж доволен. Веселый вышел, да не успел, знаете, уйти, как следом этот самый грек является. "Купите, говорит, мои акции – одни хозяином дела останетесь!" – "А я, говорит (это наш-то), Христофор Златоустыч, признаться сказать, погорячился маленько: полчаса тому назад его превосходительству, доверенному от вас лицу, все свои акции запродал – да дешево, говорит, как!"
– Скажите! и все-таки продолжают видеться?
– И дело даже продолжают вместе делать! Только грек серьезнее стал на Осипа Иваныча смотреть. И посейчас каждый день беседуют. Грек этот, знаете, больше насчет выдумки, а наш – насчет понятия. Тот выдумает, а наш поймет. Тот пока с духом собирается, а наш, смотри, уже и дело сделал. И представьте себе, ведь во всем ему счастие такое! Вот хоть бы стуколка эта – редкий раз пройдет, чтобы он у них карманы не обчистил! Намеднись даже сам говорит мне: "Помилуй, говорит, да мне здесь дешевле, нежели в нашей уездной мурье жить, потому, сколько ни есть карманов, все они теперь мои стали!"
– Ну, это до поры до времени!
– Нет, сударь, это сущую правду он сказал: поколе он жив, все карманы его будут! А которого, он видит, ему сразу не одолеть, он и сам от него на время отойдет, да издали и поглядывает, ровно бы посторонний человек. Уже так-то вороват, так-то вороват!
Опять возглас из кабинета: "Иван Иваныч! Заснул, что ли, братец!" – и опять торопливое движение со стороны Зачатиевского.
– Первый час в исходе, закуску не прикажете ли подавать? – докладывает он Осипу Иванычу.
– А тебе, видно, спать к жене загорелось! Отпустить, что ли, его, господа честная компания! – предложил Дерунов.
– Отпустить! Отпустить!
– Ну, что с тобой делать! волоки закуску!
Иван Иваныч распорядился и опять подсел ко мне.
– Вот вы сказали давеча, – начал я, – что у Дерунова кровь на старости лет заиграла. Я ведь и сам об этом в К. мельком слышал: неужели это правда?
– Верно-с!
– А отец протоиерей к—ский еще "приятнейшим сыном церкви" его величает!
– Будешь величать! Сторублевку-то на полу не поднимешь!
– Но Яков Осипыч, как он это терпит?
– А он с утра до вечера в тумане: помнит ли даже, что и женат-то! Нынче ему насчет вина уж не велено препятствия делать.
– Ну, а Анна Ивановна?
– А Глафирина Николая Петровича знаете?
– Так что ж?
– Ну, он самый и есть… мужчина! У нас, батюшка, нынче все дела полюбовным манером кончаются. Это прежде он лют был, а нынче смекнул, что без огласки да потихоньку не в пример лучше.
– А знаете ли что! Ведь я это семейство до сих пор за образец патриархальности нравов почитал. Так это у них тихо да просто… Ну, опять и медалей у него на шее сколько! Думаю: стало быть, много у этого человека добродетелей, коли начальство его отличает!
– Да вы спросите, кто медали-то ему выхлопотал! – ведь я же! – Вы меня спросите, что эти медали-то стоят! Может, за каждою не один месяц, высуня язык, бегал… а он с грибками да с маслицем! Конечно, я за большим не гонюсь… Слава богу! сам от царя жалованье получаю… ну, частная работишка тоже есть… Сыт, одет… А все-таки, как подумаешь: этакой аспид, а на даровщину все норовит! Да еще и притесняет! Чуть позамешкаешься – уж он и тово… голос подает: распорядись… Разве я слуга… помилуйте!
Сказавши это, он даже от меня отвернулся и столь плотно уселся в кресло, что я так и ждал: вот-вот Дерунов кликнет из кабинета, и Зачатиевский останется глух к этому кличу.
– Конечно, ежели рассудить, то и за обедом, и за ужином мне завсегда лучший кусок! – продолжал он, несколько смягчаясь, – в этом он мне не отказывает! – Да ведь и то сказать: отказывай, брат, или не отказывай, а я и сам возьму, что мне принадлежит! Не хотите ли, – обратился он ко мне, едва ли не с затаенным намерением показать свою власть над «кусками», – покуда они там еще режутся, а мы предварительную! Икра, я вам скажу, какая! семга… царская!
– Понуждай, Иван Иваныч! понуждай, братец! – раздался голос Осипа Иваныча.
Но Зачатиевский на этот раз не ринулся с места и ограничился ответом: "сейчас!", потому что закуска была почти уже сервирована.
– А все она-с, – сказал он, вновь обращаясь к разоблачениям тайн деруновской семьи, – она сюда его и привезла. Мало ей к—ских приказчиков, захотелось на здешних «калегвардов» посмотреть!
– Однако Осип Иваныч, кажется, не ревнует?
– Хитер, сударь, он – вишь их какую ораву нагнал; ну, ей и неспособно. А впрочем, кто ж к нему в душу влезет! может, и тут у него расчет есть!
– Ну, какой же тут расчет!
– Не говорите, сударь! Такого подлеца, как этот самый Осип Иванов, днем с огнем поискать! Живого и мертвого готов ободрать. У нас в К. такую механику завел, что хоть брось торговать. Одно обидно: все видели, у всех на знати, как он на постоялом, лет тридцать тому назад, извозчиков овсом обмеривал!
– Счастье, Иван Иваныч, счастье!
– Не счастье-с, а вся причина в том, что он проезжего купца обворовал. Останавливался у него на постоялом купец, да и занемог. Туда-сюда, за попом, за лекарем, ан он и душу богу отдал. И оказалось у этого купца денег всего двадцать пять рублей, а Осип Иваныч пообождал немного, да и стал потихоньку да полегоньку, шире да глубже, да так, сударь, это дело умненько повел, что и сейчас у нас в К. никто не разберет, когда именно он разбогател.
– Иван Иваныч! батюшка! да ведь это уголовщина!
– А вы думали как? вы, может быть, думали, что миллионер из беспортошника так, сам собой, и делается?
– Да, я слыхал и про такие случаи… Вот, например, был один мальчишка, спичками торговал, а потом четырехэтажный дом выстроил.
– И я от матушки-покойницы слыхивал, что она меня не родила, а под капустным листом нашла.
Говоря это, Зачатиевский нервно подергивал свои очки, и я убежден положительно, что в эту минуту он искренно, от всего сердца ненавидел Дерунова.
– Эти «столпы», я вам доложу… – начал он и вдруг осекся.
В кабинете послышалось движение отставляемых стульев. Иван Иваныч вскочил и стал в позу почтительнейшего метрдотеля, даже губы у него как-то вспухли и замаслились. С обеих сторон, и из кабинета, и из гостиной, показались процессии гостей и ринулись на закуску.
– Вот он каков! – шепнул мне на ухо Зачатиевский, – даже не хотел подождать, покуда я доложу! А осетрины-то в соку между тем нет! да и стерлядь копченая…
– Где стерлядь копченая? Что ж копченая стерлядь? – ринулся он в толпу лакеев, покуда я в передней отыскивал свое пальто.
ОТЕЦ И СЫН
На севере диком растет одиноко
На голом утесе сосна,
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим,
Как ризой, одета она.
И снится ей…
Снятся консервативные начала, благонадежные элементы, правящие сословия, английские лорды и, как неизбежное к ним в русском стиле дополнение: Сидорова коза и Макар, телят не гоняющий…
На обрывистом берегу реки Вопли стоит дворянская усадьба и дремлет. Снится ей новый с иголочки дом, стоящий на противоположном низменном берегу реки, дом, словно облупленное яичко, весь светящийся в лучах солнца, дом с обширным двором, обнесенным дощатым забором, с целым рядом хозяйственных строений по обоим бокам, – строений совсем новых, свежих, в которых помещаются: кабак, называющийся, впрочем, "белой харчевней", лавочка, скотопрогонный двор, амбар и проч.
В барской усадьбе живет старый генерал Павел Петрович Утробин; в новом домике, напротив, – хозяйствует Антошка кабатчик, Антошка прасол, Антошка закладчик, словом, Антошка – homo novus,[48] выброшенный волнами современной русской цивилизации на поверхность житейского моря.
Генерал называет Антошку подлецом и христопродавцем; Антошка называет генерала "гнилою колодою". Оба избегают встреч друг с другом, оба стараются даже не думать друг об друге, и оба не могут ступить шагу, чтобы одному не бросился в глаза новый с иголочки домик "нового человека", а другому – тоже не старая, но уже несомненно потухающая усадьба "ветхого человека"…
В сумерки, когда надвигающиеся со всех сторон тени ночи уже препятствуют ясно различать предметы, генерал не утерпит и выйдет на крутой берег реки. Долгое время стоит он недвижно, уставясь глазами в противоположную сторону.
– Ежели верить Токвилю… – начинают шептать его губы (генерал – член губернского земского собрания, в которых Токвиль, как известно, пользуется славой почти народного писателя), но мысль вдруг перескакивает через Токвиля и круто заворачивает в сторону родных представлений, – в бараний рог бы тебя, подлеца! – уже не шепчет, а гремит генерал, – туда бы тебя, христопродавца, куда Макар телят не гонял!
И в тот же таинственный час, крадучись, выходит из новенького дома Антошка, садится на берег и тоже не может свести лисьих глаз с барской усадьбы.
– Ежели теперича за дом, – шепчут его губы, – ну, хоть полторы, ну, положим, за парк с садом тысячу… а впрочем, зачем же! Может, и так, без денег, измором… так-то, старая колода!
И, намечтавшись досыта, оба, не заметив друг друга, расходятся по домам…
* * *
Генеральская усадьба имеет вид очень странный, чтоб не сказать загадочный. Она представляет собой богатую одежду, усеянную множеством безобразных заплат. Дело в том, что она соединила в себе два элемента: старую усадьбу, следы которой замечаются и теперь, в виде незаровненных ям и разбросанных кирпичей и осколков бутового камня, и новую усадьбу, с обширными затеями, оставшимися, по произволению судеб, недоконченными.
Старая барская усадьба еще не так давно стояла несколько поодаль от реки, на берегу впадающего в нее оврага. Овраг этот был исстари запружен в своем устье и образовал громадный, глубокий и хорошо содержанный пруд, в водах которого отражался старинный и длинный, словно казарма, господский дом. Вправо от дома, по берегу пруда, раскинулся обширный парк, разбитый по-старинному на квадраты, засаженные внутри березами, елями и соснами, а по бокам вековыми липами, которые образовали, таким образом, длинные и темные аллеи. Сзади дома, под руками, находились службы: конный и скотный дворы, застольные, флигеля для дворовых, амбары, погреба и проч. За парком, на трех десятинах, был разведен плодовый сад с оранжереями и теплицами, с яблонями и вишеньем, с громадными ярусами гряд клубники и ягодных кустов. Напротив дома, чрез пруд, боком к барской усадьбе и лицом к Вопле, расположился крестьянский поселок, дворов около двадцати.
В то время (с небольшим лет двадцать пять тому назад) генеральский дом кипел млеком и медом. Сам генерал, Павел Петрович Утробин, был старик лет пятидесяти, бодрый, деятельный, из себя краснощекий и тучный. Служил он некогда, лет пятнадцать сряду, губернатором и был, как тогда говорилось, хозяином своей губернии. Почтовые дороги обсадил по бокам березками, почтовые станции выстроил с иголочки, хлебные запасные магазины пополнил, недоимки взыскал, для губернского города выписал новую пожарную трубу, а для губернской типографии новый шрифт. Затем, когда все земное было им совершено, он сам, motu proprio,[49] вышел в отставку с приличною пенсией (это было лет за десять до упразднения крепостного права) и поселился у себя в Воплине. Сюда он перенес ту же кипучую деятельность, которая отличала его и на губернаторском месте, а для того, чтоб не было скучно одному посреди холопов, привез с собой, в качестве секретаря, одного довольно жалконького чиновника приказа общественного призрения, Иону Чибисова, предварительно женив его на шустренькой маленькой поповне, по имени Агния.
С приездом хозяина, прадедовская, несколько запущенная усадьба ожила. Дворовые встрепенулись; генерал – летом в белом пикейном сюртучке с форменными пуговицами, зимой в коротеньком дубленом полушубке и всегда в серо-синеватых брюках с выпушкой в обтяжку и в сапогах со шпорами – с утра до вечера бродил по полям, садам и огородам; за ним по пятам, как тень, всюду следовал Иона Чибисов для принятия приказаний. Аллеи парка утрамбовали и посыпали густым слоем песка; оранжереи и плодовый сад подчистили, конный и скотный дворы обрядили так, что взойти любо. Генерал был строг, но справедлив: любя наказывал, но и добрым словом не обходил. Румяный, плотный, довольный собой, он бодро ходил по усадьбе, позвякивая шпорами, играя селезенкою и зорким старческим глазом подмечая малейшую неисправность. Шустрая поповна Агнушка, кругленькая, пухленькая, находилась при ключах, и генерал только языком прищелкивал, глядя, как она, словно комочек, с утра до вечера перекатывается от погреба к амбару, от амбара к молочной и т. д.
В скором времени Воплино сделалось почти ежедневным сборным пунктом для всех окрестных помещиков. Генерал водил их по усадьбе, хвастался вводимыми порядками, кормил, предоставлял в их распоряжение ломберные столы и не отказывал в перинах для отдохновения. Вследствие этого любовь и доверие дворянства к гостеприимному воплинскому хозяину росли не по дням, а по часам, и не раз шла даже речь о том, чтоб почтить Утробина крайним знаком дворянского доверия, то есть выбором в предводители дворянства, но генерал, еще полный воспоминаний о недавнем славном губернаторстве, сам постоянно отклонял от себя эту честь.
Одним словом, все шло как нельзя лучше желать, и ни о каких признаках, предвещающих пришествие Антошки homo novus, не было и в помине. Но в 1856 году смутил генерала бес. Приехал к нему в побывку сын, новоиспеченный двадцатилетний титулярный советник, молодой человек, с честью прошедший курс наук в самых лучших танцклассах того времени и основательно изучивший всего Поль де Кока. Петенька Утробин на чем свет стоит раскостил папашину усадьбу. И виду нет, и скотным двором воняет, и дом на казарму похож, и река далеко. Попал однажды Петенька на крестьянский поселок – и восхитился. Место высокое, почти утес; у подошвы течет глубокая Вопля, которая тут же неподалеку, приняв в себя овраг, на котором стояла старая усадьба, делает крутой поворот направо. Через реку – вид на безграничное пестрое пространство луговой поймы к деревень. По низменному берегу вьется почтовая дорога, упирающаяся прямо в загиб Вопли, через которую в этом месте ходит на канате дощаник. На мыску, образуемом речным изгибом (там, где ныне выстроил почти целый поселок Антошка-подлец), чернеет постоялый двор, отдаваемый генералом в аренду богобоязненному и смирному мужику Калине Силантьеву, из своих же крепостных. Около постоялого двора и дощаника всегдашняя живописная суета: отпряженные лошади, возы с завороченными вверх оглоблями, мужики, изредка почтовые тройки и большие экипажи, кареты, коляски. Вот где надобно быть усадьбе, а не там, разом решил Петенька. Вот тут на берегу, лицом к реке, следует выстроить новый дом, с башенками, балконами, террасами, и весь его утопить в зелени кустарников и деревьев; обрывистый берег срыть и между домом и рекой устроить покатость, которую убрать газоном, а по газону распланировать цветник; сзади дома, параллельно с прудом, развести изящный молодой парк, соединив его красивым мостом через пруд с старым парком. Крестьян, разумеется, выселить за старый парк и плодовый сад. Таков был план, который начертил Петенька и из которого должен был выйти настоящий chateau,[50] а не какая-нибудь мурья, в окна которой беспрестанно врываются гнусные запахи со скотных дворов и из застольных и в которой не мыслимо никакое другое развлечение, кроме мрачного истребления ерофеича.
К удивлению, преобразовательные затеи Петеньки не встретили почти никакого отпора со стороны генерала. Во-первых, Петенька был единственный сын и притом так отлично кончил курс наук и стоял на такой прекрасной дороге, что старик отец не мог без сердечной тревоги видеть, как это дорогое его сердцу чадо фыркает, бродя по лабиринту отчего хозяйства и нигде не находя удовлетворения своей потребности изящного. Во-вторых, генерал был так долго "хозяином губернии", что всякая ломка и перетасовка ему самому была по душе. Сообразив составленный Петенькой план, он понял, что тут предстоит целое море построек, переносок, посадок, присадок, – и селезенка пуще, чем когда-либо, заиграла в нем.
Одно только обстоятельство заставляло генерала задуматься: в то время уже сильно начали ходить слухи об освобождении крестьян. Но Петенька, который, посещая в Петербурге танцклассы, был, как говорится, au courant de toutes les choses,[51] удостоверил его, что никакого освобождения не будет, а будет «только так».
– Полно, так ли, мой друг? – допытывался старик, – в народе уж сильно поговаривать начали.
– Niaiseries, mon pere!,[52] – отвечал Петенька, – вы подумайте только, есть ли в этом человеческий смысл! Вот и Архипушку, стало быть, освободить!
Архипушка, деревенский дурачок, малый лет уж за пятьдесят, как нарочно шел в это время мимо господской усадьбы, поднявши руки в уровень с головой, болтая рукавами своей пестрядинной рубахи, свистя и мыча. Взглянул генерал на Архипушку, подумал: в самом деле, неужели Архипушку освободят? – и решил: нет, это было бы даже не великодушно! Тем не менее, чтобы окончательно быть удостоверенным, что «зла» не будет, он, по отъезде сына в Петербург на службу, съездил в губернский город и там изложил свои сомнения губернатору и архиерею. Губернатор, человек старого закала, только улыбнулся в ответ, присовокупив, что хотя подобные слухи и распространяются врагами отечества, но что верить им могут только люди, не понимающие истинных потребностей России. Преосвященный же прямо сказал, что как в древности были господа и рабы, так и напредь сего таковые имеют остаться без изменения.
Заручившись столь вескими авторитетами, Утробин успокоенный возвратился в Воплино и при первом удобном случае приступил к преобразованиям. На его беду, весна и лето 1857 года прошли совсем тихо. Он живо перенес крестьянский поселок за плодовый сад, выстроил вчерне большой дом, с башнями и террасами, лицом к Вопле, возвел на первый раз лишь самые необходимые службы, выписал садовника-немца, вместе с ним проектировал английский сад перед домом к реке и парк позади дома, прорезал две-три дорожки, но ни к нивелировке береговой кручи, ни к посадке деревьев, долженствовавшей положить начало новому парку, приступить не успел. Как ни усердствовали крестьяне, как ни старались сельские начальники, но к концу осени окрестности будущего chateau представляли собою скорее картину недавнего геологического переворота, нежели что-нибудь с чем-нибудь сообразное; даже ямы, свидетельствовавшие о пребывании в этом месте крестьянских дворов и гумен, не были заровнены.
А между тем грозный час не медлил, и в конце 1857 года уже сделан был первый шаг к разрешению крестьянского вопроса.
Генерал был так озадачен, что опять поскакал в губернский город. Там уже сидел другой губернатор, из молодых ранний, но архиерей был прежний. На вопрос генерала: "Что сей сон значит?" – губернатор несколько нахмурился, ибо просторечия даже в разговоре не любил, а как сам говорил слогом докладных записок, так и от других того требовал. Впрочем, в виду преклонных лет, прежних заслуг и слишком яркой непосредственности Утробина, губернатор снизошел и процедил сквозь зубы, что хотя факт обращения к генерал-губернатору Западного края есть факт единичный, так как и положение этого края исключительное, и хотя засим виды и предположения правительства неисповедимы, но что, впрочем, идея правды и справедливости, с одной стороны, подкрепляемая идеей общественной пользы, а с другой стороны, побуждаемая и, так сказать, питаемая высшими государственными соображениями.
Генерал слушал эту рацею, выпучив глаза, и к ужасу своему – понимал.
– А я, вашество, в нынешнем году переформировку у себя затеял, – произнес он как-то машинально, словно эта идея одна и была в его голове.
– Очень рад-с! очень рад-с! – ответил губернатор, – очень рад видеть, что господа дворяне оставляют прежние рутинные пути и выказывают дух предприимчивости, этот, так сказать, нерв…
На этом месте Утробин шаркнул ножкой, откланялся и направился к архиерею.
Архиерей принял генерала с распростертыми объятиями и сейчас же велел подать закуску.
– Слышали? – спросил генерал.
– Не токмо слышал, но и возвеселился! – ответил преосвященный. – Истинно любезная для христианского сердца минута сия была.
Генерал побагровел.
– Как же так, преосвященнейший! А помните: "и в древности были господа и рабы, и напредь таковые должны остаться без изменения"? – огрызнулся он.
– Да, да, да! то-то вот все мы, бесу смущающу, умствовать дерзновение имеем! И предполагаем, и планы строим – и всё на песце. Думалось вот: должны оставаться рабы, а вдруг воспоследовало благочестивейшего государя повеление: не быть рабам! При чем же, скажи ты мне, предположения и планы-то наши остались? Истинно говорю: на песце строим!
Генерал просидел у преосвященного с четверть часа, но не проронил больше ни слова и даже не прикоснулся ни к балыку, ни к свежей икре. Казалось, он был в летаргическом сне.
Приехавши из губернского города в Воплино, Утробин двое суток сряду проспал непробудным сном. Проснувшись, он увидел на столе письмо от сына, который тоже извещал о предстоящей катастрофе и писал: "Самое лучшее теперь, милый папаша, – это переселить крестьян на неудобную землю, вроде песков: так, по крайней мере, все дальновидные люди здесь думают".







