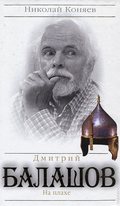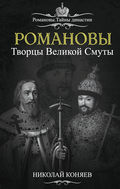Николай Коняев
Шлиссельбургские псалмы. Семь веков русской крепости
«Что это значит? – приводя эти письма, задавался вопросом М. Погодин. – Какой анштальт учинить предполагал Петр? Какие подозрения и в ком возбуждала богобоязненная кронпринцесса? Не боялся ли он подлога в случае неблагополучного разрешения? Кажется, так поняла и кронпринцесса, в ответе своем именно сказавшая: „…и на уме мне не приходило намерение обмануть ваше величество и кронпринца!“
Если же Петр боялся подлога, то, значит, рождение детей у сына занимало его сильно».
Но так было в 1714 году, когда кронпринцесса рожала дочь Наталью… 12 октября 1715 года роды проходили совсем в другой обстановке.
«Замечали при царском дворе зависть за то, что она родила принца, – доносил Плейер, – и знали, что царица тайно старалась ее преследовать, вследствие чего она была постоянно огорчена… Деньги, назначенные на ее содержание, выдавались очень скупо и с затруднениями… Смерти принцессы много способствовали разнородные огорчения, которые она испытывала».
Об этом же рассказывал в Вене и царевич Алексей…
«Отец ко мне был добр, но с тех пор, как пошли у жены моей дети, все сделалось хуже, особенно когда явилась царица и сама родила сына. Она и Меншиков постоянно вооружали против меня отца; оба они исполнены злости, не знают ни Бога, ни совести» (курсив мой. – Н. К.).
Обратимся далее к сухой хронике…
22 октября 1715 года. Не оправившись после родов будущего русского императора Петра II, кронпринцесса умерла.
28 октября. После похорон принцессы Петр I в доме царевича во время поминок публично отдает сыну написанное еще в Шлиссельбурге письмо с требованием «нелицемерно исправиться».
«Егда же сию Богом данную нашему отечеству радость (победы над шведами) рассмотряя, обозрюсь на линию наследства, едва не равная радости горесть меня снедает, видя тебя наследства весьма на правление дел государственных непотребного (Бог не есть виновен, ибо разума тебя не лишил, ниже крепость телесную весьма отъял: ибо хотя не весьма крепкой природы, обаче не весьма слабой); паче же всего о воинском деле ниже слышать хощешь, чем мы от тьмы к свету вышли и которых не знали в свете, ныне почитают. Я не научаю, чтобы охоч был воевать без законные причины, но любить сие дело и всею возможностию снабдевать и учить: ибо сия есть едина из двух необходимых дел к правлению, еже распорядок и оборона… Аще кладешь в уме своем, что могут то генералы по повелению управлять, но сие воистину не есть резон, ибо всяк смотрит начальника, дабы его охоте последовать, что очевидно есть, ибо во дни владения брата моего не все ли паче прочего любили платье и лошадей, а ныне оружие? Хотя кому до обоих и дела нет, и до чего охотник начальствуй, до того и все, а отчего отвращается, от того все. И аще сии легкие забавы, которые только веселят человека, так скоро покидают, кольми же паче сию зело тяжкую забаву (сиречь оружие) оставят! К тому же, не имея охоты, ни в чем обучаешься и так не знаешь дел воинских. Аще же не знаешь, то како повелевать оными можешь и как доброму доброе воздать и нерадивого наказать, не зная силы в их деле? Но принужден будешь, как птица молодая, в рот смотреть. Слабостию ли здоровья отговариваешься, что воинских трудов понести не можешь? Но и сие не резон! Ибо не трудов, но охоты желаю, которую никакая болезнь не может…
Сие все представя, обращусь паки на первое, о тебе рассуждати: ибо я есмь человек и смерти подлежу, то кому вышеписаное с помощию Вышнего насаждение и уже некоторое и возращенное оставлю? Тому, иже уподобился ленивому рабу евангельскому, вкопавшему талант свой в землю (сиречь все, что Бог дал, бросил)! Аще же и сие воспомяну, какова злого нрава и упрямого ты исполнен! Ибо сколько много за сие тебя бранивал, и не точию бранивал, но и бивал, к тому же сколько лет, почитай, не говорю с тобой, но ничто сие успело, ничто пользует, но все даром, все на сторону, и ничего делать не хочешь, только б дома жить и им веселиться, хотя от другой половины и все противно идет. Однако ж всего лучше, всего дороже безумный радуется своею бедою, не ведая, что может от того следовать (истину Павел святой пишет: како той может церковь Божию управить, иже о доме своем не радит?) не точию тебе, но и всему государству.
Что все я с горестию размышляя и видя, что ничем тебя склонить не могу к добру, за благо избрал сей последний тестамент тебе написать и еще мало пождать, аще не лицемерно обротить. Ежели же ни, то известен будь, что я весьма тебя наследства лишу, яко уд гангрезный, и не мни себе, что один ты у меня сын (курсив мой. – Н. К.) и что я сие только в устрастку пишу: воистину (Богу извольшу) исполню, ибо я за мое отечество и люди живота своего не жалел и не жалею, то как могу тебя, непотребного, пожалеть? Лучше будь чужой добрый, чем свой непотребный».
29 октября. Рождение Петра Петровича – сына Петра I и Екатерины Алексеевны.
31 октября. Отказ царевича Алексея от притязаний на престол. Алексей просит отца отпустить его в монастырь.
Нет никакой нужды анализировать содержание упреков в письме Петра I.
Что такое «нелицемерно исправиться»?
Историки часто упрекают Алексея в притворстве, в равнодушии к отцовским делам. И вместе с тем никто из них не отрицает, что Алексей всегда старался угодить деспоту-отцу: прилежно учился, выполнял все приказы и поручения и никогда, как это говаривали в старину, не выходил из-под его воли.
Мы уже говорили, что царевич Алексей действительно не любил войны. Война никогда не была для него игрой, которую можно бросить в любой момент. Войну царевич воспринимал как тяжелую и грязную работу… Он достаточно исправно, несмотря на молодые годы, исполнял этот труд, но радоваться крови и грязи войны так и не научился.
Однако Петру, который сам в двадцативосьмилетнем возрасте бросил на произвол судьбы всю свою армию перед сражением под Нарвой, упрекать сына за неготовность воевать по меньшей мере неосмотрительно. Это как раз проявление того поразительного ханжества и лицемерия, которые Петр I так не любил в других, но которых в самом себе никогда не замечал.
Ни о чем, кроме поразительного ханжества Петра I, не свидетельствует и его письмо сыну. Гораздо более интересными представляются его слова: не мни себе, что один ты у меня сын…
Как показывают исследования, письмо было написано 11 октября, накануне рождения сына Алексея Петра, а отдал его Петр I накануне рождения своего сына.
«В недоумение приходит всякий здравомыслящий и беспристрастный исследователь, – говорит М.П. Погодин. – Что за странности? Царь пишет письмо к сыну с угрозою лишить его наследства, но не отдает письма, и на другой день по написании рождается у царевича сын, новый наследник; царь держит у себя письмо и отдает только через 16 дней, в день погребения кронпринцессы, а на другой день после отдачи рождается у него самого сын! Вопросы, один за другим, теснятся у исследователя. Если Петр написал письмо в показанное число в Шлиссельбурге, то зачем не послал его тотчас к сыну? Зачем держал 16 дней, воротясь в Петербург? Рождение внука должно б было изменить решение: если сын провинился, то новорожденный внук получал неотъемлемое право на престол! Зачем бы определять именно число? Пролежало оно 16 дней в кармане, для чего же напоминать о том, для чего напирать, что письмо писано за 16 дней? Ясно, что была какая-то задняя мысль».
Увы… Эта «задняя мысль» слишком очевидна, и даже – можно сказать и так! – неприлично очевидна.
Вопреки обычаю, праву и здравому смыслу Петр I прилагает отчаянные усилия, чтобы не допустить на русский престол не только своего сына Алексея, но и внука – будущего императора Петра II. Все силы измученного болезнью, впадающего в припадки ярости императора оказываются направленными на то, чтобы отобрать престол у русской ветви своей семьи.
И когда, пытаясь проследить связанные с этим события, видишь, как много энергии и изобретательности было растрачено Петром Великим в борьбе с собственными сыном и внуком, – становится страшно…
7
К сожалению, даже когда были опубликованы все документы, связанные с делом царевича Алексея, наши историки (за исключением, может быть, только М.П. Погодина и Н.И. Костомарова) продолжали заниматься попытками оправдать Петра I, нежели анализом подлинных причин трагедии.
Стремление вполне понятное…
Эти историки, следуя в кильватере политики культа Петра I, и здесь, заранее, априори переносили всю вину на царевича, дабы нечаянно не бросить тень на монументальный образ Петра Великого.
Между тем мотивы антипатии Петра I очевидны и легко объяснимы. Алексей был сыном от нелюбимой, более того – ненавистной жены. И какие бы способности ни проявлял он, как бы терпеливо ни сносил упреки и притеснения, все это не имело значения для отца, не могло переменить его мнения о сыне.
В деспотически-самодержавном сознании Петра I личностное легко сливалось с государственным, переплеталось, подменяло друг друга. В царевиче Алексее – сыне от ненавистной жены Евдокии Лопухиной – Петр I видел, прежде всего, то русское, духовное начало жизни, которое он стремился выкорчевать навсегда по всей стране…
И даже если допустить, что Алексей и по характеру своему, и по душевному складу, и по воспитанию олицетворял только русскую косность – а это все-таки ничем не подкрепленное допущение! – то все равно: можно ли от живого человека требовать, чтобы он вот так, вдруг, переменил свою душу?
Потребовать-то, конечно, можно, только вот исполнить подобное требование не удавалось еще никому…
Сам Петр I наверняка понимал это.
И Алексей тоже понимал, что требование «нелицемерно исправиться» на самом деле содержит приказ самоустраниться, каким-то образом самоуничтожиться, освобождая дорогу только что родившемуся Шишечке.
Достойно и мужественно Алексей ответил отцу 31 октября, что он отказывается от притязаний на престол и просит отпустить его в монастырь.
Но Алексей – не для Петра I, а для уже родившегося Шишечки! – опасен и в монастыре. В царевиче Алексее видит измученная страна избавление от тягот и несправедливостей петровского режима. Алексей – надежда огромной империи, миллионов и миллионов людей. И кто даст гарантию – нашептывали Петру сановники, которые не знали ни Бога, ни совести, – что оскорбленная, растоптанная русская старина не выведет Алексея из монастыря после смерти Петра? Не провозгласит царем, отталкивая от престола обожаемого Шишечку?
Нет, Петр I и сам видел, что нет этой уверенности.
А раз так, значит, и действовать нужно иначе. Алексея необходимо не в монастырь заточить, а уничтожить физически. Тем более что вместе с ним будут уничтожены и надежды страны на возвращение к тому пути, по которому шла Святая Русь…
Совершить задуманное казалось непросто. Все-таки Алексей был законным наследником престола…
Но на стороне императора – самодержавная власть, бесконечная сила воли, зрелый ум, житейская опытность и, разумеется, дьявольская хитрость советников.
8
Интрига, задуманная Петром I и его сподвижниками, разыгрывается почти как на театральных подмостках.
Петр I отклоняет просьбу сына, запретив принять монашеский сан. Отправляясь за границу, он приказывает сыну «подумать»…
Психологически расчет очень точный. Петр I знает и о мечтательности сына, и о его привязчивости. И он не ошибается. Уже отрекшийся было от мирской жизни, Алексей начинает мечтать, строить планы.
Преградой на пути в монастырь становится и Евфросиния – женщина, которую он полюбил… Крепостная Н.К. Вяземского, воспитателя царевича Алексея, сумела не на шутку влюбить его в себя. Некоторые исследователи полагают, что Евфросиния была шпионкой Меншикова, и «светлейший» подсунул ее царевичу, исполняя давно задуманный план.
Как бы то ни было, но именно Евфросиния отвлекает царевича от спасительных – речь идет не только о нравственном, но и физическом, и политическом, и даже историческом спасении – мыслей о монастыре.
Счастье сына, разумеется, не цель Петра I, а лишь средство достижения задуманного. Едва только разгорается в мечтательном Алексее надежда на счастье – какой безжалостно точный расчет! – курьер вручает ему новое письмо. Алексей немедленно должен ехать за границу или, не мешкая, отправиться в монастырь.
В самой возможности выбора и заключалась ловушка. Возможность бежать от деспота-отца, который – Алексей уже знал это! – ив монастыре не даст ему покоя, прельстила царевича.
Ловушка сработала. Алексей принял решение – бежать. Хитроумный капкан защелкнулся… Дальше – вынуть добычу из капкана – было делом техники.
Прибыв в Вену, царевич Алексей явился к вице-канцлеру графу Шенборну и просил того о покровительстве императора. Убежище Алексею было предоставлено. Царевича отправили в тирольский замок Эренберг и скоро туда прибыли тайный советник П.А. Толстой и гвардии капитан А.И Румянцев. Алексея Петровича перевели в Неаполь, в замок Сент-Эльмо, но посланцы отца легко нашли его и там. Они уговаривают Алексея Петровича вернуться, обещая отцовское прощение.
Это с легкостью подтвердил и сам Петр I.
«Мой сын! – писал он царевичу Алексею 17 ноября 1717 года. – Письмо твое, в 4-й день октября писанное, я здесь получил, на которое ответствую, что просишь прощения, которое уже вам перед сим, через господ Толстова и Румянцева, письменно и словесно обещано, что и ныне подтверждаю, в чем будь весьма надежен…»
Дата этого письма совпадает с подготовкой к церемонии поставления на место умершего Никиты Зотова нового князя-папы Петра Ивановича Бутурлина, которая проводилась Петром I в Преображенском.
Обряд этот во всех тонкостях разработал сам Петр I.
«Поставляющий глаголет: „Пьянство Бахусово да будет с тобою, затмевающее и дрожающее, и валяющее и безумствующее тя во вся дни жизни твоея“.
Далее в дело вступали жрецы с пением:
„О всепьянейший отче Бахусе, от сожженные Семиллы рожденный, из юпитеровой (неприличное слово) возвращенный! Изжателю виноградного веселия и проведшему оное сквозь огнь и воду, ради вящыя утехи возследователем вашим! Просим убо тебя со всем сим всепьянейшим собором: умножи сугубо и настави сего вселенского князь-цезаря стопы во еже тещи вслед тебе! И не точию тещи сему, но и во власти сущих вести. Такоже да вси последуют стопам твоим! И ты, всеславнейшая Венус, множа умножи от своего (неприличное слово) к сего заднему! Аминь!“»
Хотя тексты эти и были опубликованы М.И. Семевским в работе «Петр Великий как юморист», но право же, более чем шуточное представление, они напоминают некий сатанинский обряд.
И поскольку по времени все совмещается с ожиданием в Преображенском царевича Алексея, зловещая тень этого «обряда» ложится и на затеянное Петром «следствие».
В последний день января 1718 года Алексея привезли в Москву, а третьего февраля – Петр I и не собирался вспоминать, что обещал простить сына! – был оглашен манифест об отрешении царевича от престола и сразу же произведены аресты среди его друзей.
В петровских застенках применялись такие изощренные пытки, что и мужественные, не раз смотревшие в лицо смерти, стрельцы становились здесь болтливыми, словно бабы, и возводили на себя и на своих друзей любую напраслину.
Но об обмане, на который пошел Петр I, заманивая царевича на расправу, написано достаточно много, точно так же, как и о жестокости пыток, под которыми умер царевич…
Сейчас скажем только, что 27 июня 1718 года, на следующий день после зверского убийства сына, Петр I составит инструкцию своим заграничным министрам, как следует описывать кончину Алексея.

Н. Ге. Петр допрашивает своего сына царевича Алексея Петровича в Петергофе
После объявления сентенции суда царевичу «мы, яко отец, боримы были натуральным милосердия подвигом, с одной стороны, попечением же должным о целости и впредь будущей безопасности государства нашего – с другой, и не могли еще взять в сем зело многотрудном и важном деле своей резолюции. Но всемогущий Бог, восхотев чрез собственную волю и праведным своим судом, по милости своей нас от такого сумнения, и дом наш, и государство от опасности и стыда свободити, пресек вчерашнего дня его, сына нашего Алексея, живот по приключившейся ему по объявлении сентенции и обличении его толь великих против нас и всего государства преступлений жестокой болезни, которая вначале была подобна апоплексии. Но хотя потом он и паки в чистую память пришел и по должности христианской исповедовался и причастился Св. Тайн и нас к себе просил, к которому мы, презрев все досады его, со всеми нашими зде сущими министры и сенаторы пришли, и он чистое исповедание и признание тех всех своих преступлений против нас со многими покаятельными слезами и раскаянием нам принес и от нас в том прощение просил, которое мы ему по христианской и родительской должности и дали; и тако он сего июня 26, около 6 часов пополудни, жизнь свою христиански скончал».
Как это было сказано в записке, озаглавленной «О блаженствах против ханжей и лицемеров»?
Главный грех – ханжество и лицемерие… Ибо первое дело ханжей – сказывать видения, повеления от Бога и чудеса все вымышленные, которых не бывало; и когда сами оное вымыслили, то ведают уже, что не Бог то делал, но они…
Но что же делает сам Петр I, объявляя, что Всемогущий Бог, восхотев чрез собственную волю и праведным Своим судом, по милости Своей нас от такого сумнения, и дом наш, и государство от опасности и стыда свободити, пресек вчерашнего дня его, сына нашего Алексея, живот? Ведь Петр же знает, что его сын умер под пытками, которым его подвергли по его приказу! Это действительно верх лицемерия… Говорить такое мог только человек, действительно страха Божия не имущий.
9
Когда в Москве рвали ноздри у друзей и близких царевича, резали языки, сажали их на колья, и появилась в Шлиссельбурге первая узница – ею стала сводная сестра государя, царевна Мария Алексеевна.
Родилась она от брака царя Алексея Михайловича и Марии Ильиничны Милославской, и хотя никогда не вмешивалась в кремлевские интриги, но добрые отношения с сестрой, царевной Софьей Алексеевной, делали Марью Алексеевну подозрительной в глазах Петра I. Ну а симпатия к несчастной царице Евдокии, которую Марья Алексеевна не умела скрыть, окончательно изобличила «государственную преступницу».
На допросе царевны выяснились ужасающие подробности совершенного ею преступления. Открылось, что и после пострига царицы Евдокии Мария Алексеевна продолжала поддерживать с ней связь, передавала письма Алексея и даже деньги!
Более того… Когда Мария Алексеевна после лечения в Карлсбаде возвращалась в Москву, она встретилась, оказывается, с царевичем Алексеем, уезжающим заграницу, и заставила его написать письмо матери.
Задавали во время жестоких пыток вопрос об этой встрече и царевичу Алексею и выяснили, что «царевна Марья ведала о его побеге и говорила, что в (народе) осуждают отца, будто он мясо ест в посты и мать (Алексея) оставил».
«Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: на что еще нам свидетелей?» – свидетельствует Евангелие.
Так и Петр I.
Доказав себе, что царевна Мария Алексеевна участвовала в государственном преступлении, он с легким сердцем заточил шестидесятилетнюю сестру в Шлиссельбургскую крепость.
По некоторым сведениям, царевну Марию Алексеевну в дальнейшем – отходчивое сердце было у ее державного брата! – перевели под домашний арест в особый дом в Петербурге.
Однако расплывчатость и неопределенность сведений о конце ее жизни позволяет предположить, что перевалившая на седьмой десяток царевна в Шлиссельбурге и завершила свой жизненный путь.
Считается, что деревянные хоромы, возведенные И.Г. Устиновым для Марии Алексеевны, стали первым тюремным зданием крепости. Эти деревянные светлицы в 1720 году были разобраны и отправлены водою в Санкт-Петербург.
Ну а царевич Алексей умер 26 июня 1718 года под пытками в Трубецком раскате Петропавловской крепости.
Из книг «Гарнизона»[27] мы знаем, что в этот день Петр I со своими ближайшими сподвижниками ездил в крепость и там «учинен был застенок». Видимо, государь снова пытал сына.
И так пытал, что тот нечаянно умер на пытке.
На радостях Петр I устроил на следующий день бал в Петербурге по случаю годовщины Полтавской битвы.
Он не знал еще, что Петр Петрович (Шишечка), второй его сын, ради которого и был замучен царевич Алексей, умрет уже на следующий год. При вскрытии выяснится, что Петр I напрасно освобождал ему путь к престолу – Шишечка был неизлечимо болен от рождения.
На этом и завершается драма, которую можно было бы назвать «Семейная жизнь первого русского императора». Начинается драма, которую предстояло пережить уже всему русскому народу, всей России.
Как пишет историк Д.И. Иловайский, «недостаток национальной политики в течение петербургского периода имеет своим началом излишнее преклонение Преобразователя перед иноземщиной и крайне неуважительное отношение к своей коренной народности, к ее вековым преданиям и обычаям, многие из коих заслуживали более бережного с ними обращения, а не жестоких пыток и казней или глумления над ними всепьянейшего собора, беспощадного брадобрития и т. п. Петр далеко не оценил громадных жертв, принесенных народом ради завоевания балтийских берегов, не оценил преданного, даровитого русского племени, которое сумело бы без особого принуждения усвоить себе действительно нужные и полезные преобразования, и только страстная натура царя, его нетерпеливость, тирания и не всегда присущее умение отличить необходимые реформы от несущественных вызывали в народной среде ропот и дух противоречия, доходивший иногда до явного неповиновения, особенно со стороны приверженцев старого церковного обряда, которые видели в нем даже антихриста. Культурный разрыв наружно европеизованных высших классов с народною массою, а также недостаток единения царя с коренным русским народом начались именно с Петра Великого. Этот недостаток единения поддерживался и усиливался благодаря в особенности немецким бракам, каковые явились одною из наиболее упрочившихся Петровских реформ».