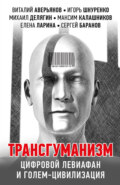Олег Бахтияров
Воля над Хаосом
Именно государство должно способствовать воцерковлению тех, кого можно воцерковить, вокультуриванию тех, кого можно вокультурить, овоениванию тех, кого можно овоенить. У государства должны быть своя самодостаточная плановая экономика, не подчиняющаяся рыночным правилам, но и не препятствующая свободной экономике народа.
10.4.3. Но должны быть и особые структуры, соединяющие в себе и творчество новых форм, и дисциплину военной организации, и трезвую оценку реальности разведывательными службами. Это и есть зародыш волюнтократии, создающий принципиально новую реальность вне норм и правил и обеспечивающий переход к Иному. Это такая же самостоятельная реальность, как народ и государство. Его силовая основа – силы и службы специальных операций, параллельные армии, но переходящие под начало армии в случае войны.
Экономическая основа волюнтократии – креативная экономика. Термин «креативный класс» в современной России в значительной степени дискредитировал себя, будучи неправомерно расширен на материально обеспеченный и образованный слой городских жителей, в основном офисных работников, независимо от выполняемых ими функций. Но исходное значение этого термина все же иное.
Понятие креативного класса, т. е. экономического класса, выполняющего творческую, связанную с созданием новых идей и их социальной реализацией работу, было введено Ричардом Флорида[108]. Для культурного, социального и технологического развития нужны творческие люди, рождающие новые идеи, которые потом превращаются в инновационные технологии с последующей продажей и использованием их результатов. До недавнего времени создание новых содержаний и открытие новых смыслов представляло собой преимущественно спонтанный процесс, результаты которого использовались в той мере, в какой они отвечали потребностям рынка или могли быть навязаны потребителю. Творческий продукт находил себе применение только при условии, что потребность в нем была достаточно выраженной. Но в креативном (или, говоря словами С. Переслегина, когнитивном) мире, в который на наших глазах превращаются общества Технологий, создание нового (новых знаний, новых смыслов, новых технологий) становится ведущим процессом и начальным звеном экономики и политики. Это уже не выборочное использование продуктов деятельности творческих людей, как было до сих пор, а порождение нового, независимо от его полезности. Творчество превращается в целенаправленно культивируемый процесс, что неизбежно влечет за собой серьезные технологические, социокультурные и политические изменения. На повестку дня ставится вопрос об институциализации деятельности творческих людей, а значит, и формировании новых социальных институтов, отражающих специфику творческого процесса и его место в эпоху Технологий.
Нужно различать прагматичное, спонтанное и волевое творчество. Прагматичное творчество направлено на решение поставленных конкретных задач, которыми оно мотивируется и управляется. Спонтанное творчество безмотивно – художник создает новый стиль потому, что он его создает. Волевое творчество порождает и новые задачи, и новые формы. Прагматичное творчество нуждается в спонтанном окружении (подобно тому, как наука, занимающаяся ядерной физикой и способствующая развитию ядерных технологий, эффективно развивается в системе, включающей исследования разнообразия узоров чешуйчатокрылых насекомых). Более того, условием эффективного прагматического творчества становится расширение объема творчества спонтанного.
Спонтанное творчество, подобно волевому, не нуждается в мотивации, оправданием и наградой творческого процесса является сам акт творчества. Только потом общество отбирает то, что может превратиться в продаваемый продукт в современном рыночном строе. Понимая мотивацию и амбиции творческих людей, нетрудно прийти к выводу – платой может быть только одно: новое знание, проект, идеи должны быть технологически реализованы независимо от наличия или отсутствия спроса на них. Это непривычный взгляд с точки зрения современного рынка, для которого является не подлежащей сомнению догмой, что технологии создаются ради продуктов, на которые есть или может появиться спрос. Считается, что инновации создаются рынком, а не внедрением научных разработок в приказном порядке. Но для креативного класса не потребление становится ведущим стимулом для изменений, а производство и реализация нового. И это новое должно получить жизнь, воплотиться не из-за его полезности, не потому, что на него есть спрос, а просто в силу того, что его произвело сообщество творцов, воплотиться как плата креативному классу за его место в экономике.
Творческая деятельность часто носит откровенно подрывной характер. Принципиально новое всегда было контркультурным действием, нарушающим сложившееся равновесие. Только постепенно культура, а потом и социальные институты осваивали это новое, ассимилировали его, включали в свою ткань. Инновации приживались лишь тогда, когда они вписывались в социокультурные стандарты: усиление власти и расширение потребления.
Повторим: до сих пор легитимными инновациями считались те, которые стимулировались рынком, а не порождались активным сознанием. В структуре же нарождающегося креативного мира первичным является творчество и его проекция на социальную и экономическую реальности – инновации. А мир приспосабливается к ним. Это весьма нетривиальная трансформация социальной реальности. Она влечет за собой изменения и в структуре власти, и в методологии управления. Если креативный класс становится ведущим и формирующим социальную и культурную ткань, то он, естественно, задает и свои нормы: поведенческие, ценностные, стилистические. Производство нового опережает потребность в этом новом. Технологическая экспансия «по всем азимутам» создает очень емкий мир, не на один порядок превышающий емкость известных нам культур. Быстрота его развития требует особых технологий управления социокультурными процессами, которые обнаруживают взрывной характер.
Взрывные процессы – одна из характеристик креативного мира. Это «быстрый мир», по выражению С. Переслегина. Но «быстрый мир» – это мир, из которого вынуты «тормозные стержни», в отличие от нормально живущего общества, где присутствуют эти «тормозные стержни», хотя и замедляющие процессы социального развития, но зато делающие их безопасными. «Быстрый мир» возникает только во время и на время войны, когда требования выживания и предельные напряжения заставляют «вынуть тормозные стержни». Скачки в авиации, космонавтике, судостроении, прикладной психологии, практике управления социальными процессами – это продукты войны. Управлять быстротекущими процессами может и любит только одна разновидность человеческих существ – военная каста, точнее, та ее часть, которая любит войну как воплощение граничного напряжения воли. Вспомним, что в Советском Союзе, несмотря на жесткий идеологический контроль и косность научных учреждений, в рамках программ, имевших прямое или косвенное отношение к обороне, позволялось практически все. Можно было нарушать принципы диалектического материализма и просто нормы научного исследования – армия поощряла креативность и порождала избыточную реализацию научно-технических идей. Внешние обстоятельства (война, для которой и существует армия) и внутренние обстоятельства творческих людей оказывались комплиментарными. Быстрый мир предельных напряжений – вот идеал для тех и других.
Преобразовать мир, спроецировать на него все потенции сознания (отнюдь не только рационально-механической стороны мышления) – это для творческих людей не меньший стимул, чем высокая оплата труда и возможность покупки дорогих яхт и футбольных клубов. Торговцам этот быстрый, опасный и избыточный мир не нужен, как не нужен он и потребляющей продукты и услуги основной массе населения. Именно поэтому утверждение позиций креативного класса – достаточно сложный и противоречивый процесс. Противоречия снимает волюнтократия, неотъемлемой характеристикой которой является именно культ творчества. Поэтому креативный класс становится опорой волюнтократии в такой же мере, как и силовые структуры. Креативный мир – это сегмент волюнтократии: необычной диктатуры, направленной на стимуляцию разнообразия и постоянное создание новых форм. Волюнтократия означает, что мир перестает быть рабом социальной стимуляции, что поведение человека, этноса, культуры вновь начинает управляться свободной волей. На смену формуле Тойнби «Вызов – Ответ» приходит другая формула: «Воля и ясное сознание – созидание нового мира».
«Быстрый мир» обсуждается как проект и как возможность. Он отличается от обычного мира тем, что изменения не успевают закрепиться в правилах. Нормативное управление процессами «быстрого мира» невозможно, и у его обитателей остается два варианта: или отказаться от защитной роли правил и нормативов, стать реакцией на Хаос, либо перейти к непосредственному волевому управлению, минуя консервативные правила.
10.4.4. И есть Церковь, четвертый фактор — «весть оттуда». Церковь вводит народ, государство и волюнтократию в соприкосновение с тем, что «по ту сторону». Церковь придает всей цивилизации смысл существования. Ее кадровый состав порождается народом, государство обеспечивает ее защиту, волюнтократия превращает религиозные символы в новые культурные концепты и социальные структуры. Любая идея искажается, любой проект «загрязняется» дополнительными смыслами, которые развернуты в среде реализации проекта. Борьба с искажениями «отсюда» – задача волюнтократии, борьба с искажениями «оттуда» – задача Церкви.
У каждой из этих четырех цивилизационных основ есть свои способы существования и свои способы воспроизведения своей структуры. Их сосуществование создает взаимные ограничения и стеснения и требует особой координации, напоминающей принятое в развитых демократических режимах разделение властей на исполнительную, законодательную и судебную. Народ, государство, волюнтократия и Церковь – разные, но согласующиеся аспекты жизни гиперцивилизации Воли. В этом различии в разных пропорциях проявляются позиции по отношению к Большим Процессам и главной ценности Сознания – Воле. Государство в максимальной степени соотносится с Большими Процессами, а Церковь воплощает «перпендикулярный» Большим Процессам аспект – аспект свободной Воли и направленность за пределы Сознания. Судьба народа предопределяется сложным взаимодействием Больших Процессов и «перпендикулярной» им Церкви. Волюнтократия действует в пределах Больших Процессов, но источник ее действий – позиция Воли, соотнесенная с трансцендентными устремлениями Церкви.
10.5. Реальность волюнтократии неизбежно будет отличаться от картин, представляющих проекции сегодняшнего дня.
Волюнтократия становится промежуточным звеном между цивилизацией как совокупности действий, ее составляющих, и Большими Процессами. По отношению к цивилизации волюнтократия начинает исполнять роль Больших Процессов. По отношению к Большим Процессам – роль партнера, что и является условием формирования собственного вектора развития волюнтократии. В этой роли волюнтократия реализует двойственность человеческого существа как части Больших Процессов и как совершенного иного вектора – вектора свободы.
Практика смыслового, а не нормативного управления будет проецироваться и на технологии. В основаниях волюнтаристского управления лежат акты порождения новых реальностей и модификации реальностей существующих, а значит, и технологии управления реальностью должны быть организмическими в отличие от нормативного управления, предполагающего строительство реальности из нормативных кубиков.
Волюнтаристский скачок сопряжен с принятием иной онтологии, нежели та, что лежит в основе современных технологических подходов. Если феноменальный мир видится как соприкосновение Сознания и ТК, а центром Сознания является Воля как порождающее начало, то именно акты Сознания могут стать основой технологий организмического типа.
Волюнтократия не может быть создана силами государства, тем более в рамках представительской демократии, условием которой является снижение культурного уровня народа, низведение его до роли зрителей, выбирающих наиболее импозантного артиста на политической сцене. Представительская демократия оперирует симу-лятивными образами, а не реальными проектами, и потому для своей устойчивости порождает невидимую криптократию. Поэтому представительская демократия является крайним антагонистом волюнтократии. Становление волюнтократии возможно только в условиях режима «четверки», где она может стать одной из его составляющих и начать самостоятельное движение. Зародыши волюнтократии появляются рядом с государством, развивают себя не в противоречии с ним, но и не становясь его частью, помогают государству, как своей внешней оболочке, в периоды его кризиса. Волюнтократия не мешает никому, но, поскольку ее функция – усиливать, она усиливает и государство как военную машину, и народ как живое начало, и возвращает Церкви ее позиции. Вопрос не в том, чтобы придумать очередные политические формы и стать их узником, а в том, чтобы люди Воли начали согласованное движение вперед. Главный враг волюнтократии не существующие и будущие режимы. Главный враг – Искажение, ведущее к подмене и имитации.
Волюнтократический проект предполагает, что в нем действуют люди свободные и ответственные. Свобода+ответственность – основа христианской ориентации в мире. Христианский взгляд на Мир многогранен и многоаспектен, он не может быть сведен к одной схеме. Один из аспектов – наличие потенциальной свободы Сознания и понимание свободы Воли как высшей ценности в земном существовании человека. Собственно, три задачи человека и создаваемой им цивилизации и состоят в пробуждении Воли, исправлении Искажений и соучастии в процессе Творения. Свободная Воля – высший божественный дар. Но природа человека искажена, и человек сам ответствен за это состояние. Выход – в исправлении ошибки.
В. АВДЕЕВ:
«Таким образом, основные усилия философии, психологии, социологии и педагогики сегодня должны быть сосредоточены на кристаллизации представлений о цели и развитии позитивной воли в нашем народе. Русский народ должен окончательно и бесповоротно изжить в своем характере такую тлетворную черту, как способность активизации воли только через эмоциональную самостимуляцию»[109].
10.6. Гетерогенизация и гомогенизация. Идеи разделения человеческого вида на несколько ветвей имеют под собой вполне реальную основу: люди различаются и по своим фундаментальным качествам, и по своим ориентациям.
Разделение идет по нескольким линиям. Часть людей в условиях рискованного выбора может задать себе вопрос: «Неужели мой страх сильнее меня?» и, ответив на него, действовать вопреки страху. Но другие люди себе этот вопрос не задают, и страх последствий управляет ими. Следующий вопрос: «Неужели мои желания сильнее меня?» Ответ на него производит очередное разделение. И, наконец: «Неужели мои мотивации сильнее меня?» Последовательность этих вопросов подводит к фундаментальному разделению на тех, кто может смотреть на себя из отстраненной позиции, и тех, кто отождествлен со своими страхами, желаниями, мотивациями – со всем тем, что не является его «Я». Взгляд из пустоты, из «ничто» порождает новые ориентации – часть сознательных существ стремится к упразднению любых форм сознания, другая – к действию из этой точки «ничто», которая в этом случае становится точкой созидающей Воли.
Люди различны не только по своим антропологическим характеристикам, но и по принадлежности разным социальным стратам, и по выполняемым функциям. Это обстоятельство создает предпосылки для разделения по социокультурным, а не по антропологическим критериям. Традиционные империи и современные технологически ориентированные государства полиэтничны и многоконфессиональны. Но при этом воспроизводят разделение по ролям – социальным и культурным.
Но есть и более глубокое разделение – по фундаментальным ориентациям в мире: или на свободу, или на подчинение, или на уход из мира. Одна часть людей живет в случайном мире, в неорганизованной неразберихе, где нет никакой целенаправленности, а есть случайные и хаотические события, но другая видит в окружающем мире целенаправленные процессы, подобные процессам жизни. Кто-то ограничивается этим, а кто-то понимает эту целенаправленность как продолжающийся процесс Творения и стремится как-то соотнестись с ним.
Кто-то довольствуется феноменальным миром и не задается вопросом, что за его пределами, кто-то задумывается о невидимых основах и своих взаимоотношениях с ними. При этом некоторые, видя искажения в реальном мире, берут ответственность за это искажение на себя, другие же воспринимают себя как жертву. Все это разные типы людей.
Межчеловеческие различия приводят к дилемме: либо эти различия просто фиксируются и каждому из них в той или иной степени находится место в цивилизационной системе, либо вводятся критерии высшего-низшего и осуществляется преобразование существ более низкого статуса в более высокий. В первом случае принимаются различия и фиксируется неравенство людей в цивилизационной структуре, во втором люди рассматриваются как носители ресурсов сознания, из которых можно «вылепить» сознательное существо более высокого порядка. Эта моральная дилемма остается непреодоленной. Даже внедрение в сознание людей механизмов внутреннего преобразования и мотивации к преобразованию представляется все же внешней и принудительной операцией, изменяющей исходную природу преобразуемого существа. Собственно, это и есть дилемма волюнтократии: отбирать «своих» из фактичности или «изготавливать» из «подручного материала».
Цивилизационные проекты различаются по отношению к проблеме гомогенности/гетерогенности. Мы можем говорить об ориентации на гомогенные (однородные) и гетерогенные общества. Гомогенность не может быть абсолютной, она всегда какая-то – социальная (в идеальных коммунистических проектах), расовая (в национал-социалистических), религиозная (в теократических). По отношению к волюнтократии гомогенность означала бы сообщество только людей с пробужденной Волей. Но реальные общества всегда в той или иной степени гетерогенны.
В ответ на поставленный в практико-политической плоскости вопрос, гомогенизация общества или гетерогенизация, НС выбрал принцип исходной (антропологической) однородности, гомогенности, либерализм постепенно пришел к радикальной гетерогенности (отсюда и права меньшинств, и поощрение миграционных процессов), коммунизм пытался начать движение к принудительной социальной гомогенности при этнической и расовой гетерогенности (унификация).
Волюнтократическая гомогенность – формирование круга людей, принявших в качестве одной из главных задач земного существования пробуждение Воли и действия в обусловленном мире с этой позиции, действия, понимаемого как религиозный долг.
Волюнтократическая гетерогенность – солидарность со всеми проявлениями Сознания как такового. Признание ценности других форм Сознания и стремление расширить зону взаимодействия Сознания с внесознательными факторами. Тогда Сознание понимается как тот исходный пункт, с которого и начинается действие.
Переход к Технологиям до настоящего времени явственно демонстрирует технологическую унификацию различных цивилизационных типов. При этом до сих пор принцип внутренней гетерогенности сохраняется как некая очевидность.
Но и ориентации технологических цивилизаций могут не совпадать: различия можно усилить и технологически создать разные типы цивилизаций, не соприкасающихся между собой. Этому препятствует «горизонтализация» культуры и общая секуляризация – технологические различия, не имея под собой ценностной основы, легко устраняются по принципу отбора наиболее совершенных технических решений. Раньше противопоставление цивилизаций и сообществ друг другу происходило по какому-либо признаку – религиозному, идеологическому, культурному, расовому. Но Технологии подводят под этими различиями черту, выстраиваясь в такую последовательность, которая ведет к технологическим линиям, независимым от этих различий. Собственно, мультикультурность и уравнивание полов и сексуальных ориентаций является лишь символическим отражением этого процесса – техногенез становится автономным и не зависящим от человеческого материала. Представления о власти цифры и искусственного интеллекта – из этой же области. Различия (метафизические и ориентационные) между людьми становятся второстепенными, поскольку социальные структуры начинают упорядочиваться не по ценностному, а по технологическому вектору. Различия людей определялись ответом на вопрос «зачем?», который в технологическую эпоху вытесняется вопросом «как?».
Различия вносит волюнтаризация. Она вводит новое ценностное разделение, имеющее свои религиозные истоки, но отражающее их в своей специфической форме: различие людей с пробужденной Волей и людей, принципиально ориентирующихся на обусловленность различными факторами. Это различие, в свою очередь, будет подкрепляться и технологическими ориентациями. V-Технологии будут непонятны людям обусловленности: то, что создается с позиций необусловленной Воли, радикально отличается от того, что может создать обусловленный различными факторами интеллект.
Уже сейчас понятно, что можно сделать из позиции ниже жизни – превратить мир, в котором живет человек, в компьютерную метафору. И что можно сделать из позиции выше жизни – позиции Воли: усилить жизнь и увеличить ее разнообразие.
В мире, в котором смыслы порождаются Волей, нет иерархии высших-низших. Люди различаются по своим качествам, в том числе и по своим фундаментальным ориентациям. Для волюнтократии, понимающей себя как передовой отряд Сознания, все модификации Сознания обладают одинаковой ценностью. Волюнтократия, выходя из позиции Воли, погружаясь в обусловленный мир, действует так же, как и другие люди, входя в те же отношения, но сохраняя свою связь с миром Воли. Здесь нет эксплуатации и презрения. Но ложное самоумаление во имя интересов тех, для кого Свобода не является высшей ценностью, исчезает. Самоумаление означало бы целенаправленное снижение уровня бытия для тех, кто способен жить, руководствуясь пробужденной Волей. Волюнтократия никого не обслуживает и никого не эксплуатирует, но усиливает жизненный потенциал тех, кто предпочитает остаться в положении людей, полностью управляемых Культурой. Волюнтократия усиливает народ и государство, поскольку является их порождением и их частью, но не обслуживает их, а работает на свой проект. Волюнтократия, являясь авангардом Сознания, усиливает все формы Сознания, помогает им в их полноценной реализации, но не позволяет ослаблять себя и возвращать себя в условия обусловленности. Не следует забывать, что народ, породивший волюнтократическое сообщество и государство, в котором оно реализовано, является «матерью» волюнтократии и к этому рождающему началу должно быть соответствующее отношение.
Противопоставление волюнтократии тем, для кого Воля осталась лишь понятием, а не реальностью, – это трагическая дилемма, следствие Искажения, и эта дилемма несет в себе потенциальную опасность реванша Искажения.
10.7. Архетип Искажения. Врагом V-проекта, как и всех других культурно-политических проектов, является их искажение, которое должно быть понято как реализующийся в реальной жизни архетип.
Мир искажен, искажен и человек. Искажение влечет за собой двойственность всего: в каждом позитивном проекте заложены семена искаженной имитации, означающей нечто противоположное декларируемому. Любая культурная форма становится двойственной: форма есть ограничение смысла. Формы связываются с формами, и эта связь, делая их самодостаточными, с неизбежностью искажает первоначальный замысел.
Самое опасное искажение V-проекта – его имитация. Волюнтократия создает предпосылки для максимально возможного развития всех нижележащих страт, поскольку их активность не затрагивает интересов волюнтократии. Но вместе с тем волюнтократия – это власть, хотя и свободная от подчинения текущим страстям. Власть же притягательна для страстных натур, одержимых потребностью власти. А волюнтократия – это именно власть, пусть над одним из сегментов цивилизации, но самым важным. К тому же быть волюнтократом престижно: люди воли всегда ценились выше тех, у кого волевое начало ослаблено. Это порождает стандартное искажение: приток в проект людей активных, пассионарных, но имеющих совершенно иную природу, нежели люди Воли.
Это стремление попасть в высший слой накладывается на извлечение волюнтократией из общего тела народа людей своей породы, и смешения здесь возможны. В мифе о смешении нордической расы с окружающими племенами этот мотив хорошо прослеживается. Волюнтократия на первых порах должна ограждать себя от людей иных качеств, лишь постепенно окружая себя людьми творчества и долга и создавая доктрины, способные придать смысл их существованию, не противоречащий волюнтаристским установкам.