полная версия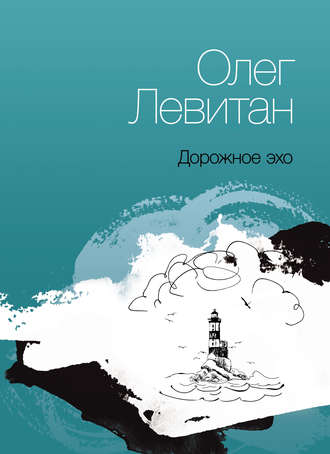
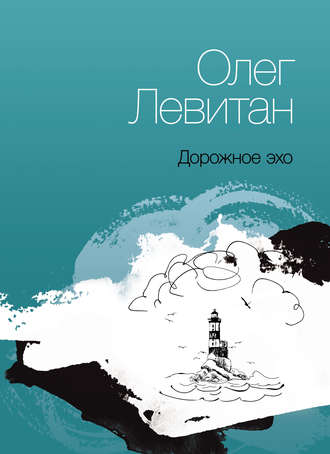
Олег Левитан
Дорожное эхо
Собака
У автовокзала, на ржавом от пыли асфальте,
где намертво влипли в асфальт то окурок, то фантик —
бастует собака. Собака лежит – и бастует.
Она против жизни собачьей такой протестует.
Кудлатая псина – она привлекает невольно
вниманье болезных старух и детей сердобольных.
Но даже на сахар не смотрит, такая досада…
А если и смотрит, то холодом веет от взгляда…
У автовокзала, где молча бастует собака,
автобусов ждут – то веселье возникнет, то драка.
И «хроник» по-нашему, или по-местному «алик»
в иссохшее горло вливает, зажмурившись, шкалик.
А солнце все выше. Асфальт размокает, как тесто.
Но псина лежит, нет конца забастовке протеста.
И каждый, кто взгляд на себе ощущает собачий,
отводит глаза, словно совесть кольнувшую прячет.
А та шоферня – матерщинники, медные лица —
кричат из кабин ей: «Нашла же где, бля, развалиться!»
Понятное дело – собака движенью мешает.
Но каждый автобус ее стороной объезжает…
1977
«– Пей чай, остынет! – нет, не слышит…»
Т. К.
– Пей чай, остынет! – нет, не слышит.
И смотрит, будто сквозь стекло.
Негромкий дождь стекает с крыши.
На кухне тихо и тепло.
Но вот очнулась, оглянулась,
засуетилась у стола
и так смущенно улыбнулась…
– Послушай, где же ты была?
– Да так, забылась, – отвечает, —
потом, быть может, расскажу.
Давай-ка лучше выпьем чаю,
давай варенья положу…
– Ну положи… – ведем беседу.
И вот уже я сам лечу
за мыслью призрачной по следу
и чайной ложечкой бренчу.
А мысль уже за краем света
во мгле резвится и парит…
И нежный кто-то рядом где-то:
– Пей чай, остынет! – говорит.
1979
«Так в детстве было хорошо…»
Так в детстве было хорошо
мечтать, ершась, как петушок,
обиду горькую лелея, —
вот заболею на́зло всем
или умру не насовсем,
тогда все вспомнят, пожалеют!
Начнут вокруг меня ходить
и жженым сахаром поить,
кастрюльку каши манной сварят,
и яблок принесут, и в ряд
положат их, и всё простят,
с получки курточку подарят…
Теперь не то – уходишь в ночь,
винишь обидчицу, точь-в-точь
как в детстве, в том, что получилось,
но остываешь на ветру
и думаешь уже к утру —
не заболею, не умру,
вот с ней чего бы не случилось!..
1979
Парк Сосновка
В. Сурову
– И это жизнь? Довольно, хватит!
И в спорах должен быть предел! —
И к сигаретам – прыг с кровати,
и в ночь, и плащ едва надел.
Вон там, за парком, в доме блочном
живет приятель давний мой!
К нему с визитом неурочным —
два километра по прямой!
Он мне сейчас роднее брата,
он правоту мою поймет;
я утешал его когда-то,
ну что ж, теперь его черед!
Вперед – сквозь тьму и стынь, где звезды
серебряные, как мальки,
стремглав пронизывают воздух,
и кроны сосен высоки!
Вперед – к березам на опушке,
что пряди свесили до пят,
и на всех ветках до верхушки —
вороны спящие висят!
Сберег же кто-то нам Сосновку…
И вдруг опомнится душа,
пейзаж примерит, как обновку,
и убедится – хороша!
Еще бы лунный свет добавить
или туману волю дать!
И локон тот – вот так – поправить,
и эту ветвь – вот так – прибрать…
И все. И можно возвращаться.
А там все то же, все – точь-в-точь…
– Послушай, что нам препираться?
Такая ночь,
такая ночь!..
1979
* * *
Снова два монолога
в диалог сведены.
И ноябрь у порога.
И сады сожжены.
И затеял круженье
хоровод снеговой…
Выяснять отношенья
мне и ей не впервой.
А она глаза прячет
и молчит у окна —
за полслова до плача,
за полночи до сна.
И понять ее душу —
как скворца воробью.
И не скажешь: «Послушай!»
Не услышит: «Люблю…»
Мир становится шаток,
обвалиться грозя.
И не скажешь: «Нельзя так…»
Ей известно – нельзя.
И сидим, как на тризне.
Тут зови, не зови.
…Вся запутанность жизни —
против нашей любви.
1979
* * *
Заглянул во вчерашнее – встретил развал,
суету да понурость…
То юродство, что раньше добром называл,
нынче злом обернулось.
И любовь, что была, износилась уже.
И тоска – все бесплодней.
Как рубашку сменить, захотелось душе
новой жизни сегодня.
Говоришь: «Я отныне в тот дом не ходок,
я к себе без поблажки!..»
Говоришь – ощущая уже холодок
этой новой рубашки.
Говоришь, и как будто над бездной стоишь,
и мурашки по коже…
Но к обеду, глядишь, эта новая жизнь —
на былую похожа.
1970
Под вечер
Раздумьями, как сном,
объяты сад и дом —
с дремучим стариком
и псом, на вид угрюмым…
Накрапывает дождь,
вгоняет листья в дрожь —
во все заботы вхож
и сам подвержен думам…
Он думает, что сад
его касаньям рад —
соцветьями объят
и огражден штакетом…
А сад себя для глаз
расправил напоказ —
и думает сейчас,
но вовсе не об этом…
Он думает, что пес,
который кость унес
в тайник у двух берез —
смешон своим секретом…
А псу и невдомек,
на лапы мордой лег —
и размышляет впрок,
но вовсе не об этом…
Он думает, что вот
хозяин в дом нейдет,
небось, кого-то ждет
с подначкой иль приветом —
да время ль для гостей?
Мокро́ в округе всей…
А сам старик Евсей
колдует над кисетом,
и в круге пестрых дум —
и сад, и пес, и шум
дождя, и хитрый кум,
который прошлым летом,
когда возил кирпич,
зажилил магарыч…
Заглянет старый хрыч —
напомнить бы об этом!..
А дождь уже прошел.
И только капель щелк.
И вечер звездный шелк
развесил по сырому…
И сад стоит в цвету
и пахнет – на версту!
И кум сквозь темноту
сворачивает к дому…
1979
Гусь
Гусь ранен был некрупной дробью влет.
Он медленно снижался, словно планер…
Стрелявший, симпатичный с виду парень,
сказал: – Ништо! Далеко не уйдет!
Другой сказал: – Да вроде все к тому…
А гусь летел, летел с упорством странным,
и вдруг с надрывным клекотом гортанным
его собратья кинулись к нему.
Два – по бокам, а третий поднырнул
и снизу, шею вытянув струною,
стал вверх его подталкивать спиною —
и раненый крылами вдруг взмахнул!
И выше, выше – в синий небосвод,
где не страшны уже ни дробь, ни пули!
И вновь ослаб, и снова подтолкнули…
Кружил, мелькал гусиный хоровод…
И всё – ушли. И, плюнув в рыжий мох,
стрелявший бормотнул:
– Ушел, чертяка!
Другой сказал:
– Стрелять учись, растяпа… —
и тоже уронил протяжный вздох.
1979
* * *
«Помнишь, ночь была на свете?.. Ночь без времени и края…»
М. Кононову
Помнишь, ночь была на свете?.. Ночь без времени и края…
На недвижимые воды звезды падали, сгорая…
А на смену им другие – появлялись и сверкали…
Чьи-то спутники цепочкой Млечный Путь пересекали…
Будто мрачный страж созвездий, где-то филин гулко ухал…
В позе сфинкса теплый псина – наш товарищ лопоухий —
у моих коленей замер, величавый и бесстрастный…
Помнишь, ты шутить пытался, но неловко, но напрасно…
А рыбацкий сын Серега – парень в возрасте Ромео —
на корме сидел неслышно – оробелый, онемелый,
и курил умело «Север», и глядел сквозь дым на звезды…
Ты сидел на веслах, звезды тихо звякали о весла…
И казалось, что в пространстве мы уже лет двести плыли
и в морщинах курток наших было столько звездной пыли,
что когда бы ни пришлось нам в мир обыденный вернуться —
не удастся стать другими, не удастся отряхнуться…
1979
Строка
Д. Толстобе
Что ему – кнопка, Публия Клодия дочь?
В Риме красавиц – как в Геллеспонте акул!
Только мигни он – каждая будет не прочь…
Лесбию любит Катулл.
Этот мальчишка? Автор бесстыдных стишков?
Сам Цицерон на нахала рукою махнул!
– Нет, – возражают друзья, – он совсем не таков!
Лесбию любит Катулл.
Ну а девчонка нынче с другими нежна!
Кто подмигнул ей? Кто ему вслед хохотнул?
Горько Катуллу, но шлюха ему не нужна…
Лесбию любит Катулл.
Медленно Лета воды несет сквозь века.
И выплывает – вместо неронов и сулл —
эта живая, грустная эта строка…
Лесбию любит Катулл.
1979
* * *
«Соратница, сородич по перу!..»
И. З.
Соратница, сородич по перу!
Наш слог ленивый ей не по нутру —
живущей то в трагедии, то в драме,
то в посиделках с музой по ночам,
то волосы распустит по плечам,
и в каждом жесте власть и темперамент!
И – места не найдет из-за стиха!
Больна – из-за любого пустяка!
На улице столкнемся:
– Стой, куда ты?
– Прости, потом зайду поговорить,
мне в доме надо форточку закрыть! —
и понеслась, безумна и крылата.
Да что ж такого! Форточка – пустяк!
Но так спешит, как будто всё не так,
как будто – и заоблачные выси,
и вера, и любовь, и черт-те что —
походка, строчка, сон, ремонт пальто! —
от этой самой форточки зависят…
Но видно есть глубокий смысл и в том,
что так спешит в оставленный свой дом
печалей наших давний соглядатай!
У всех у нас такой сквозняк в дому,
что возвращаться боязно к нему
всем – не закрывшим форточку когда-то…
1979
Амур
Этот мальчик нехмурый —
ни курсов, ни школ не кончал.
Все печали Амура —
о том, что пустеет колчан.
Кто там, встретивший деву,
поразился и встал, чуть дыша?
Чья, под ребрами слева,
запела, забилась душа?
Сумасшедшая пляска!
Не выдержит сердце ее…
О, опасно влюбляться!
Опасно дразнить острие!
Мальчик – меткий охотник
и знает мирские дела!
Ах, в кого там сегодня
тихонечко тюкнет стрела?..
У кого там – от муки
и сладкое слово горчит?
Из кого – и в разлуке! —
стрелы оперенье торчит?
1979
«Ты скажи мне, заряночка, что ты, о чем это ты…»
Ты скажи мне, заряночка, что ты, о чем это ты
распеваешь в зеленых ветвях посреди небосвода?
Или мало забот в это шумное времечко года,
иль врагов не таят молодая трава и кусты?
Или есть кому выслушать твой безоглядный мотив,
или можно и впрямь не таить – среди драки и торга,
среди всей этой сволочи! – чувство любви и восторга,
не сфальшивив ни нотой и сердца тоской не смутив?..
И сказала заряночка: «Песня моя не о том…
Что житейские горести, проза гнезда и потомства!
Да и стоит ли жить, поминутно боясь вероломства,
да и стоит ли петь, похвалы дожидаясь потом!
Эта песня моя о волшебной весенней поре,
о сверкающем мире, который для песен не тесен,
эта песня о том, что певцы существуют – для песен!
Остальное не в счет, остальное не в счет – на заре…»
1979
* * *
«В лесу на нижнем этаже…»
В лесу на нижнем этаже
светло от близости заката.
Был дождь, и дымкою объята
листва, и высохла уже.
И сотни солнечных лучей
продолжены, как по линейке,
во все углы во все лазейки:
вот гриб, вот птаха, вот ручей,
и водомерок легкий флот,
и —
в папоротник забираясь:
– Эй, кто тут, ну?! —
а это заяц,
который трус и скороход!..
В толпе берез осин, ольхи —
кто заставал минуты эти,
тот жизнь увидел в лучшем свете —
намного лучшем, чем стихи.
1979
Тихий час в пионерском лагере
Птичьим веком накрыв равнодушный значок —
спит начальница лагеря… Сон ее веский
так солиден, что скрипнуть боится сучок
за окном и не тронет сквозняк занавески…
Пионерское лето – безветрие, зной.
Даже строчки о нем разомлели в тетради…
Долго спорят на кухне над пылкой плитой:
что на полдник готовить – печенье, оладьи?
На магнитную пленку записанный горн —
отключен. И радистка ушла по ромашки.
И июньское солнце томит небосклон.
И у сторожа водка мерцает в рюмашке…
И тогда – но несмело, с оглядкой на дом,
где начальница лагеря в неге и дреме! —
зяблик рвет тишину
озорным голоском,
и ворона крыло свое чистит на доме…
И тогда шустрый дятел стучит по стволу,
белка скачет, торопится шишки обшарить,
муравьи к муравейнику тащат иглу…
И решают на кухне —
оладьи поджарить!
И какой-то мальчишка, созрев для игры
лезет через окно, понимает, проказник,
что начальница лагеря,
зной,
комары —
это мелочи жизни…
Но жизнь – это праздник!
1980
Мичман
Любит мичман отставной
поболтать со мной в подсобке —
входит, с водкой за спиной,
говорит:
– Давай по стопке!
Я стакан ему подам,
и плывет басок негромкий:
как там ходят по морям —
на подлодках в «автономке»!
Как хотят домой к семье,
как, вернувшись, пьют от скуки,
как на Новой той Земле —
службу служат при науке!
Там, где атом в полный рост —
но чтоб я молчок об этом! —
лед и снег на сотни верст
заливает мертвым светом…
Полстолетья за спиной.
Подливай в стакан да слушай!
Вот сидит он предо мной
с папироскою потухшей.
Три семьи переменил.
Наплодил детей по свету.
Много надобно чернил —
описать планиду эту!
Всюду полный отставник.
Не начать судьбу по новой…
Рубит чурки истопник
для детсадовской столовой.
Рубит чурки – день за днем,
пьет, внушает бабам жалость…
Может, это так на нем
радиация сказалась?
Что нам всем трудней всего
знать? Что будет жизнь иная…
Вот, допустим, для него —
есть надежда? Нет, не знаю.
Да и знать – на кой мне черт!
Всех нас век не скупо тратит.
Запишите в общий счет —
пусть Грядущее оплатит!..
1980
* * *
«Худенькая – локти да ключицы…»
Худенькая – локти да ключицы…
Надо же такому приключиться:
двое тертых временем мужчин —
за девчонкой-пионервожатой! —
вьются день десятый и двадцатый,
безо всяких видимых причин…
Ей еще семнадцать, нам за тридцать…
А она нас дразнит, веселится —
эдак поглядит через плечо:
где вы тут? И нам не разминуться,
и в ответ лица ее коснуться —
боязно глазам и горячо…
Ладно б я, со мной всегда такое:
я влюбляюсь вмиг – и нет покоя!
Но очнусь и понимаю – блажь…
Ну а он, свирепый сын Кавказа!
Как вздыхал он, этот кареглазый!
Ах, да разве ж это передашь…
Вот какой сюжет несовременный…
А когда уехала со сменой —
нам рукой махнув издалека —
мы с ним сели рядом, закурили,
нас, как перед Богом, примирили,
уравняли – нежность и тоска…
…Может, повзрослеет к ледоставу,
вспомнит свою летнюю забаву —
как бродили следом два орла…
Спросит у ночного снегопада:
«Что им надо?..»
Ничего не надо.
Ничего. Спасибо, что была.
1980
Застолье
В уютный летний вечерок
они забрались в уголок —
и распечатали бутылку…
И о стакан стаканом – звяк! —
и по кусочку кое-как
поймали иваси на вилку.
Тогда сказал один из них:
«Вот мы сидим, и вечер тих, —
так он сказал, уже согретый, —
и рядом за стеной не спят,
и со стаканами сидят —
за этой вот стеной и этой!
И там, – он сделал резкий взмах, —
во всех бараках и домах
сидят – со светом и без света!
Такой же закусон едят,
такой же анекдот твердят —
сидят, а праздника и нету!..
Сидит вся область в тишине!
А поглядеть – по всей стране
сидят, от севера до юга!
И хоть давно уснул восток,
но собирает шепоток —
в такой же уголок у Буга!..»
Так он сказал на той гульбе,
и стало всем не по себе
от необъятной этой доли,
от подступающей тоски —
она ударила в виски…
«Ах, наливай скорее, что ли!..»
1979
«Скворец поет запоем – и когда!..»
Скворец поет запоем – и когда!
Уже багровы на прощанье клены,
и тяжелы от капель провода,
и холода построены в колонны…
О чем тут петь? В такие времена —
в охапку шапку и айда южнее!
Иль по сердцу тебе моя страна
и тяга к постоянству все сильнее?..
Картавый мой!
Сомнения забудь —
лети, лети, ищи судьбу иную!
Не беспокойся, я уж как-нибудь
здесь за обоих нас перезимую…
Перезимую, спрятавшись в пальто,
переживу, обувшись потеплее, —
да, без твоих неистовств, но зато
со снегирем в заснеженной аллее!
Лети, лети – твой жаркий свист в цене
там, где сирокко веют и мистрали!..
А мне бы оглядеться в тишине,
успеть до снега разглядеть детали
прекрасного —
его каркас, чертеж,
все, что листвою летом заслонялось
и щебетом…
Иначе не поймешь,
что в нем такого есть, какая малость —
зацепка – составляет существо
того, что чувством Родины зовется!..
Быть может, можно жить и без него…
Но это и скворцам не удается…
1979
Взгляд

«В хороводе и на карусели…»
В хороводе и на карусели —
хорошо, особенно сначала.
Вроде жизни крутится веселье —
лишь бы никого не укачало.
Знаю я спецов по этой части,
что скатились, круга не проехав,
в головокруженье от несчастий,
в головокруженье от успехов…
Вот и выход путают со входом,
вот и жизнь с усмешкой называют
каруселью или хороводом —
и не любят, и другой не знают.
1981
Зимняя баллада
На одной стороне дороги – сосна.
На другой стороне дороги – фонарь.
На столбе и ветвях – густошерстая изморось сна,
не спеша, подрастает весь день, потому что январь…
Целый день они спят, а дорога скрипит и скользит —
под ногами, колесами, лыжами – за поворот,
за поселок, за поле и лес, за край света бежит…
Вот и сказке конец, вот и ночь по дороге бредет.
Но когда, чертыхнувшись и брякнув в потемках ведром,
вышел дядя из будки и ржавый рубильник врубил —
разгорелся фонарь и лучистым своим серебром
стал сосну согревать, потому что влюблен в нее был.
Он еще в ноябре в первом снеге ее разглядел —
и с тех пор каждый вечер, очнувшись, распугивал тьму,
и все шею тянул, все к ветвям прикоснуться хотел…
И она, вся искрясь, над дорогой тянулась к нему.
О, нелепое чудо, о, радость свиданья в ночи!
Свою жизнь оглядев, я пред ними качну головой…
Я тебя разлюбил, ты забыла меня, и ключи
от недолгого счастья – под снегом, листвой и травой…
И опять рассветет. И опять – только изморось сна
на столбе и ветвях. И дорога уносится вдаль…
На одной стороне дороги – сосна.
На другой стороне дороги – фонарь.
1981
Свитер
В дому, где за полночь в окне
не гаснет свет у изголовья,
красивый свитер вяжут мне,
и каждая петля – с любовью.
Я вижу – как не увидать? —
зачем я в этом доме нужен:
чтоб теплым свитером объять,
и приручить, и сделать мужем
своим – и холя, и любя,
и пестуя… А свитер ярок!
Но я же знаю сам себя —
о да, я тот еще подарок!
Ведь вот же счастье дураку!
Но, видя ловкую работу,
в себе смущенье и тоску
я ощущаю отчего-то.
И тянет в темень поездов.
И тягостно от хладнокровья.
А свитер мне уже готов,
и каждая петля – с любовью…
1984
Чайка
Ты можешь подняться выше, Джонатан, потому что ты учился, Ты окончил одну школу, теперь настало время начать другую…
Р. Бах. «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»
Рыжий траулер к стенке приник после плавания.
Чайки ловят отбросы и жрут на лету.
Запах угля крадется из Угольной гавани,
словно кошка, на запахи в Рыбном порту.
Кран портальный скрипит. Небо ватой спеленато.
Чьи там крылья сверкают опять надо мной?
Я живу на земле, не смущай меня, Джонатан,
приглашеньем к немыслимой жизни иной!
Я и все мы – ручные, верней, прирученные —
обреченные помнить, что крылья слабы!
Все мы здесь, на земле, на ошибках ученые,
все закончили тусклую школу судьбы!
Мы – в земном пилотаже умельцы и практики!
Гей, друзья мои, где вы? Зови, не зови —
разлетелись друзья мои, словно галактики,
растеряли по перышку крылья свои…
Вот и машем рукой – это, мол, от лукавого!
…Чайки ловят отбросы и жрут на лету.
Запах угля крадется из Угольной гавани,
словно кошка, на запахи в Рыбном порту.
И все дальше, все выше над берегом глинистым —
все несбыточней – зная о том наперед,
реет чайка по имени Джонатан Ливингстон,
в одиночку раскручивая полет…
1981
Сны
Спит мальчуган с ладонью под щекой.
В пучине вод, в отсеке спит подводник.
Спит продавец, и вздох во сне такой,
что сам вздохнешь…
Что снится им сегодня?
И психоаналитик видит сны —
и сам себе бормочет: «Мило, мило…»
Спит населенье города, страны.
Раздумьями писателя сморило…
Треть жизни, проводимая во сне,
заполненная перевоплощеньем,
полетами, тоской о лучшем дне,
и жалостью, и счастьем, и мученьем…
Других две трети, вон они – вокруг!
А эта вся внутри, вся в человеке!
И он весь в ней: сам враг себе, сам друг —
пока однажды не уснет навеки…
Сам режиссер, сам зритель, сам герой,
сам говорит чужими голосами…
А что во сне не ладится порой,
так и вокруг всё так – смотрите сами!
1982
«О, если б слякоть, или дождь…»
О, если б слякоть, или дождь,
иль хоть какое невеселье!
Нет, жизнь – прекрасна, день – хорош.
Тут – свадьба, рядом – новоселье.
Стучат папаши в домино,
вполне довольные собою.
По телевизорам кино
идет с любовью и стрельбою.
За тополями слышен смех.
Фонтан журчит – такая прелесть!
Гуляют пары, и на всех —
сплошные «Адидас» и «Левис»…
Куда же, закусив губу,
так смотрит женщина вот эта?
И прядь волос, скользнув по лбу,
не в силах спрятать слез от света.
Она глотает седуксен.
И снова руки опустила.
Как будто счастье дали всем,
а ей – последней – не хватило.
– Чем вам помочь? – спрошу, спеша.
– Нет, нет, не стоит беспокойства!
…И зябко ежится душа
от мирового неустройства…
1982
Теплые дни в октябре
Не спешит удача к человеку —
жизнь полна рутины и тоски…
Посреди судьбы на склоне века
он устало трогает очки.
То любовь забытая приснится —
взгляд ее, смешная челка та…
То чужих пейзажей вереница —
побывать в Италии мечта…
Но семья и прочие препоны —
неизбывно держат на черте.
А на даче, в Вырице зеленой,
хороши пейзажи, да не те…
А года уже не молодые.
А листва скребется по земле.
Вот уж и виски полуседые —
заморозки были в сентябре.
Вот уж и серебряное млеко
потекло с небес, еще чуть-чуть —
и погасят вьюги человека…
А мечта с любовью – как-нибудь.
Но в четверг, с самой природой споря,
вслед размытым рыжим облакам —
терпкий воздух Средиземноморья
потянулся к невским берегам!
Потянулся – медленный и жаркий,
каждою молекулой своей
помнящий собор Святого Марка,
церковь Санта-Кроче, Колизей!
Словно кто-то взгляда с нас не сводит
и, когда невмочь, он тут как тут,
и в садах с ума деревья сводит…
Вон они – проснулись и цветут.
Ах, в такую пору все бывает!
И любовь, восстав из забытья,
его имя в трубке называет,
тихо шепчет:
– Здравствуй, это я…
1981


