полная версия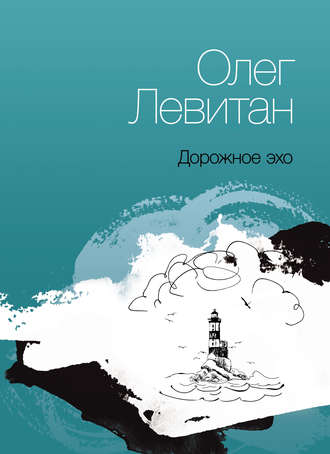
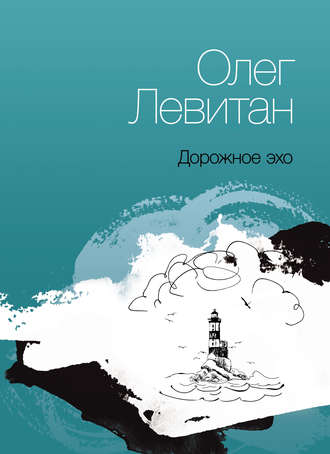
Олег Левитан
Дорожное эхо
Фонтан
О, дивных струй полет и бег —
столь расточительный и странный!
Кто он – тот добрый человек,
забывший выключить фонтаны?
Спит город. Ночь, свершив труды,
сползает к западу, но действо
веселой брызжущей воды —
не стихло близ Адмиралтейства!
И там – на Невском, где ходок
найдет его легко и скоро —
хрустальный бодрствует цветок
в тени Казанского собора!
Он шепчет:
«Добрый человек
чаек индийский пьет в дежурке
иль спит с устатку в голове
на вдвое сложенной тужурке.
И пусть! И пусть!
Пока судьбой
отпущена возможность пенья,
не важно, что перед тобой —
забвенье или преклоненье!
Но очень важно в этот час
не знать тоски, забыть интриги,
пока из космоса на нас
взирает башня Дома книги!
Пока в ладонях колоннад
фонтанной песенке раздолье,
пока, заслушавшись, стоят
Кутузов и Барклай де Толли!..»
1982
Архимед
Живем во временах, которых мы достойны.
Но в давние века заглядывает грусть.
А там – опять чадят Пунические войны
и римляне галдят в предместьях Сиракуз.
У нас – свое кино, у нас – получка в среду,
у нас своих забот – хоть пруд пруди, хоть пруд…
Но что́ же там открыть не дали Архимеду,
призвав к постройке рвов, зеркал и катапульт?
И наши времена чреваты смрадом дымным —
вся жизнь на волоске, все тоньше эта нить!
Но Архимеда жаль, и греков жаль, и римлян…
И жаль, что ничего нельзя предотвратить.
Нельзя, уже на штурм пошли Марцелл и Клавдий!
Нельзя, хоть зеркала спалили римский флот!
Ведь самый светлый ум – ничто, сказать по правде,
в сравнении с возней у городских ворот…
А будь исход иным иль не таким бесславным —
кто знает, может, мы имели б меньше бед!
Не зря ж в предсмертный миг —
вся боль, весь страх о главном, —
«Не тронь моих кругов!» – воскликнул Архимед.
1981
«Я вспомнил номер автомата…»
Я вспомнил номер автомата
Калашникова, мне опять
приснился он, мой тускловатый,
и цифры – 2205…
И то армейское уменье —
слегка дыханье затаить
и движущийся бок мишени
с прицельной планкой совместить…
К чему оно мне, если в мире,
где на весах добро и зло,
с лихвою ядерные гири
для счетов время завело?
Кого спасет мое уменье
за дверью дома моего —
на том вселенском помраченье
в последний час и миг его?
Но форму спуска и приклада
и над рожком цевья обхват —
в тени рассеянного взгляда
невольно руки повторят.
Поскольку жизни невиновность
понятна сердцу и глазам,
и защищать ее готовность —
инстинкт, природой данный нам…
1984
* * *
«Девятнадцатый век – он как будто за тонкой стеной!..»
Девятнадцатый век – он как будто за тонкой стеной!
Динь-динь-динь – колокольчик в Тригорское, в Болдино,
в Линцы…
Гром сражений. Балы. Размышленья о жизни иной…
Декабристы, поэты, студенты, купцы, разночинцы…
Строчки писем, стихи, протоколы в архиве сыскном —
в них страдают и любят, печалятся и острословят…
На дуэли спешат и сидят в карантине чумном,
ждут вестей из Хивы и гремучие смеси готовят…
Им самим все музыка минувшего века слышна —
бунты, казни, реформы… Мыслители и лиходеи…
Через сотню-то лет – так легко понимать времена!
Современником быть, на себе выносить – потруднее.
Но я видел во сне двадцать первого века закат!
Всё узнали про нас там, все шифры прочли и чернила.
Жаль услышать нельзя, что они там про нас говорят —
только б все это было, о, только бы все это было…
1984
Ломбард
По дому, где весь день людской поток
течет вдоль касс и деревянных стоек —
прошлась метла эпох и перестроек…
Лишь сводчатый беленый потолок
на кольца, мех и прочее добро
глядит – и ничего не понимает,
и времена иные вспоминает —
иной хрусталь, иное серебро…
И вечерами, лишь затихнет шум,
дом занят сном – старинным, драгоценным,
где тени заговорщиков по стенам,
где спорит с чувством сердце, с сердцем ум…
– Не опоздать бы, – голос за столом.
– Где манифест?
– На полке в кабинете.
– Ах, господа, сенаторы – не дети.
– Ах, господа, как славно мы умрем!
И чей-то вздох. В сомненьях есть резон.
Все выяснится утром у Сената,
но мысль о пораженье жутковата…
А мрак над Мойкой снегом занесен.
– Ты как, Мишель?
– А я как все, Жанно!
– Считаешь, что получится?
– Не знаю…
Ночь за окном глухая, ледяная.
И в ней лицо стеклом отражено.
А за спиной:
– Страшитесь вы, да-да!
То мало войск, то мало офицеров,
но я ручаюсь за лейб-гренадеров,
не погубите же их, господа!
И кончен диспут:
– С Богом, по местам!
Расходятся. И кто-то, заикаясь,
– П-послушай, – говорит, с крыльца спускаясь
за впереди идущим по пятам:
– А как т-тебе х-хозяина жена?
– Наташа прелесть… – и к нему с вопросом:
– Так ты куда?
– Я в эк-кипаж, к м-матросам!
– Напомни, артиллерия нужна…
Полозьев скрип. Негромкий стук копыт.
И затихает невская столица…
Светает. Перевернута страница.
К дверям ломбарда очередь стоит.
1985
Баллада о двух поэтах
Поэт Пастернак и поэт Мандельштам —
при всех их различьях – ценили друг друга.
То были тридцатые годы, а там,
в то время – и это большая заслуга…
Как в точности вышло, нам трудно сказать,
но точно, что встретились два стихотворца.
И стих, попросив Пастернака: – Присядь, —
прочел Мандельштам про кремлевского горца.
И меркнул от слов электрический свет.
И эхо бежало от каждого звука —
теснясь, как озноб от прочтенных газет,
как страх повсеместный полночного стука…
И встал Пастернак, головой покачал,
от бледности ставший смуглее и выше:
– Запомни, ты этого мне не читал,
и я этих строчек, запомни, не слышал!
И сел Мандельштам у окна, где во мгле
метались шершавые крылья метели,
и дырочку вдруг продышал на стекле,
чтоб мы эту сцену в нее подглядели.
Спросил:
– Что же делать, ведь знаем, ведь ждем?
Сказал Пастернак:
– Оставаться поэтом…
И в той телефонной беседе с вождем
он помнил о встрече и медлил с ответом.
Он знал, что был должен сказать, – и не мог.
Он верил, что жизнь – это высшее благо,
и медлил, как Гамлет, оттягивал срок —
молчал, чтоб ответить устами Живаго…
А вождь ухмыльнулся, когда он затих:
«Боится, – подумал, – не хочется в яму,
а мы тут не спи и решай все за них!» —
и жизнь на три года продлил Мандельштаму…
О, если б я сам эту темень сгущал!
Лишь нынче наш век недомолвок лишился.
И вышло, что прав был и тот, кто смолчал,
И тот, кто на дерзкую правду решился…
1985
Хвостов
Когда творцы стихотворений
в трудах не ведают сомнений,
нам анекдот из давних дней
на ум приходит…
В душной спальной
генералиссимус опальный —
прощался с жизнию своей.
Уже священника призвали,
и граф Хвостов в соседней зале
торчал, как перст, в толпе родни —
с платком в руке, шепча:
«Доколе!
Как жаль, что все мы в божьей воле!
Бессмертны гении одни…»
И думал, как напишет оду
и явит русскому народу
сей скорбный день со всех сторон,
пока завистники, зоилы
на эпиграммы тратят силы…
«И буду – гений!» – думал он.
И мысль уже текла стихами:
«Тоски покрытый облаками,
я о тебе, Герой…» – но тут,
на парной рифме «горний-молний»,
пришел слуга и тихо молвил:
«Их светлость вас к себе зовут…»
Среди подушек в зыбком свете —
лежал кумир и благодетель.
Свеча плыла. Воск пальцы жег.
«Прощай, дружок! Смирись с судьбою, —
сказал Суворов, – Бог с тобою,
и… не пиши стишков, дружок!»
У графа свет затмился разом —
и, потрясен таким наказом,
Хвостов поднялся, весь в слезах,
и вышел вон без разговоров…
Его спросили: «Что Суворов?»
Он всхлипнул: «Бредит, бредит, ах…»
Был граф как человек – не вредный.
Но если б только знал он, бедный,
живя на невском берегу,
что есть в Москве птенец курчавый,
что в паре с нянею лукавой
лепечет первые «агу»…
Вот подрастет, крыла расправит
и графа строчками прославит —
и так и этак – то-то, брат!
Желал бессмертия? Готово!
…Но разве слушают Хвостовы,
когда им дело говорят…
1986
Дождь на Литейном проспекте
Ирина проснулась и встала. Зазвякала штора,
являя рассветный, раскисший от влаги Литейный —
дом в памятных досках напротив, огни светофора
и взгляд человека из окон квартиры музейной.
Он был нездоров (кутал горло), он был старомоден,
похож на кого-то, с унылой бородкою клином…
В таком, так сказать, петербургском (вот именно) роде…
«Наверно, сотрудник музея», – решила Ирина.
И вдруг она вновь ощутила сердечную жалость —
желанье помочь человеку, которому худо.
Ей ночью приснилась тоска и, приснившись, осталась.
Теперь она знала – о чем та тоска и откуда.
Сквозь дождик глухой, моросящий давно и уныло,
хоть в форточку крикни, да там не услышат ни звука,
и это мучением было, на сердце давило…
«О боже, – Ирина подумала, – что там за мука?»
«Действительно, мука, – вздохнул Николай Алексеич, —
долги, корректура, цензура с охранкой в комплоте…
И мыслей тщета – и ничем их не сбить, не рассеять,
печальных, как барышня эта в окошке напротив…
Небось, нигилистка, – подумал, – а время лихое,
вот мы в нем обвыклись, а ей комом в горле, быть может…»
Он даже кивнул ей, махнул ей легонько рукою.
Ирина заметила это, кивнув ему тоже…
А дождик все лил – незатейлив, и мелок, и робок,
сбивался, частил, забывал, что́ с которого края, —
два времени разных приблизив, поставив бок о бок…
Лишь в городе нашем бывает погода такая!
На кухне соседи вели коммунальную свару.
Ирина очнулась, на службу скорей побежала.
И мокрый троллейбус, кряхтя, подкатил к тротуару…
А в доме напротив – Панаева в дверь постучала.
Вскричала: «Ах, Коля, вон там – у подъезда – крестьяне!»
Потом Николай Алексеич, увлекшись сюжетом,
брался за перо, и бросал, и лежал на диване…
Ирина под вечер со мной говорила об этом.
И все, что в тот день – тут и там – не в пример суесловью
рассказано было, а также написано было —
подсказано жалостью было, а жалость – любовью,
той самой, что всех нас однажды в людей превратила.
1985
«Воробей-разбойник засвистал…»
Воробей-разбойник засвистал
у плетня, в немыслимой браваде —
в теплые заморские места
соловьев-разбойников спровадив.
Отыскав в пожухлой лебеде
семечками полную макушку —
он грозил сородичей орде,
он округу свистом брал на пушку.
Перышки взъерошил на груди:
«Чур, мое! Чур, нынче я пирую!
Эй, чувырло, чур, не походи!
Я тебе, чик-чик, поозорую!»
Так шумел разбойник у плетня,
но пора пугливых миновала —
через миг там вся его родня,
вся округа пела и клевала…
1986
Комарово
Дачный дом, покинутый людьми.
Все, как есть, исчезли в воскресенье —
с кошками, лукошками, детьми,
с банками компотов и варенья…
Дом еще не верит и беречь
сам себя старается от пыли.
В нем еще поленья помнит печь.
Стены, полки, кресла не остыли.
Но скользит по комнатам пустым
призрак запустенья и развала…
И о чем мы, право, говорим —
с нами, что ли, так же не бывало?
Шелестит впотьмах какой-то сор.
Вдоль забора – голоса прохожих.
Дом глядит с надеждой сквозь забор —
даже мало-мальски нет похожих.
Только сумрак, только дождь и грязь,
да под ветром пляшет, как живая —
перед домом, намертво вцепясь
в бечеву, – прищепка бельевая…
1986
«Вот женщина. Вот комната ее…»
Вот женщина. Вот комната ее.
Мужчина здесь – диковинное зрелище.
С таким стараньем прибрано жилье —
на кресла край присев, не пошевелишься.
Беседуешь, салфетку теребя,
и чувствуешь себя немного скованно,
хоть виды здесь имеют на тебя
и смотрят – вскользь, но заинтересованно.
Вы пьете чай, и, значит, ты не пьян,
и, значит, блажь в башку тебе не кинется.
Но если к ней присядешь на диван —
наверное, она не отодвинется.
Привычка к одиночеству. Тоска.
Согреешь ли, утешишь ли, намного ли?
На вечер, ночь? А возраст – к сорока…
И помнит всех, кто так же руку трогали.
И глупостями, брось, она сыта…
И жизнью всей, уйди, она ученая.
И неспроста – такая чистота.
И тяга к ней – почти ожесточенная…
1984
Портрет художника
Е. Барскому
Краснощек мой приятель, осанист и рыжебород…
Причеши да одень его в бархат, и в гости – к фламандцам!
В золоченые рамы, где праздник и страж у ворот,
прислонясь к алебарде, завидует яствам и танцам…
Но приятель и сам скипидаром и краской пропах!
Он стоит у холста – и сопит, и мычит без зазренья.
И камчатский пейзаж – первобытный и злой – нараспах
из-под кисти растет, разверзаясь на три измеренья…
Вот оно – вдохновенье! О, лишь не спугните теперь!
Тихий ангел – жена разложила закуску по блюдцам.
Кто-то в дверь постучался, гостями распахнута дверь!
Он:
– Я занят! – рычит, и под нос: – Ничего, перебьются…
Если б я был художник, я б сделал, наверно, портрет,
где приятель сидит у картины со стопкой портвейна,
а другою рукой обнимает жену… впрочем, нет —
это было уже у голландца, Рембрандта ван Рейна…
Ладно, пусть остается рука на плече у жены,
пусть он машет другой, вдохновенно бурча о работе,
я гляжу на нее – даже кисть отложив, сведены
ее пальцы все той же привычной и цепкой щепотью.
Разойдемся во мненьях, стаканом о стопку звеня —
под камчатским пейзажем, где катышки пепла на пемзе…
Как он спорит, собака! И все же он любит меня,
я не знаю, за что – но по сути плачу ему тем же.
1985
«Третье лето, махнувши рукою на юг…»
Третье лето, махнувши рукою на юг,
на Камчатку с мольбертом летает мой друг
над просторной страною,
и рисует пейзажи, и писем не шлет.
Я бы тоже слетал, только мне не везет —
то одно, то другое…
А недавно картину он мне подарил,
словно дверь в недоступную даль отворил —
в край державы и света.
Был суров и тревожен камчатский пейзаж:
склон вулкана в тумане и солнца вираж
ярко-рыжего цвета…
Я прошел в эту дверь уж не ведаю как,
заскрипел под ногой вулканический шлак,
осыпаясь по склону,
и белесое облако, свет заслоня,
в свое влажное чрево втянуло меня,
будто рыба Иону…
А когда развиднелось опять предо мной, —
вся страна необъятно легла за спиной
и за кратером диким,
ощутив адской серы тоску и дурман,
я увидел, как берег грызет океан
именуемый – Тихим…
А потом я представил и тот Новый Свет,
где включают корейскому «Боингу» вслед —
все радары Аляски,
и все правят в камчатское небо маршрут,
и пари заключают: собьют – не собьют, —
вплоть до самой развязки!
И тогда с края света я – Свету тому! —
прокричал, что есть силы, в гремучую тьму,
жаль, услышат едва ли:
– Не прошу, чтоб вы хлопали нас по плечу,
лезли с дружбой, хвалили, я только хочу,
чтоб вы нас понимали!..
1985
«В электричках утром теснотища…»
В электричках утром теснотища —
стой, не охай, вплоть до Ленинграда…
Сотня выйдет в Колпине, и тыща
снова влезет – всем куда-то надо!
Набежит, с перрона в тамбур хлынув —
мокрый вал беретов, шляп, косынок!
И в лицо – охапку георгинов,
в белой марле едущих на рынок…
И опять мелькает мгла сырая.
Долго длится время поездное…
Где же ты, попутчица былая?
Возвратись, встань рядышком со мною!
Возвратись – волненьем отозваться,
как тогда, в студенческие годы.
Нам бы на природу любоваться —
но так тесно, что не до природы…
Дни летели, зыбкий снег роился
следом до Московского вокзала…
Я сказал ей: «Я в тебя влюбился…»
Но не вспомнить – что она сказала.
Не услышать, как в кино без звука.
Перегон. И снова остановка.
Как ее название – Разлука?
– Нет, – ответят люди, – Сортировка…
Георгины смотрят на названья —
им-то, им-то, бедным, что за дело?
Тридцать километров расстоянья —
и вокзал!
Полжизни пролетело…
1983
«Художник, штурман, инженер…»
Художник, штурман, инженер,
писатель, милиционер
иль просто человек красивый
и добрый – Бог весть почему…
Вот эти рядом, а к тому —
тянуться через всю Россию!
И это всё мои друзья —
те, без которых мне нельзя
и дня представить, холодея.
Мне взгляды их и голоса —
как для пернатых небеса,
как твердь земная для Антея!
Меж тем летит за годом год.
Махну рукой, коль повезет
порой вечерней или рассветной —
в трамвае, в давке, кое-как:
– Ты где?
– Да там….
– И как?
– Да так…
И на прощанье взгляд приветный.
Всяк выбрал ношу по себе.
Почти у всех и по семье —
и тянут, тянут на пределе!
А кто-то даже, посмотри,
уже развелся раза три…
Да и о чем я, в самом деле!
А жизнь спешит во весь опор —
ухабы, рытвины, сыр-бор! —
когда ж тут оглянуться, право?
Но оглянись, и меж людьми
они – друзья! А отними —
лишь одиночества отрава…
1987
* * *
«Распрощавшись с вокзальной Москвой…»
В. Ведякину
Распрощавшись с вокзальной Москвой
и постель приготовив на полке,
я почувствовал, тронув рукой:
заполняется сердце тоской
и щемит от незримой иголки…
Пару дней у друзей прогостив,
жизнь чужую к своей приближая,
я вдруг понял, плафон погасив,
под негромкий колесный мотив —
никакая она не чужая…
И, Калинин ночной миновав,
все не мог от нее отстраниться,
и не в силах был встречный состав
заслонить, пролетая стремглав —
москвичей моих милые лица…
Я рукой проводил по глазам,
засыпал и опять, просыпаясь —
все завидовал темным лесам,
убегавшим к столице, и сам
все оглядывался, улыбаясь…
И всю ночь по осенней стране —
к Волочку, Бологому, Любани —
так и ехал на нежной волне,
имена дорогие во сне
повторяя одними губами…
1985
«Выходит в тамбур человек…»
Выходит в тамбур человек —
с лицом угрюмым, с тусклым взглядом
из-под опухших красных век —
сопит, встает со мною рядом.
И курит, и глядит в окно —
бегут столбы, несутся дали…
Я с ним знаком был, но давно.
Давно друг друга не видали.
И вот – увиделись. Молчит.
Не узнаёт. И мне неловко.
И встреча кажется на вид
нелепой, как инсценировка.
Каким же сам я стал, когда
судьба его так изменила?
Не знаю… Вытерлись года.
Бесследно выцвели чернила.
Стоит, как контрабас в чехле.
Молчит. Могло ж такое статься!
В его глазах, как на стекле,
написано: «Не прислоняться»…
1986
Тюльпан
Купил тюльпан в киоске. Сел в вагон.
Тюльпан был вял, простужен, потому что
зима еще не кончилась, а он
к нам прилетел из города Алушта.
Мой взгляд, слегка сощурясь на соседке —
студентке, – погулял под потолком
и, завершив гуляние цветком,
привычно ограничился газеткой.
Но что-то мне мешало без конца,
мне сбоку что-то красное мигало,
звало и от газетного столбца
намеренно и нагло отвлекало.
Поднял глаза – и что же? Мой тюльпан, —
согревшись и раскрывшись ненароком,
и подбоченясь, словно польский пан,
к соседке повернулся – карим оком!
И видимо от этой ерунды
студентка засмущалась, а виновник
весь изогнулся – страстный, как любовник! —
и жарко,
знойно выдохнул:
«Воды…»
Я отдал ей его, как бы шутя.
И долго думал вечером за чаем:
«Мы все великих ждем чудес, хотя
и маленьких
порой не замечаем…»
1983
Возвращение
В полночь, за полночь чай. Поцелуй на прощанье в дверях.
Уговор, чтобы нам обязательно встретиться в среду.
Вы постель разберете, а я на вокзал второпях
прибегу, вы погасите свет – от перрона отъеду…
Стану думать о вас – в электричке на полном ходу…
Первый сон к вам придет – я черту городскую миную.
Сон второй к вам придет – после Колпина в тамбур пройду
покурить, погрустить, позаглядывать в темень ночную.
И когда третий сон вам настроит свои бубенцы,
я в Поповке сойду и – для вашего сна нереален —
по аллее пройдусь, где кузнечики, как кузнецы,
все на свете забыли у звонких своих наковален.
И увижу окно, где неяркая лампа горит,
где за форточкой штора колышется, словно живая, —
это мама моя снова, значит, над книжкой сидит,
или гладит белье, или дремлет, меня ожидая…
1983
Книжный киоск
В стеклянном скворечнике мама сидит.
Ей дождь застарелую хворь бередит.
И в каплях стекло, и прилавок пустой…
Лишь «звезды экрана» слепят красотой.
А утром к скворечнику книжки хватать
валил покупатель – орлиная стать.
И лезли в окошко – то шляпа, то локоть,
и трешки, и хлопанье крыльев, и клекот!
Когда же, лохматый и грустный такой,
заглянет любитель и спросит с тоской:
– Есть томик, что вы поутру продавали?
– Едва ли, – вздохнет моя мама, – едва ли…
Но из-под прилавка, точней из угла,
достанет последний, что мне берегла…
А после глядит, как счастливец пошел…
Хоть дождь прекратился – и то хорошо!
1984
«Укачало девчонку – страдает, оставлена всеми…»
В. Рекшану
Укачало девчонку – страдает, оставлена всеми.
И ночной океан, как ей кажется, ходит по кругу.
Но плывет теплоход вперевалку – на север, на север…
И проносятся волны, косматясь, – всё к югу, всё к югу…
В чем она виновата, ни в чем она не виновата.
Сердобольным зевакам бормочет: «Уйдите, отстаньте!»
Молодую жену от родительских окон Арбата
к месту будущей службы везет молодой лейтенантик!
Ах, ему самому еще жмут сапоги, и погоны
еще так непривычны, и мысли – полны недомолвок!
Он придет, посидит – и спускается вниз, удрученный,
к холостым однокашникам жмется – ершист и неловок…
И еще неизвестно, как встретят их там Командоры!
Где не Юрий Сенкевич покажет им жизнь без рисовки!
Этот кожаный плащик ветрами обтреплется скоро.
И едва ли пришлет «Адидас» запасные кроссовки…
А ночной океан – нет, не тихий, нет – вспаханный ветром! —
не жалея ничуть о смешных теплоходных скитальцах,
этой юной москвичке, сверкая под палубным светом,
предстоящую жизнь, как немой, объясняет на пальцах!
И она, вся в слезах, в маскировочной мужниной куртке —
до утра со скамейки глядит на холмы водяные…
Жгутся мысли ее и летают в ночи, как окурки —
что бросают в окно из кают пассажиры иные…
1985


