полная версия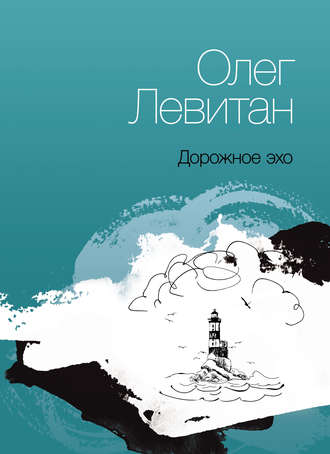
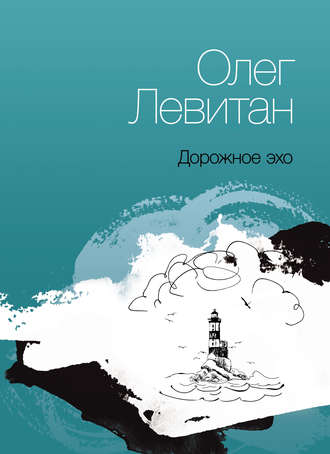
Олег Левитан
Дорожное эхо
Баллада о пластиковом пакете
Парень спит в вагоне метро, обнимая пластиковый пакет —
на котором красивую женщину обнимает мужчина,
улыбаясь так, будто знает большой секрет…
Но и парень во сне улыбается – небеспричинно.
И не в том причина, что левая парня рука —
с лаконичной, армейской, наверно, наколкой «Вова» —
невзначай, мизинцем ствол пальмы согнув слегка,
оставляя WELCOME, скрывает второе слово!
Все равно это место – не в Пупышеве, и не во Мге
или где он там был, на каких это грядках райских
отдыхал сегодня, и глине на сапоге
далеко до почв канарских или гавайских.
И само приглашенье – скорее для поп-звезды,
для банкира, для киллера, а ежели нет сноровки,
остается жизнь, вроде этой – в метро езды…
Где мы все и едем – к неведомой остановке.
Но так странно видеть, как Вова другой рукой —
на картинке дивной весь план и сюжет меняет!
И уже под пальмою воздух вдохнул морской,
и мужчину от женщины медленно отстраняет…
Отстраняет молча, нависнув над ним, как бык!
И мужчина улыбку гасит, почуяв силу,
и уже растерян – он к этому не привык,
и кого-то за кадром просит убрать верзилу!
И загар бледнеет – знай наших, такой чудак!
Бодибилдинг – тьфу, – рядом с нашей косой саженью!
И что все происходит с Вовою именно так —
по губам его видно, по всему лица выраженью…
И красивая женщина к Вове – ну так и льнет!
И бокал ему свой протягивает – с соком манго или папайи…
И когда он рукою левой его берет —
к слову WELCOME и впрямь добавляется – TO HAWAJI!
И уже что-то шепчет ей, просит оказать ему честь —
к ним на дачу приехать, на радость жене и теще…
Свет плохой в вагоне, и в точности не прочесть —
это ль он шепчет ей или же что попроще.
Но когда бы фотограф во сне поспешал быстрей,
ах, как Вова смотрелся б всем видом своим открытым —
рядом с этой красавицей на пакете пластиковом, ну —
ей-ей! —
не все ж нам завидовать только жуликам да бандитам!
Вот – проснулся, глазами захлопал, к выходу отправился,
отрешен.
И красавец с красавицей с ним, и весь сказочный рай их!
Был во Мге я и в Пупышеве – летом там хорошо.
Хорошо, наверно, и на Гавайях…
1999
Про жизнь
Вот женщина – в ночи, в горсти
судьбы железной – спит, как птенчик…
Как птенчик – глаз не отвести.
И ауры над нею венчик…
Спит, отвернувшись от своей
судьбы – спиной к дневным заботам,
делам, проблемам дочерей,
долгам, счетам и что еще там?
Лицом к стене, а там – портрет,
где муж, погибший в одночасье,
глядит с улыбкой столько лет,
не зная о своем несчастье…
Спит женщина. Под сенью век,
во сне, смирившемся с утратой,
ей виден некий человек —
желанный, но, увы, женатый…
Там болен сын. Там пьет жена.
Там тьма проблем и страх разрыва…
А ты понять его должна,
ведь ты умна и терпелива…
Хоть с боку на бок повернись,
хоть сон ночной забудь с рассвета…
Вы спросите: и это жизнь?
Увы, и это жизнь, и это.
И, к брегу своего житья
топча осенней ночи жижу,
лишь одного не знаю я —
зачем же я все это вижу?
К чему сочувствия мои?
Остановите, урезоньте!
Пусть хоть старинный друг семьи
возникнет там на горизонте.
Привычный с нею быть на ты —
возьмет вина, цветочков купит,
и доберется до черты.
и, не заметив, переступит.
Пусть переступит, пусть рискнет…
Она смутится и заплачет.
Она к нему на миг прильнет.
Но это ничего не значит…
1996
Баллада о чуде
Что там бродит во тьме возле дома —
вроде облачка или фантома?
Кто там молча глядит в наши лица —
обознаться боится, таится?
Вот и нечего шастать, ей-богу,
научились мы жить понемногу:
все в покое живем и в достатке —
ни на что, кроме пользы, не падки.
Ибо держится жизнь здравым смыслом,
равно свойственным чувствам и мыслям,
ибо знают у нас даже дети,
что чудес не бывает на свете…
И сидим мы с вином или чаем,
и внимания не обращаем,
телевизор включив ненаглядный, —
кто там хлопает дверью в парадной?
Между тем, никому не знакомо —
вверх по лестнице нашего дома —
неизвестно, зачем и откуда,
несказанное близится чудо.
Вот и чудится нам, но не четко —
то ли старого друга походка,
то ли туфельки нежной подруги
по ступенькам взлетают, упруги…
И забытые дивные вещи
вспоминаются ярче и резче —
чувство счастья, сердечная смута,
светлый день, золотая минута…
И глядим мы в глазочки дверные,
но пустынны площадки ночные,
и слезятся глаза, как от дыма,
а оно-то все – мимо и мимо…
Мимо окон и матерной строчки,
мимо полых шприцов в уголочке,
мимо лестничной кошки пугливой,
замурлыкавшей вдруг и счастливой…
И звонок уже там раздается,
где кому-то, как нам, не живется!
И за что ему это, не знаем,
как смеялись над ним, вспоминаем,
как учили: живи, мол, как все мы,
мол, не делай из жизни проблемы,
мол, на свете чудес не бывает!
Вот спешит он, вот дверь открывает…
1997
«Привычка дивная – умение „на вы“…»
Привычка дивная – умение «на вы»
общаться в обществе, где мы свой гонор высим,
а не с начальством лишь, где полон рот халвы
и тыкнуть боязно – мы от него зависим.
Уж не от рабства ли – с монголов и татар —
в наследство взяли мы бесцеремонность эту?
Ишь, как мы тыкаем друг другу – млад и стар,
и с хамством маемся, и в спорах толку нету…
А, ростом с мальчика, известный наш поэт —
из лучших нынешних – взял в правило когда-то
и только выкает. И мы с ним столько лет
«на вы» общаемся, а не запанибрата.
А ведь и ценим же, и любим, и зовем
солидно, с отчеством – и нет в нас пиетета…
Зато как вежливы, как сдержанны при нем,
как на воспитанность почти похоже это!
И взять хоть Англию – там «ты» не говорят.
Нет в языке у них такого обращенья.
И все там здравствуют, и многое творят
получше нашего, и стоят восхищенья!
Давайте ж пробовать не преступать черты.
«Большое видится, – Есенин прав, конечно, —
на расстоянии», – и, значит, слово «ты»
мешает виденью…
А время – быстротечно.
1997
Дядя Витя
Дядя Витя монтер был опытный, и партийный, и из народа —
молчаливый такой, безропотный, но со странностью
раз в полгода.
Так, в дежурке рукою правою сигарету зажмет в щепоти:
– «Ой, рябину, – слыхали, – кудрявую»! Это ж я написал, на флоте.
Мол, еще молодым, при Сталине, сочинял стишки на линкоре.
Мол, украли на базе, в Таллине, у него тетрадь в коленкоре.
Мол, хранил все стишки в тетради он, мол, о строгом забыл режиме…
А теперь их поют по радио – под фамилиями чужими!
И глаза голубые, тусклые. И стоит на своем, как стенка…
И «Войны, – мол, – хотят ли русские?» – никакой, мол,
не Евтушенко!
– Кто ж украл? – Отвечает:
– Мафия…
Мол, к чекистам ведут все нити!
Грустноватая биография получалась у дяди Вити.
Мы-то слушали, чай заваривали, – не оспаривали, курили.
Но у шефа с ним разговаривали. И в парткоме его журили.
Но от общей такой симпатии только выше жар поднимался!
Сам ЦК родной нашей партии его жалобой занимался.
Забирали его с подстанции – в строгом черном автомобиле,
в очень строгой одной инстанции – о последствиях говорили.
Только зря аргументы тратили, дядя Витя их не услышал.
Помолчал до дней демократии —
и из партии громко вышел!..
А потом понеслись события – к новой власти и новой жизни!
Оказались мы с дядей Витею – в самом диком капитализме.
Не в порту мы с тех пор, а в «холдинге»! Жизнь другая,
работа та же.
Тут-то он и начни – на полднике – вновь твердить
о старинной краже…
Слесаря ль его раззадорили, сам ли вспомнил и стал неистов?
Новый шеф узнал – и уволили. Сердца нет у капиталистов!
1997
Ломоносов
В бороде из сосулек, с Дед-Морозом заморским схож,
в Петербург январский приплыв на предмет разгрузки,
сухогруз под мальтийским флагом в Турухтанный
вплывает Ковш…
MICHAILS LOMONOSOVS – на борту его написано
не по-русски!
По-латышски написано, что ли, но кричат с бортов морячки
очень даже по-русски, концы швартовые майная на берег!
А в трюмах штабеля с коробками – сплошь
куриные окорочки…
Говорят, они очень дешевы в самой сказочной из Америк!
Ах, Михайло Васильевич, Михайло Васильевич, дорогой!
Уж тебе ли, красе и гордости словесности отечественной и науки,
преуспевшему в оных поприщах, как никто другой,
до такой стыдобы дожить, до такой разлуки!..
Будто вновь за границей, как в молодости, в рекруты, сонный, взят,
и ничто не светит, кроме муштры да сержантской палки —
и твое унижение здесь ни один не смущает взгляд…
«Здравствуй!» – скажешь Отечеству, а оно не слышит
в запарке.
А оно суетится со стропами – скорей, скорей!
И хозяин груза похаживает, и охраны – целая свора…
Разучилось Отечество нынче держать и растить курей,
значит, ты перестанешь сюда их возить не скоро!
Так терпи же, гляди, приглядывайся к красе родных перемен,
осеняясь тряпицей красною с белым крестиком посередке!
А купец сей, Михайло Васильевич, называется «бизнесмен»,
и лицо у него припухшее от любви и хорошей водки…
Говорит, что устал, что вроде как отправляется отдыхать —
где то там рядом с Мальтой – в Туретчине или на Кипре…
А Платонов с Невтонами нынче, Михайло Васильевич,
не слыхать.
А пииты и вовсе от жалоб на жизнь охрипли.
А купец на товаре прибыльном – приготовил под куш
карман!
Да еще тьма посредников льнет за своим наваром!
И ползет с Маркизовой лужи на порт туман.
И рессоры фур прогибаются под товаром…
То ли век наш нынешний на давешний твой похож,
то ли все времена для понятий гражданственных
слишком грубы…
А ты, батюшка, жди, говорят, за бананами в Африку
поплывешь.
Не кручинься, бананы детишкам российским лю́бы…
1997
Балада о паводке
…Несколько дней назад шли сильные дожди: теперь из лесных дебрей выкатился паводок, и вот река вздулась, заливая свои веселые зеленые берега…
В. Г. Короленко «Река играет»
Время жизни нынешней —
взбалмошной, малахольной! —
всё нет-нет да и чудится схожим с речным бережком
из отрывка прозы, вычитанного в хрестоматии школьной
и запавшего в память – в классе бог знает каком…
Там внезапный паводок моет ветви прибрежным ивам,
лопухи с мать-и-мачехой топит, лодку встряхивает на песке…
И далекий мужик паромщика выкликает к себе с надрывом:
– Тю-ли-н! Ле-ша-й! – в отчаянье и тоске.
И уж так он там мал – вместе с лошадью, возом, бабой —
что похмельный паромщик лишь кивает автору через плечо:
– Вишь, Ветлуга-то как разыгралась! —
с надеждою слабой,
что недолго кричат, что раздумают ехать еще…
А и впрямь похоже играет река Ветлуга!
И вся в пенных клочьях – ну точно как наша жизнь,
где в порядке частном мы так далеки друг от друга,
и в порядке общем – подхватит, так только держись!..
И не мы ли вот так же готовы кричать во всю глотку,
на притопленных сходнях выстроясь в ряд:
– Тю-ли-н, ле-ша-й!
Паром давай! Давай ло-дку!
Перевоз давай, ко-му го-во-рят!
А паромщик сбежал – вон, в заречье с лесною артелью
водку пьет у костра, даже песня слышна сквозь мрак…
И все больше в нас злости – к коварству его и безделью!
И все больше средь нас тех, кто знает – что делать и как!
Им река по колено! И сложности все по плечу им!
– Ночевать тут, что ли? —
А, собственно говоря,
чем с судьбою играть, разведем костер, заночуем!
И проснемся, когда над Ветлугой займется заря…
И Владимир Галактионович рядом с нами
усмехнется в бородку,
протирая пенсне, и вода зазвенит под веслом…
Это Тюлин спешит, гонит к нашему берегу лодку!
А река, как стекло…
И народу – на целый паром.
1998
Воспоминание
При советском еще было строе…
Глушь карельская. Утро сырое.
Берег озера. Солнечный блик…
И, проснувшись с похмелья в палатке,
удивляясь, что жив и в порядке,
на далекий я выглянул крик.
А он реял над всем Прионежьем —
над сосновым, брусничным, медвежьим —
и похож был на имя мое!
И глядел я со смешанным чувством
на озерную гладь с чьим-то бюстом,
что чернел, шевелясь, из нее…
То мой друг, в капюшоне, как инок,
брел в воде среди листьев кувшинок
и тростник раздвигал и тянул…
И орал, и рыдал от бессилья!
– Что случилось? – в испуге спросил я.
Он лишь всхлипнул:
– Олег утонул….
Это было сильней анекдота:
мы здесь утром сошли с вертолета,
корчевали под лагерь сосняк…
И начальник, суровый геолог,
был в суровости с нами не долог —
ближе к ночи и вовсе размяк!
Колбу спирта принес нам в палатку.
Через час и я рухнул с устатку,
Мишка гостя пошел провожать…
И конечно, служебного спирта
было налито вновь и испито —
чтоб друг друга сильней уважать!
Вот они и поплыли по пьяни —
порыбачить в рассветном тумане!
…И плеснула вода за бортом.
Друг мой глядь – поплавок не ныряет.
И вдруг понял – меня не хватает!
(Так он мне и расскажет потом.)
Собутыльник лежал в клипперботе,
говорил:
– Зря вы, Миша, орете, —
и тяжелой мотал головой, —
не найти без багра Левитана!
И так дико все было и странно…
– Мишка, – крикнул я, – вот я, живой!
Этот случай – с тех пор и доныне —
я храню для себя на помине,
рядом с шансом пропасть ни за грош!
Вдруг – никто и не вспомнит, расстроен…
…То ли строй тот был лучше устроен,
то ли спирт так теперь нехорош!
1998
Париж
Н. С.
В ночь ядреных налили чернил.
Весь пейзаж в окне – в чернильной жиже.
Вдруг звонок, приятель позвонил.
Говорит:
– Наташка, я в Париже!
В трубке шумно.
– Что, – спросила, – где?
В самый раз звонок, под настроенье,
под ночные мысли о нужде
и под хлябей мартовских струенье…
«Вот и этот, ясно же вполне,
электричку прозевал, бедняжка,
вот и вспомнил, ладится ко мне!
Ну и ночь», – подумала Наташка.
– Вруша ты, – сказала, – брось шутить!
Где ты? На вокзальной остановке?
За такси-то хватить заплатить?
– Нет, – кричит, – я здесь в командировке!
Удивилась. Может, и не врет…
Вот вам и везенье – для контраста!
– Ты надолго?
– Через день отлет!
Что там нынче в Питере у вас-то?
– Ах, – сказала, – на работе бред,
сын простыл, и нет ненастью края…
Слышно плохо, это связь?
– Да нет,
Это я тут, в городе, гуляю….
– Ой, а где? —
и тоном короля
он сказал:
– Чтоб не считала врушей,
это Е-ли-сей-ские По-ля! —
и подвинул трубку:
– На, послушай!
И тогда весь этот шум и гул,
за вокзальный принятый сначала,
к ней и впрямь приблизился, прильнул —
даже, слышно, музыка звучала!
И она представила Париж —
недоступный, дальний, карнавальный,
и мосты, и черепицу крыш,
и бульвар до арки Триумфальной!
И лохматый чудился каштан,
и его сиреневые свечи!
«О, Paris!» – как пел нам Ив Монтан…
– О, Париж! – вздохнула, сдвинув плечи.
И потом, закончив разговор,
долго вновь глядела, как снаружи
льет желток в чернила светофор
и фонарный свет стекает в лужи…
Сосчитала деньги. Денег нет.
И зарплата в пятницу, не ближе…
И легла. И выключила свет:
– Вот и побывала я в Париже!
1999
«Поэт, затерянный в полночной тьме, как Бог…»
Поэт, затерянный в полночной тьме, как Бог,
доволен тем уже, что вовсе не темна,
что вверх распахнута и там, вверху, – как стог,
лучами колется и трепета полна…
Какие мысли там парят, какие сны —
во тьме величественной, зыбкой, ледяной! —
над жизнью суетной до звезд вознесены
от сосен Ладоги до Балтики ночной…
И как иначе бы могли вы объяснить
исчезновенье их?
Не вспомнить поутру,
что снилось, думалось… Оборван кончик, нить…
А сон затейлив был. А мысль вела к добру.
О бесхозяйственность, о ненадежность уз!
Ты чье, видение? Эй, грусть, ты чья?
А там:
уже отчаялись, уже легли на курс —
вдогонку лайнеру – в Париж иль Амстердам…
Лишь вдохновению коснуться их дано —
ничейных, реющих над строчками огней,
над шпилем с ангелом, – и, возвратясь в окно,
все, что напишется, – подсказывать верней.
Не удивляйтесь же, когда – среди стихов —
вдруг что-то близкое почувствуете в них!
От ваших дум они, они от ваших снов —
и самых горестных, и самых золотых…
1998
Домашнее сочинение
Ребенок пишет сочинение —
сопит, пыхтит над каждой строчкою:
осмысливает приключения
Гринева с капитанской дочкою…
Ему куда как скучно, муторно
в их судьбы сложные заглядывать.
Он из-за них лишен компьютера,
досуг он должен свой откладывать!
Ему своя судьба – как мачеха.
И я:
– Читай, – рычу, – я слушаю! —
а сам-то вижу, что у мальчика
есть много общего с Петрушею.
Ведь недоросль, подумать ежели,
и льнет к забавам ерундовым…
Его мы слишком долго нежили,
а надо б – как отец с Гриневым!
Вот и сидит он так расслабленно:
хитрит, глядит как бы страдающе…
«Попалась Маша в лапы Швабрина…»
Да, Швабрин – это сволочь та еще.
И чем не голубей гоняние —
все эти файлы, сидиромы!
А впереди – времен зияние,
и тучи всякие, и громы…
А ну как там в мое отродие
уставит жизнь хмельные зенки:
«Что, страшно, ваше благородие?
Небось, душа ушла в коленки?!»
И что – не струсит, не отчается?
Ведь парень все же, а не девица!
Коль здесь списать не получается,
и там на это – грех надеяться…
Но ежели своим тулупчиком,
случись такая незадача,
в буран – с нечаянным попутчиком! —
поделится, о том не плача,
и ежели решит по совести
свой выбор делать, коль придется,
как юный прапорщик в той повести…
Глядишь, и с ним все обойдется.
1998
Мойка, 12
Александр Сергеевич, сидя в кресле, смотрит во двор из окна.
Видит памятник свой, и сарай каретный, и двери конюшни.
«Ишь, как двор замостили, – думает, – реставрация-то нужна,
но с персидской сиренью было уютнее и воздушней…»
Видит: люди идут через двор, свет в окнах арочных
во втором этаже.
Что-то там, над конюшней, опять происходит, а что —
непонятно…
«Двести лет, Бог ты мой, неужели мне двести уже!» —
с грустью хмыкает, по паркету прохаживаясь туда и обратно.
– Слышь, Никита, – говорит камердинеру, – а что это снова
вон там,
во втором этаже?
– Сам не знаю, барин, а музейщики бают:
нынче там господа-стихотворцы – Комаров, Левитан —
выступают…
– Н-да, – говорит Александр Сергеевич, на что-то сердит.
Трубку раскуривает, на тираж «Современника» смотрит —
давненько вышел…
Арапчонка погладит чернильного, в окно опять поглядит:
– Комаров? Левитан? Нет, не слышал.
1999
Дорожное эхо

На семейную тему
Наши жены – женщины трудного поведения,
потому что им хочется внимания, понимания и обхождения,
и чтобы достаток в доме, и любящий муж, и вообще —
почему это он опять не в тапочках, и откуда этот мел
на плаще,
и когда это пьянство кончится, Боже ж ты мой —
и сколько можно сумки с продуктами таскать самой,
и куда он опять намыливается, и при чем здесь друзья?
И в слезы, в слезы – так жить нельзя!
Ах они, Золушки наши, им бы – летать, порхать,
на море отдыхать,
а надо уют поддерживать, свои чувства сдерживать,
на кухне вздыхать,
а если с кем и удастся перемолвить теплое слово бедняжке,
то с заехавшим в гости братом (как в стихе Комарова Сашки),
да еще эти грядки дачные, болезни детей, да еще видение —
утром в зеркале – возраста ряд примет,
и тогда им хочется срочно изменить свое поведение,
но легкого в этом – нет…
Потому что мужья у них – сплошь мужчины
легкого поведения,
обожающие спирт, флирт и разные теплые заведения,
и если жене быть хочется рядом, то – бога ради,
но желательно тихо и на полкорпуса сзади,
и чтобы была умна и красива, и чтобы все говорили:
– О-о-о!
Как ему повезло…
А другой норовит, как на фронте, послать свою дуру
добывать «языка», штурмовать преграду, затыкать амбразуру,
чтобы следом и сам – гордой поступью, с криком «ура»
и так далее —
водружал бы победный стяг, сам себе Егоров и Кантария!
И чтобы вокруг внимание, и рукоплещущий свет,
и не дай бог, если он при этом еще и поэт!..
Тут такие крылья растут и такая легкость:
ангел, ангел, ни дать ни взять,
и не надо его одергивать, повергать в неловкость —
с высоты же не видно, чей там он муж и зять…
А еще есть случаи (в рамках этого рассуждения),
когда перепутываются способы поведения!
И когда ей с тобою трудно – в тебе тоска;
и когда ей легко – так желанна она и близка;
и когда ей порхать хочется – ты без всякой фальши,
разрешаешь ей это делать легко…
И она взлетает, порхает – то ближе, то дальше,
а потом улетает вдруг так далеко,
что сидишь и не знаешь, как, впрочем, не знал и ранее,
как любить такую маленькую женщину
на таком большом расстоянии…
2001
Письмо в Штаты
Поэт Миша Окунь похож на актера Шалевича,
и он к своей выгоде это частенько использует,
и разные девушки к Мише, от сходства шалеючи,
стремятся в объятья – где он их ласкает и пользует.
А я свою внешность по жизни несу, будто по лесу,
ни с кем замечательным я и не схож, получается…
Но тут мне в толпе прокричали:
– Привет Чаку Норрису!
А Норрис – актер, в телевизоре часто встречается.
Актер он плохой, но владеет крутыми приемами,
вот тут бы и мне не сплошать, ни о чем не жалеючи, —
хоть плавать, как Окунь, с девицами малознакомыми
я плохо умею, пусть Норрис и круче Шалевича…
И думать не следует, будто бы легкость беспечная
по этому случаю тут же ко мне и нагрянула,
хоть я обернулся и стоечку принял, конечно, я,
но кепочку снял невзначай – и девица отпрянула…
И лысиной бедной клянусь, что стихи несуразные
пишу не о том, что вокруг недостаток внимания,
а только о том, что поэты мы с Мишею – разные,
а также о том, что становится жизнь все туманнее…
Но очень надеюсь, что вы в мои трудности вникнете,
и если в Нью-Иорке вы этого Норриса встретите,
прошу вас: «Привет Левитану!» – вослед ему крикните…
Ничем лучше этого вы меня там не приветите.
2001


