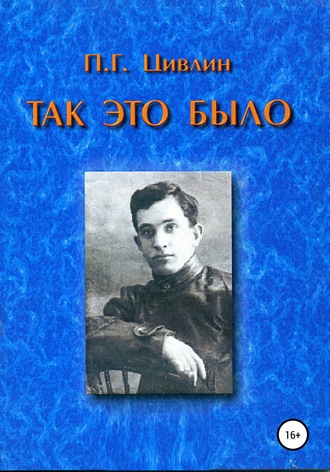
Петр Григорьевич Цивлин
Так это было
Для каждого из нас было ясно – лучше смерть, чем возврат к прошлому. Так думал не только я. Так думало подавляющее большинство рабочих и крестьян – бойцов Красной Армии, для которых приоткрылось новое светлое будущее. Мы готовы были голодать, мерзнуть, отдать последнюю каплю крови во имя этого будущего, но обязательно победить. Поэтому боевой дух наших войск был исключительно высок, несмотря на все трудности, чем не могли похвастать белогвардейские генералы. Ведь ни одна из их частей, в действительности, не была надежна.
Лучшая часть русской интеллигенции также встала на защиту Родины от белогвардейцев и интервентов. Помню, нам зачитывали обращение прославленного царского генерала Брусилова "К русским братьям". Все оно помещалось на одном листке. Написанное простым языком, оно страстно призывало население отдать все силы для разгрома белополяков, посягнувших на русскую землю, и имело среди солдат огромный успех. А сам Брусилов, придерживавшийся до этого нейтралитета, не выдержал и предложил свои услуги командованию Красной Армии.
На обращение политрука я ответил согласием. Но он, для того, чтобы я мог прийти к своему решению сознательно, дал мне для проработки вопроса "Коммунистический манифест" Маркса и Энгельса, напечатанный на толстой серой бумаге большого формата. Возможно, мне нужна была другая, более доступная для моего уровня понимания книга, но других книг у него не было.
Ох, и трудно одолевал я этот «Манифест»! Ведь, это была моя первая политическая книга. Но с помощью политрука, я ее все же одолел, после чего мое желание вступить в партию большевиков не изменилось, а наоборот укрепилось. Вскоре политрук был отозван и комиссар начал готовить меня для политработы.
К этому времени Красной Армией были разгромлены Юденич под Петроградом, Деникин под Тулой, на восток погнали Колчака, началось быстрое продвижение Красной Армии на юг. Большую роль в разгроме деникинцев сыграли латышские полки, являвшиеся образцовыми подразделениями Красной Армии. Всегда подтянутые, дисциплинированные, бесстрашные, внешне красивые, один в один, латыши выглядели богатырями, перед которыми не могли устоять даже отборные части белых. Весной 1920 года, в результате разгрома Деникина Украина вздохнула свободнее. Но оставались еще белополяки, Врангель, Махно и другие.
Курсы Политотдела Юго-Западного фронта
Наша часть остановилась в Полтаве. Я уже был коммунистом, и партийные руководители части направили меня на Военно-политические курсы Политотдела Юго-Западного фронта в город Харьков. Мне предстояло получить политическую подготовку для того, чтобы более квалифицированно и доходчиво разъяснять бойцам и населению очередные задачи партии и Советской власти, рассказывать о коммунистическом будущем, путях его построения. Это было большим доверием, ведь мне еще не исполнилось и 19 лет. Конечно, за спиной у меня уже были завод и армия. Грамоте я учился сам по газетам и листовкам. Но зато ненависти к белогвардейцам и эксплуататорам учить меня было не нужно, ее хватило бы на десятерых. И это часто подсказывало мне решения в трудных ситуациях.
На учебу я поехал с гордостью и желанием. В течение шести месяцев предстояло овладеть большим объемом знаний. Занимались мы с 8 утра до 10 вечера. Это были незабываемые дни. Я не помню, что бы кто-нибудь отлынивал от учебы. Мы, как губка влагу, впитывали в себя каждое слово преподавателя. Вряд ли сегодня можно найти подобную аудиторию. Да и преподаватели у нас тогда были особенные. Они не имели ученых трудов и степеней. Весь материал они держали в голове, пользуясь для памяти лишь небольшими конспектами, умещавшимися на нескольких листках бумаги.
Но каков был язык, каков темперамент изложения! Располагая революционным опытом, они так излагали нам историю мирового революционного движения, Парижской коммуны, что мы слушали их, затаив дыхание. Нынешние профессора и ученые могли бы позавидовать нашим первым преподавателям.
Питались и одевались преподаватели и слушатели в то время очень скудно. Но мы и не претендовали на большее. И если бы кто-то из нас высказал недовольство по этому поводу, то на него посмотрели как на редкое ископаемое.
Иначе и быть не могло. Каждый отлично понимал, что тяжесть положения, переживаемого Советской властью, должны разделять все в одинаковой степени, будь-то председатель Совнаркома, работник ЦК, командир и политработник, руководитель предприятия и рядовой рабочий. Иначе Советской власти не быть!
В те годы коммунист – руководитель, находящийся на ответственном был строго ограничен в зарплате партийным максимумом, тогда как рабочий мог зарабатывать в два, а иногда в три раза больше, чем любой руководящий партиец. Эти ограничения распространялись также на коммунистов – писателей, художников, артистов, кроме коммунистов, работающих на производстве. В этом самоограничении правящей партии было много мудрости и благородства.
Оно свидетельствовало о том, что в партию люди вступали не ради выгоды и привилегий, а ради служения высоким целям построения нового коммунистического общества. Это видел и понимал народ, и это имело неоценимое значение для консолидации общества.
Но недолго длилась моя учеба. В мае 1920 года белополяки, поддерживаемые французским капиталом, начали быстро продвигаться в глубь Украины, взяли Киев и Триполье. Нужно было организовать отпор польским панам.
Начальником политотдела Юго-Западного фронта был Владимир Петрович Потемкин. Он преподавал нам на курсах «Мироздание». Это был известный революционер, высокообразованный, интеллигентный и, в то же время, мужественный, решительный и справедливый человек. Однажды, явившись на лекцию, Владимир Петрович сказал нам, что на польском фронте сложилось очень тяжелое положение и нужна срочная помощь. Командование Юго-Западного фронта решило направить на польский фронт курсантов – добровольцев под его командованием, поэтому кто желает, может записаться. Все курсанты были коммунистами или комсомольцами и, понятно, как один, подняли руки, выразив желание отправиться на польский фронт.
Один из курсантов по фамилии Юдчак тоже поднял руку, чтобы идти на фронт, но он был настолько, близорук, что, несмотря на толстые очки, плохо видел даже вблизи. Поэтому на фронт его брать было никак нельзя. Но он с этим не соглашался. Нам пришлось долго его убеждать, но убедить его так и не смогли, и заставили остаться в Харькове в порядке партийной дисциплины.
На фронт с нами поехал В. П. Потемкин. Заведующий политпросвета политотдела товарищ Арманд был назначен командиром нашего батальона. Командиром роты курсантов был назначен начальник наших курсов товарищ Иванов. Ехали мы на фронт налегке. Лишняя пара портянок, смена белья и сапоги – вот и весь наш солдатский гардероб. Рассуждали просто. Если убьют – вещи не понадобятся. Если же ранят или останемся невредимыми, то после разгрома поляков (другого исхода мы не предвидели) вернемся на курсы, так что вещи таскать с собой незачем.
На польском фронте
Наша часть была прикомандирована к Днепровской флотилии и должна была использоваться в качестве десантной, с тем, чтобы теснить противника вдоль берегов Днепра и оттягивать его силы на себя. Боевые действия мы начали, высадившись в первых числах июня в районе приднепровской деревни Стайки, и на рассвете с ходу перешли в наступление.
К 12 часам дня мы взяли Стайки, а затем деревню Виточево и двинулись на Триполье. Но, наступая на Триполье, мы столкнулись с сильно укрепленными позициями противника. Поляки встретили нас артиллерийским и пулеметным огнем и мы, потеряв часть товарищей, вынуждены были вернуться на судно.
Несколько слов о том, что представляло собой, так называемое, боевое судно Днепровской флотилии. Это был обычный грузовой пароходишко со скоростью не на много превышающей скорость черепахи, и со стажем в несколько десятков лет. Такие пароходики были отремонтированы рабочими, на них были установлены трех- и шестидюймовые орудия с морских военных судов, а также несколько пулеметов. По тем временам такое вооружение можно было бы признать совсем неплохим, если не считать того, что после каждого выстрела кормового орудия корма настолько уходила в воду, что по палубе боевого судна прокатывалась волна. То же, но в обратном порядке, происходило, когда стреляло носовое орудие. Зато моряки на этих судах были настоящие – балтийские и черноморские. Вскоре стало ясно, что помощь фронту, если мы будем базироваться на этих судах, вряд ли будет эффективной, зато мы рано или поздно отправимся на тот свет.
Дело в том, что нас два раза в сутки, утром и вечером, начали посещать и бомбить французские самолеты. Мы рассыпались по берегу и открывали пальбу по самолетам из винтовок и пулеметов, а моряки пытались даже стрелять по ним из пушек.
Самолеты тогда были типа нынешнего У-2. Летчик сидел в открытой кабине и бросал через борт бомбу весом два-три килограмма, пытаясь попасть в судно или в скопление бойцов. Но, видно, делать ему это, и одновременно управлять самолетом, было нелегко, поэтому точность попадания бомб была очень низкой, и вскоре мы перестали обращать внимание на прилетающие самолеты. Но однажды утром во время очередного налета, когда у кормы одного из катеров собралось человек двадцать бойцов, бомба угодила прямо в центр группы. Несколько человек были убиты наповал, другие серьезно ранены, а на броне судна образовалась вмятина метра два в диаметре. Это окончательно убедило нас в необходимости оставить днепровскую флотилию, и направиться по тылам противника.
Как-то меня послали в разведку, чтобы выяснить расположение поляков в районе Ржищева. Дело было в ночь под Троицу. На Украине – ночи замечательные. Небо сплошь усеяно звездами, тихо. Добираться до Ржищева мне пришлось километров пятнадцать, и к 12 часам ночи я уже был на кладбище. В селе было спокойно, молодежь гуляла, а поляки находились в помещениях. Выяснив обстановку, я к утру вернулся в часть и доложил обстановку.
На следующую ночь мы подобрались к Ржищеву и захватили поляков сонными, в одном белье. Это был наш первый успех на этом участке фронта. Мы захватили много оружия преимущественно французского производства.
Вскоре на марше к нам прибыл командир. Потом выяснилось, что он имел опыт партизанских действий еще со времени империалистической войны, хотя было ему лет тридцать пять. Человек он был отчаянной храбрости, большой знаток своего дела. Под его командованием мы не знали ни одного поражения. Как тени мы двигались по тылам за поляками, появляясь в самых неожиданных местах, нанося урон и сея панику в их рядах.
До нашего появления на этом участке фронта поляки чувствовали себя спокойно, никто их не тревожил, так как большой участок фронта от Днепра в направлении Белой церкви был оголен, и им некого было там опасаться. Щеголяя новеньким английским и французским обмундированием, в белых перчатках, на прекрасных лошадях польские офицеры гарцевали перед крестьянами, теша свою гордость и грабя хлеб и имущество. С нашим появлением все это закончилось. Теперь они вынуждены были часто и, порой, безуспешно защищать свои позиции. Вскоре Буденный прорвался к Житомиру, и поляки побежали, да так энергично, что даже кавалерия не всегда могла их догнать. Куда только подевалась их спесь!
Операция Буденного дала возможность освободить Киев, в который мы вошли одними из первых примерно в июле 1920 года. С балкона Городской Думы на Крещатике к нам и населению Киева обращались с приветствиями руководители партии. В это время мне впервые пришлось столкнуться с предательством.
На наших курсах учился некий Поляков, направленный из Харьковской организации. Дело в том, что, поначалу, курсы укомплектовывались только фронтовиками, а потом на них начали присылать и представителей местных организаций. На курсах я знал Полякова по фамилии, но мы с ним были мало знакомы.
В первую ночь, когда мы высадились с судна, чтобы пойти на сближение с поляками, мы, вдруг, обнаружили, что Поляков исчез. Мы решили, что он отстал. Вскоре, после недолгого пребывания на этом участке фронта, нам стало известно, что у белополяков появились пофамильные списки бойцов нашего отряда с указанием партийной принадлежности. А с коммунистами разговор у поляков был коротким – расстрел. Откуда они достали эти списки мы не знали. И вот на второй день, после того как вошли в Киев, мы встретили Полякова на Крещатике, и у нас возникло подозрение, что это он передал списки отряда белополякам, после чего находился в Киеве до его взятия Красной Армией.
Мы задержали Полякова, и доставили его в нашу часть, которая разместилась в гостинице «Континенталь». Через два дня под председательством В. П. Потемкина состоялся суд, на котором выяснилось, что Поляков добровольно перешел к белополякам, сдал им оружие и передал списки нашей части. Вскоре по решению суда Поляков был расстрелян.
После взятия Киева мы отдыхали около четырех дней. Приводили в порядок белье, которое не меняли в течение полуторамесячных боев, ремонтировали обувь. После этого нам дали задание сопровождать по Днепру несколько барж с трофеями, добытыми в боях. Среди этих трофеев было много тех самых бомб, которые в нас бросали французские летчики. Запас продуктов нам выдали мизерный: хлеба полфунта в день, сахара 10 грамм, по селедке и всё.
Наше плавание шло самотеком, так как буксир, который тащил наши баржи, несколько раз в день останавливался на ремонт. Его котлы топились дровами, и мы должны были все время заниматься их заготовкой. Фарватера никто не знал, поэтому мы постоянно садились на мель. Находясь на баржах, отлучиться мы тоже никуда не могли, так как вокруг была вода, а до берега, как правило, было далеко. Вскоре закончились продукты. Но разве можно умереть с голоду находясь в середине Днепра, и имея несколько барж авиационных бомб?
Мы очень скромно расходовали эти бомбы. Выбирая тихую заводь мы опускали в нее самую маленькую бомбочку и Днепр одаривал нас своим богатством, которым мы кормили всех бойцов и команду катера. Наконец мы прибыли к цели и смогли снова вернуться в Харьков на курсы Политотдела. Однако, учиться нам снова пришлось недолго.
Председатель Ревтрибунала В. П. Потемкин
К этому времени Врангель, поддерживаемый странами Антанты, развернул наступление и подходил уже к Мелитополю и Запорожью. На Украине свирепствовали банды. Командование Красной Армии поставило задачу очистить врангелевский фронт от диверсантов, шпионов, а также проводить просветительскую и разъяснительную работу среди населения. С этой целью была утверждена выездная сессия революционного трибунала. Её председателем был назначен В. П. Потемкин[2].
Для размещения всего состава ревтрибунала был выделен поезд, в составе семи классных вагонов. Ему было присвоено название агитпоезда имени члена реввоенсовета республики товарища Сталина. В распоряжение Потемкина было выделено 30 политкурсантов – коммунистов, в их числе был и я. В задачу курсантов входило проведение политической и разъяснительной работы среди населения, охрана поезда и приведение в исполнение приговоров ревтрибунала. Кроме того, к поезду были прикомандированы артисты, которые должны были ставить революционные спектакли для населения и частей Красной Армии.
В июле 1920 года мы приняли поезд на станции Харьков и приступили к его художественному оформлению на революционные темы. Однако, вскоре было решено, не дожидаясь окончания художественной росписи вагонов, двинуться в направлении Западного фронта к Запорожью. Разные люди проходили через ревтрибунал, и по-разному к ним относился пролетарский суд. Остановлюсь на нескольких характерных случаях.
Как-то в ревтрибунал попала бывшая княгиня, фамилию не помню. Это была женщина средних лет. Она систематически переходила линию фронта, поддерживая связь с Врангелем, а до этого – с генералом Май-Маевским. После ареста она долгое время выдавала себя за крестьянку, потом за умалишенную, не признаваясь в шпионской деятельности. Только, когда ее разоблачили, она в пылу ненависти высказала все, что думала о Советской власти. Пощады она не просила.
Однажды нами был арестован красный командир боевого артиллерийского участка 13-ой армии. Очень красивый, представительный мужчина лет тридцати пяти, он, как выяснилось на заседании ревтрибунала, занимался пьянством, грабежами, разлагая бойцов и восстанавливая против советской власти крестьян и городское население. За грабежи населения и подрыв авторитета советской власти этот командир ревтрибуналом был приговорен к расстрелу.
Заседание ревтрибунала проводились, как правило, в той же местности, где орудовали бандиты, и где население их знало в лицо, видело, что они творили. Поэтому на заседания трибунала приходили все поголовно: и стар, и млад. Так и в тот раз, когда судили командира артиллерийского участка, собралось тысяч пять народу. Приговор, объявленный председателем сессии В. П. Потемкиным, был встречен с одобрением, и тут же приведен в исполнение.
Расходясь, люди говорили:-"Вот она – советская власть! Она наказывает преступников, невзирая на то, что свои. Это не чета Врангелю, Деникину и Махно. Это действительно народная власть".
Однажды в трибунале рассматривалось дело о спекуляции. Гравер Энгельгарт и парикмахер Каплан изготовили печати, и под «маркой» штаба 13-ой армии отправляли вагоны с хлебом для перепродажи. Трудности с хлебом в 1920 г. были большие, и эти спекулянты наживались неимоверно. По решению выездной сессии ревтрибунала оба спекулянта были расстреляны здесь же в присутствии множества жителей Запорожья.
Как-то в ревтрибунал попал молодой красный командир. Это был молодой парень из Питера. Отец его был питерским рабочим, революционером. Сам же парень окончил командирские курсы и был направлен на Южный фронт. В одном из боев он получил ранение в пятку и самовольно оставил часть, отправившись в лазарет.
За нарушение дисциплины, как командир самовольно оставивший часть, он подлежал расстрелу. Но, учитывая пролетарское происхождение (так было сформулировано в решении трибунала) и чистосердечное признание вины, он был направлен в ту же часть, чтобы искупить вину в бою.
Мы объездили все участки врангелевского фронта, очищая наши тылы от предателей, бандитов и спекулянтов, что способствовало разгрому Врангеля Красной Армией.
Когда нас вернули с Врангелевского фронта на курсы, там была уже почти вся комсомольская организация Запорожья. Оказывается, она была эвакуирована в период наступления Врангеля. Курсы размещались в Доме призрения, кажется, по Екатеринославской улице. Теперь наша учеба протекала довольно спокойно. В дальнейшем предполагалось влить курсы в партийную школу для подготовки партработников.
В связи с этим начальник курсов Иванов предложил мне перейти на учебу в эту партийную школу. Я не возражал и готов был пойти на это, но помешало одно обстоятельство.
Товарищ Слонимская
Как я упоминал, за время пребывания на Врангелевском фронте наши курсы пополнились комсомольцами из гражданских организаций. Фронтовиков на курсах было мало: часть была убита или ранена в боях, другие – откомандированы командованием. Поэтому к курсантам-фронтовикам, оставшимся на курсах, проявлялось особое отношение. К нам, как к участникам боев, относились с завистью, и каждый комсомолец искал дружбы с нами.
В действительности, никто из нас не мнил себя героем и не думал, что совершил что-то особенное. Мы просто делали все, что в наших силах, выполняя свой революционный долг не за страх, а за совесть. Теперь предстояло наверстать упущенное, и я был полностью поглощен учебой.
Однажды, после лекции ко мне на скамью подсела комсомолка Слонимская. Очень активная, веселая, инициатор всех общественных начинаний на курсах. Слонимская была умницей, хороша собой, отлично училась. На курсы пришла из наркомата рабоче-крестьянской инспекции Украины. Подсев ко мне, она сказала, что не может разобраться в ряде вопросов, и просила ее проконсультировать. Понятно, я счел себя обязанным помочь товарищу и пообещал сделать все, что в моих силах.
Однако, с каждой консультацией неясных вопросов становилось все больше. Они возникали днем во время лекций, на перерывах и, особенно, вечерами во время индивидуальной проработки материала. Наши отношения стали перерастать в дружеские. Возражать против этого я, естественно, не мог, ведь Слонимская, как человек, была весьма интересна и содержательна.
В наших беседах, в совместных прогулках, она часто высказывала сожаление, что не успела проявить себя в гражданской войне, и говорила, что готова пожертвовать жизнью для победы революции. Я верил в ее честность, искренность и понимал, что так оно и было. Но как-то, во время одной из таких бесед, Слонимская мне заявила, что влюблена, жить без меня не может и предлагает начать совместную жизнь.
Что было делать? С одной стороны это была, бесспорно, замечательная девушка: – честная, красивая, чистоплотная, прекрасный товарищ. Она мне очень нравилась. Но ведь мне было всего 20 лет! Впереди было строительство коммунизма.
Никто из нас тогда не считал себя вправе думать о личной жизни до тех пор, пока не построим коммунизм, который, как мы были уверены, будет создан в течение небольшого отрезка времени, и не только у нас – во всем мире!
Вообще, тогда каждый коммунар мыслил только масштабами мировой революции, и, когда заканчивался очередной митинг, собрание или доклад, то после этого обязательно провозглашался лозунг: – "Да здравствует мировая революция!".
Не сегодня – завтра, каждого из нас партия могла послать на любой участок фронта революционной борьбы во всем мире. Как же мог я связать себя с этой милой, красивой девушкой, обзавестись семьей, если впереди нас ждало еще столько испытаний?!
Да, к тому же у нас еще не была завершена борьба с контрреволюцией, начиналось восстановление народного хозяйства страны, и в любой момент партия могла бросить на решение этих задач.
Все это, как мог, я разъяснил товарищу Слонимской. Но он меня не понимала. Нет, она, конечно, была согласна, что коммунист не принадлежит себе, и по первому зову партии обязан идти на выполнение любого задания, но она считала, что это можно делать и вдвоем, вместе с ней. И эти свои соображения она излагала мне по несколько раз в день, заканчивая тем, что она может поехать со мной куда угодно и терпеть любые лишения ничуть не хуже, чем я.
Эти дискуссии стали мешать учебе. На лекциях я уже ничего не усваивал. Мы снова и снова возвращались к вопросу о том, имеет ли коммунист право на личную жизнь и почему по приказу партии можно приносить себя в жертву только одному, и нельзя вдвоем?
Заниматься я больше не мог. А по вечерам, дискутируя с товарищем Слонимской, чувствовал, что при малейшем ослаблении воли вполне может произойти непоправимое. И тогда я решился посоветоваться с начальником курсов товарищем Ивановым.
Нужно сказать, что он был для меня не просто начальником. Мы вместе были на польском фронте, и не раз между боями ночевали в стоге соломы, укрываясь одной шинелью. По моим тогдашним понятиям это был пожилой, умудренный жизненным опытом человек (ведь ему в то время исполнилось уже 35 лет!). Наконец, это был замечательный коммунист. Поэтому я без утайки изложил все свои сомнения товарищу Иванову.
Выслушал он меня очень серьезно и сказал, что, в целом, я рассуждаю правильно. И, по его мнению, мне лучше всего уехать. Он предложил направить меня, как окончившего курсы, в распоряжение Политотдела Юго-Западного фронта, а Слонимскую – задержать на курсах и, используя весь свой авторитет, объяснить ей, что этого требуют интересы мировой революции.
Так закончилось мое пребывание на курсах. Я получил от Политпросвета Юго-Западного фронта аттестат, в котором значилось, что я "окончил военно-политические курсы при Югзапе, и познания получил весьма удовлетворительные". Перед отъездом из Харькова мне был выдан паек: два кило сельдей, кило масла и несколько буханок хлеба. Провожала меня вся наша группа. Ну и, конечно, товарищ Слонимская.
Она, по-прежнему, была со мной решительно не согласна, и высказывала недовольство моим бегством. На прощанье заявила, что, как только добьется ухода с курсов, тоже поедет в Донбасс.
Она не понимала, что мой побег, это побег, прежде всего, от самого себя – гарантия чести в моих с ней отношениях. Ведь мы – коммунисты той поры, дело личной чести ставили превыше всего.


