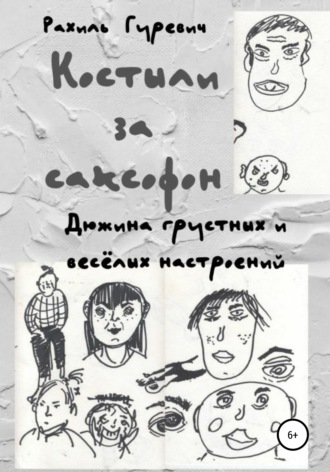
Рахиль Гуревич
Костыли за саксофон. Дюжина грустных и весёлых настроений
Мобильник был игрушечный, бордовый пластмассовый корпус, даже кнопочки не нажимались, он Ларисе в новогоднем подарке среди конфет попался. Лариса на сцене должна была сумку открыть, достать его…
– Положила.
– Лариса! Что с тобой?! Сейчас пятый номер. Потом – шесть. Потом – ты.
– Не пой-ду, – отчеканила Лариса.
Мама внимательно посмотрела на Ларису, лицо дочери белело в тёмном углу кулис.
– Но почему, Лариса?! Столько работы пропадёт. А время?! Сюда же далеко ехать!
– Над ней тут девчонка смеялась: вся в блёстках такая, деловая, – ввернул мальчик-репер.
Лариса упрямо сидела на стуле и мучилась: как могло так получиться, что появился такой уродский костюм. Сначала-то у неё был другой костюм. Мама отшила его, сфотографировала Ларису на природе, среди деревьев: Лариса протянула руку с семечками, ей на руку села синичка… Лариса этот костюм и не помнила, только фотографию видела. А потом уже, когда маму допустили до конкурса, мама сшила новый костюм, ещё лучше прежнего – Лариса очень быстро росла, старый костюм уже был мал…
– Лариса! Неужели из-за того, что кто-то плохо о костюме отозвался, ты не пойдёшь?
– Не пойду, – захныкала Лариса. Она понимала, что подводит маму, но и позориться в своём зимнем душном костюме не хотела: хотя конечно подкладка на куртке была прохладная, если её просто трогать, а не надевать на себя.
– Лариса!
– Мама! Почему ты мне не сшила платье?
Мамино лицо вытянулось, глаза расширились:
– Да ты что, Лариса! Я таких платьев заказчицам миллионы-сикстилионы пошила! Ты же знаешь.
– А мне на Новый год не сшила.
– Но в них нет ничего оригинального. Зачем тебе это нужно? У тебя прекрасный костюм.
– Да, Ларис! Классный костюм. Ты даже не думай, – уговаривал и мальчик.
Лариса зарыдала.
– Э-эх, – махнул обречённо рукой мальчик. – Сразу видно, что в школу не ходишь.
– А что в школе? Учат костюмы показывать? – спросила мама.
– Нет. Школа учит боевому настрою. В школе надо выживать. Без боевого духа – никуда. Знаете, в школе сколько таких блёсток, которые только и говорят: это – ерунда, ты – дебил, ты – бомж.
– Номер семь! Где номер семь?!
Лариса всё сидела на стуле.
И все стали кричать:
– Номер семь. Костюм «Карандаш». Где ты?
– Не хочешь, не ходи! Упрямая как баран. Мало ли кто что сказал, – резко сказала мама и отвернулась.
– Номер семь!
– Идём, идём! – отозвался мальчик. – Ну же! Лариса!
Злость мамы передалась Ларисе. Тем более, что все дети после выступления вбегали за кулисы довольные, а из зала слышались хлопанья.
– Я тут. Я номер-кочерга!
– Мы тут, – сказала и мама. – Ну, Лариса, постарайся. Помни: не себя показываешь, а демонстрируешь костюм.
Лариса вышла на сцену, и всё забыла: обиды, сомнения. Она пропала на сцене, это был другой мир. Мир настоящего волшебства и перевоплощений, остров, островок, где не было злости и обид, где было только то, что представит выступающий. Лариса – хозяйка выступления, все смотрят на неё. На репетиции мама говорила, что нужно ходить так, будто на сцене глубокий снег, чтобы создать ощущение зимы. Но свет бил Ларисе в лицо. Солнышко! Она вспомнила домик и зверей из ниточек. Она прошлась, прокатилась как ёжик, по кругу, потом пробежала, представляя себя козочкой Розочкой, а потом прошлась тяжело как корова Милушка по весеннему тяжёлому снегу. Потом Лариса расстегнула куртку, бросила её на пол. Заблестела под искусственным светом подкладка. Под курткой у Ларисы висела сумка в виде карандаша. Лариса расстегнула сумку, взяла в руки пластмассовый мобильник, приложила к будёновке и стала ходить кругами, жестикулируя. Кто-то засмеялся, но не зло, а одобрительно. Послышались хлопанья, сильнее и сильнее. В то время мобильники были ещё в новинку, и люди постоянно говорящие по телефону вызывали удивление, были непривычны. Сценка, разыгранная Ларисой, как бы высмеивала таких людей. Музыка закончилась. Лариса спрятала мобильник в сумку, сняла будёновку, помахала залу, потом подняла куртку, помахала теперь курткой, накинула на плечо, и вразвалочку, как мальчик-хулиган, ушла за кулису.
– Молодец! – похвалила мама Ларису. – Пойдём в зал теперь. Посмотрим остальных.
Когда проходили мимо девочки-принцессы, Лариса заметила, как та опять сидела надутая, а увидев Ларису отвернулась.
Ещё долго проходили показы. Сначала дети, потом взрослые, потом другие взрослые, не в сшитых, а в вязаных вещах. Когда выступали взрослые, Лариса сразу узнала маму девочки-принцессы. Такая красавица, стройная, в таком же, как у дочки фасоне. Мама-королевна!
Потом был концерт. Когда объявили награждения, Лариса бегала с детьми в салки-прилипалы в фойе. Там были такие огромные растения в таких огромных горшках, что за ними можно было укрыться с головой, как за кустом на прогулке.
– Лариса! Пошли!
Сначала на сцену вызвали всех детей и вручили им и мамам подарочные мешки с шапочками и шарфиками.
А потом стали вызывать победителей. Вот уже и третье место наградили – малышку в космическом платье, вот уже и второе место наградили – мальчика в костюме озорника-рэпера. Он вышел, пританцовывая, как настоящий уличный хулиган.
– Ну всё, – сказала мама разочарованно. – Можно уходить.
И они с мамой стали пробираться через кресла к выходу…
– Сейчас меня наградят! Меня наградят! – послышался знакомый надменный голос. В зале рассмеялись.
«Конечно, – подумала Лариса. – Сейчас принцессе первое место отдадут».
Но тут объявили их фамилию.
– Лариса! Мы первое место взяли!
Мама и Лариса побежали обратно к сцене, им вручили огромную корзину с разными баночками-скляночками и огромный букет.
– Как раз ростом с тебя корзина. Корзина ростом с карандаш! – жала Ларисе руку председатель жюри по фамилии Шуба.
Потом Ларису долго фотографировали, и малышку, и озорника-хулигана-рэпера.
– Ты на сцене по мобильнику говорила? – спросил фотограф. – Доставай!
Лариса не сразу поняла, столько было впечатлений, потом вспомнила:
– А-аа.
Она достала игрушку, приложила к будёновке.
– Замечательно. Настоящая модель.
Все разошлись переодеваться. Лариса, как не оглядывалась по сторонам со своей скамейки, не видела больше ни девочки-принцессы, ни её мамы-королевны, ни их бабушки-мастерицы. А Ларисе очень хотелось похвалиться перед принцессой-зазнайкой.
– Как так, мамочка?! Она же утверждала, что получит первый приз.
– Ой, Лариса… – вздохнула мама.
– Похвальбушки все вредные и хитренькие! – Лариса радовалась, скакала, кружилась, представляя, что на ней надета крутящаяся юбка «солнце», которые мама часто шила заказчицам.
Подошёл мальчик. Лариса сначала и не узнала его в обыкновенной одежде.
– Ну вот! Прощай!
– Сёма! Ты хоть поздравь!
– Поздравляю! – сказал Сёма и поправил очки. – А всё-таки я тоже тебе помог. Ты раскисла. Не надо. Не раскисай.
И мама Сёмы сказала:
– Ты запомнила, что в жизни главное?
Лариса растерялась, покрутила отрицательно головой, не знала, что ответить. Тут она увидела девочку-принцессу в обычной одежде, с перепутанными буклями, и даже без банта и заколок. Девочка стояла у гардероба и грозила кулаком. Но Лариса даже не расстроилась, и тут же сообразила, что в жизни главное.
– Боевое настроение?
– Верно!
– А ещё поддержка! – сказала мама Сёмы.
– Мы бы, Сёма, без тебя пропали! – сказала Ларисина мама. – Спасибо!
Поболтали ещё о том-о сём, покопались в подарочных сумках, сгрызли по энергетическому батончику, запили соком…
Пока ехали домой, мама и Лариса шептались за огромной корзиной, которую Лариса еле удерживала на своих коленях. Лариса вспоминала девочку-принцессу и то, как она всем говорила обидные слова всем.
– Такая уверенная, наглая! – возмущалась Лариса.
– А знаешь, – сказала мама. – Она сразу поняла, что у тебя хороший костюм, вот и решила сделать так, чтобы ты расстроилась. И, знаешь, ей это почти удалось.
– Просто я была как заколдованная. Я решила, что хуже всех.
– Да. Такое часто случается, – вздохнула мама. – Мне тоже всё время кажется, что у других всё получается лучше. На конкурсе всё зависит от судей. А вдруг они тоже принцессины платья любят… Все просто помешались на этих безвкусных платьях.
На следующий день по телевизору в новостях несколько раз прошёл репортаж о конкурсе. И маму с Ларисой показали, и Сёму, но больше всех космическую девочку-малышку, о ней и был снят сюжет, и тётя-солнышко всем улыбалась в конце и махала рукой. Принцесс в репортаже замечено не было.
В модных журналах появились фотографии Ларисы в костюме.
А у мамы стало больше заказчиков. И под Новый год, и на другие праздники ещё больше стали заказывать маме принцессиных платьев. Мама шила их молча и быстро-быстро, ведь заказчик всегда прав, а заработанные деньги маму и Ларису очень выручали.
Ещё долго Лариса носила подаренные на конкурсе шапочку и шарфик, а мешок, в котором они лежали, ей пригодился для сменки в школе. Ещё долго-долго не кончались мыла в форме розочек и шампуни в витиеватых бутылках из огромной корзины, до самой школы хватило. Осенью Лариса стала складывать каштаны в освободившуюся корзину. Она относила каштаны на урок технологии, на весь класс. А к началу зимы в корзине селились яблоки… В ноябре дачную антоновку до самого лета сменяли яблоки из магазина, то красные, то жёлтые… Корзина оказалась универсальной и почти вечной.
В школе Лариса не раз уже сталкивалась с такими же вредными и злыми девочками как та принцесса с конкурса.
«Какая я была простушка», – думала теперь подросшая Лариса.
Боевое настроение часто помогало Ларисе ответить урок, и не испугаться школьных забияк, и обогнать одноклассников на лыжном кроссе. Прошло много лет, а Лариса по-прежнему вспоминала то чувство торжества, когда ей вручали корзину с подарками. Она вспоминала и Сёму, послушного мальчика, который буквально перевоплотился в хулигана, сняв очки и надев костюм.
– Как жаль, – говорила Лариса. – Что мы с ним попрощались навсегда.
В солнечные зимние дни Лариса вспоминала и рукодельницу в платочке и сарафане, и её зверят из ниток: у них тоже было боевое настроение. Ведь они защищали свой теремок.
Краплак красный
Мучительное настроение
Восьмилетняя Лариса занимается в изостудии. Дикая несправедливость обрушивается на неё.
Лариса много рисовала. И раскрашивала много. Когда на уроках чтения ей было скучно, она доставала потихоньку фломастеры и раскрашивала, раскрашивала, прячась за спинами впереди. Лариса сидела на предпоследней парте у стены, то есть почти дальше всех от стола учителя. Позади Ларисы сидел только Чернявский, вертлявый длинный нестриженый и неопрятный, он читал огромные книги. Чернявский тоже скучал… Но его учительница никогда не вызывала на чтении, а Ларису – вызывала. Конечно же учитель видела, что Лариса не следит, и хотела, наверное, её «поймать». Но Лариса всегда запоминала последнее слово – то, которое прочитывал ученик прежде, чем его останавливали. Лариса быстро отыскивала это слово, пробежавшись глазами по крупным буквам учебника, и читала, быстро-быстро, торопливо, чтобы поскорее отстали, и можно было дальше раскрашивать. Учительница ставила четвёрку «за бормотание», теряла к Ларисе интерес, приставала к другому ученику:
– Читай!
«Читай!» Нет чтобы сказать: «Раскрашивай!» И почему учителя всегда учат неинтересному? Неужели нельзя на дом задать почитать, а в классе, на уроке, попросить нарисовать рисунок к произведению!
В день, когда Лариса получила вторую за сентябрь четвёрку по чтению, вернулась от клиентки вся промокшая мама. Лариса подбежала к окну. Крупные капли стекали по стеклу. Стекали, стекали, стекали… Двор за окном стоял размытый, нечёткий, серо-цветной, а Лариса даже и не заметила, что на улице ливень. И ведь колотит по крышам, по асфальту, а она не заметила…
– Лариса! – торжествующе сказала мама, водрузив на портновский манекен костюм заказчицы. – Я прочитала объявление, весь двор завешан: набор в детскую студию.
– И что? Сейчас много таких объявлений. Хип-хоп, английский, сольфеджио. Все танцуют, болтают, музицируют, а я…
– Я тоже сначала думала, что танцы. Пригляделась: «Начинает работу новая детская изостудия». Понимаешь – новая! Я прямо с костюмом и побежала по адресу. Я тебя уже записала. Эх! Жаль, что дождь объявления размочет, никто не придёт.
Но на первое занятие пришло много людей. Все столы были заняты. Ольга Викторовна, педагог и художник, очаровала и детей, и родителей. Молодая, энергичная, с длинной косой. А какие серёжки у неё были в ушах. Резные, с голубыми камнями и тонкой микроскопической росписью в центре – Лариса такие видела только на картинах.
Ларисе ужасно нравилась в изостудии. Она бежала, неслась на занятия сломя голову, не могла дождаться вторников и четвергов. Остальные дни недели Лариса перестала уважать, особенно пятницу – ведь до вторника оставалось ещё целых четыре дня!
Через месяц работы Ларисы и мальчика Гриши отправили на окружную выставку.
Лариса нарисовала натюрморт, мазками-мазками.
– Где ты видела такую вазу? У тебя дома такая? – столпились вокруг дети.
– Нет. У меня в голове такая ваза.
Да, Лариса никогда такого натюрморта не видела, и такой замысловатой вазы тоже. В восемь лет дети ещё не рисуют с натуры – ведь это так скучно.
С каким волнением Лариса шла на выставку с мамой, как она гордилась… Но в понедельник галерея оказалась закрыта. Тогда Лариса с мамой пришли в выходной.
Ларисина работа терялась на фоне других работ, натюрморт был детский, а многие работы были нарисованы как будто взрослыми. Но маме понравился натюрморт, и Гришина работа тоже.
Ольга Викторовна попросила оставить дипломы за участие в выставке в студии, она хотела их отсканировать и возвратить, но не успела. Какой-то малыш из утренней дошкольной группы порвал дипломы на палитру. Нет! Если бы он взял дипломы и пробовал на обратной стороне краски – это ещё ничего, дипломы можно бы было спасти, но он их порвал! Разорвал на четыре части…
– Обидно, но ладно, – вздыхала Лариса, повторяя за Ольгой Викторовной.
Весь год Лариса вместе со всеми рисовала, рисовала, расписывала, лепила. Вместе с Ольгой Викторовной мечтала о муфельной печи для обжига.
В конце года Ольга Викторовна организовала выставку. И пришло много людей, потому что выставка проходила как раз в день выборов. Ларису наградили как активного художника студии, подарили ей огромную коробку пастели – цветных мелков, которыми можно рисовать по бумаге, а потом пшикнуть на лист лаком для волос – тогда картина не будет пачкать руки…
И Чернявский ходил и смотрел на картины в белых одинаковых паспарту. Он подошёл к Ларисе и спросил:
– А почему у твоей Мальвины ноги такие худющие, как палки? Так не бывает.
Лариса пожала плечами – она не знала, почему у её Мальвины такие ноги. Ну не знала и всё тут! Ларисе было всё равно: бывает так или нет. Просто появилась на листе такая Мальвина, просто появилась и всё.
Это был самый счастливый Ларисин год в изостудии. А на следующий год в группу пришли новенькие. И среди них – девочка Маша Ченибал.
Однажды, в очередной дождливый октябрьский день, Лариса и Маша остались дежурить, убирать столы. На стенах висели работы последних занятий – эскизы рисунка тканей.
– Фуу… Тебе вот это нравится? – спросила Маша, указывая на эскиз.
Лариса не знала: нравится ей или нет. Она закрывала студийные банки с гуашью. А потом надо было бегать в туалет мочить тряпку и вытирать столы. Лариса надеялась, что Маша, перестанет, наконец, рассматривать работы на стенах и начнёт тоже закрывать гуашь, но Маша всё ходила и рассматривала, и мучила Ларису:
– Так нравятся тебе эти колокольчики на голубом фоне?
– Не знаю, – большая банка гуаши у Ларисы не закрывалась, краска присохла вокруг горлышка, надо было посильнее закручивать крышку, чтобы присохшая краска отвалилась и тогда банка закрылась бы плотно. «Вот Чернявский бы легко закрутил эту крышку», – подумалось Ларисе. Она часто фантазировала, что ей в чём-то помог Чернявский: вылепить снежную крепость, дотащить до подъезда снегокат с маленьким братом Васей, открыть или закрыть банки гуаши, чтобы засохшая краска сдалась и хрустнула и отшелушилась…
– Краплак красный, краплак красный… – твердила Лариса, счищая стеком краску с горлышка.
– Ну хорошо, если ты не знаешь, нравится тебе этот эскиз или нет… – мучила и мучила Ларису Маша Ченитбал, – скажи мне тогда: ты бы платье такое стала носить?
Банка закрылась. Лариса довольная посмотрела на стену, на эскизы, прищурилась – так делала всегда, оценивая работу, Ольга Викторовна:
– Стала бы, – сказала Лариса, хотя на самом деле вообще не носила платья. Из юбчатой одежды у неё был только школьный сарафан.
– Как? Стала бы тако-ое носить?!
– Ну не стала, – вздохнула Лариса и пожала плечами, лишь бы закончить этот допрос. – Пошли, Маш, тряпки намочим. Смотри, какие испачканные столы.
В следующий вторник, перед занятием, Лариса проходила мимо Ольги Викторовны. Рядом с ней стояла какая-то женщина. В чёрном мягком блестящем плаще и чёрных перчатках.
– Хорошо, – сказала Ольга Викторовна чёрной женщине каким-то незнакомым твёрдым голосом. – Я поговорю с Ларисой.
Лариса не придала этому никакого значения, разговор тут же вылетел у неё из головы: начиналось занятие, сейчас Ольга Викторовна расскажет новую тему, покажет альбом с великими картинами, и можно будет рисовать, рисовать, рисовать…
Прошло ещё где-то с полмесяца. И однажды Лариса осталась убираться одна – второй дежурный, Гриша, смылся, сославшись на «много уроков». Лариса была счастлива. Ей помогала Ольга Викторовна. Новая муфельная печка мигала красным глазом и напоминала маленького безушастого бегемота. Банки стояли с грязной водой. Гриша никогда не выливал за собой воду, куда уж там за другими. Кисти стояли в стаканах, как придётся, щетиной вниз… Лариса всё разбирала, всё убирала, не торопясь, чтобы подольше побыть с Ольгой Викторовной. Надо было плотно закрыть банки с керамической глазурью и ангопом, плотно перемотать полиэтиленом шамот.
– Ольга Викторовна! Посмотрите: правильно я сделала?
Ольга Викторовна вытирала стол. Она не сразу откликнулась. Что-то задумчивое и грустное было в её лице. У Ольги Викторовны бывало такое настроение, когда болела её маленькая двухлетняя дочка. Но Лариса сегодня, когда отводила в садик своего младшего брата, видела в группе Ксюху – дочку Ольги Викторовны, здоровую и цветущую. Она сразу побежала играть в машинки. Лариса давно заметила, что теперь все маленькие девочки играют в машинки… Ольга Викторовна тёрла и тёрла одно и то же место на столе. Этот островок чистоты переливался под тихо тарахтящими лампами, а вокруг, на остальных столах, серели глиняные разводы и разводы из застарелой не оттёртой ранее краски.
Лариса ещё раз переспросила. Ольга Викторовна встрепенулась. Она посмотрела на Ларису внимательно, и Ларису обдало холодом. Педагог тряхнула решительно серьгами и сказала:
– Лариса! Почему ты обижаешь детей в студии?
– Я обижаю?! Когда? – Лариса была обескуражена.
– Ты сама знаешь, когда.
– Я?! – Лариса поднялась с корточек, она стояла рядом с ванночкой, с шамотом и глиной, только что так бережно ею укутанными в полиэтилен, и ничего не могла понять.
– Да. Именно ты. Ты говоришь другим детям, что у них плохие работы.
– Я не говорила, – запротестовала Лариса. – Я никому не говорила такого.
– Нет. Говорила. Если ты, Лариса, хорошо рисуешь, это не значит, что другие дети должны из-за этого страдать.
Лариса стояла и чувствовала, что это её, а не шамот положили в ванночку и крепко-накрепко укутали полиэтиленом, что это её, а не поделки, поставили в муфельную печь и сейчас обжигают.
Лариса не плакала, нет. Она была потрясена. Она думала: это какая-то ошибка. Ведь она никогда никому не говорила, что у кого-то там плохая работа. Ей это и в голову не приходило. Она и не смотрела особенно на работы других. На занятии она старалась не терять времени зря. А когда в конце занятия все работы раскладывались на полу, и начиналось обсуждение, Лариса торопилась начать убираться, ей не хотелось никого обсуждать. Лариса всегда любовалась работами старшей группы, развешанными по стенам, восхищалась расписанными ими матрёшками – ей казалось, что она никогда так не сможет, не будет у неё так получаться… Лариса в жизни редко кому-то говорила неприятное и обидное, когда уж совсем достанут. Никогда, никогда Лариса не вела себя так, как будто она лучше других.
– Кого я обидела, когда я говорила, что работа плохая? – бормотала Лариса.
– Ты сама знаешь, кого, сама знаешь, когда! – раздражённо повторила Ольга Викторовна, лицо её стало не злое, нет, но недоверчивое и немного, совсем чуть-чуть, брезгливое. Серёжки болтались в ушах как маятник в музейных часах, будто говорили: так-так-так-тебе, Лариса, так-так-тебе-и-надо.
Педагог и её провинившаяся ученица молча и быстро доубирались. Ольга Викторовна выключила муфельную печь. Красный глаз потух, как бы говоря Ларисе: всё, что я здесь услышал, меня не касается, я никому не расскажу. А Ольга Викторовна, как ни в чём не бывало, сетовала на то, что в старшей группе после покрытия лаком матрёшек кобальт синий потерял свою глубину и цвет, превратившись в грязно-голубой.
Они шли под темным дождём – педагог и ученица. Они говорили, как будто ничего не произошло. Лариса болтала даже оживлённее обычного. И Ольге Викторовне казалось, что она хочет загладить свою вину… Лариса рассказывала о выжигании, Ольга Викторовна отвечала, что выжигание – та же графика, что болванки матрёшек обычно выжигают по контуру… Впервые Лариса не любовалась дождём, не обращала внимание на свет фар и фонарей, которые отражались на мокром асфальте, превращая город в необыкновенный край преломлений, и цветных – мазками-мазками, как в Ларисином натюрморте – отражений. Всё померкло в душе Ларисы, всё потускнело. Она была обескуражена странным разговором и легче от уличной их с Ольгой Викторовной отвлечённой беседы не становилось.
У остановки попрощались.
Дома Лариса никому ничего не рассказала, она никогда не рассказывала о случаях, произошедшей с ней, зачем кого-то беспокоить. Да и мама могла перебить, недослушать, неправильно понять.
Впервые Лариса не хотела, чтобы быстрее наступал четверг. Она злилась: всего одна-оденёшенька среда без студии после вторника. В четверг Лариса еле-еле плелась по гололёду – ночью ударили первые заморозки. Лариса даже не припомнила, что надо проверить: лежит ли как с утра на жёлто-коричневых листьях иней или растаял.
Лариса тихо вошла в студию, тихо села за стол, в самый дальний конец, в самый дальний угол – как в школе. А Маша Ченибал заняла Ларисино место. Во время занятия Ольга Викторовна с интересом смотрела на Ларисину работу, с энтузиазмом подсказывала – всем своим видом показывая, что всё по-прежнему, а неприятного разговора как будто и не было. Но разговор был, в шамот ванночке всё-таки подсох, а скульптурки старшей группы из муфельной печи в тонких местах треснули.
– Передержали! – сетовала Ольга Викторовна, фыркая из тюбика сварочным клеем, она прижимала лапку глиняного медведя к туловищу. – И шамот… шамот недостаточно закутали.
«А ведь я говорила: посмотрите», – переживала Лариса, плеская воду на огромный ком глины и кутая его по новой в полиэтилен. Лариса снова осталась убираться после занятия – все опять разбежались. Всё, вроде бы, было как всегда, но в сердце Ларисы вся её студийная жизнь разделилась на ДО разговора и ПОСЛЕ. Обиднее всего было то, что Ольга Викторовна больше не доверяла ей. С каким раздражением Ольга Викторовна сказала: мол, ты сама всё знаешь, с каким нажимом и убеждением повторила эти хлёсткие острые слова, уверенная, что Лариса перед ней придуривается, изображает непонятку, хитрит, одним словом. А Лариса – честно-честно! – ничего не понимала.
Она ничего не понимала очень долго. Этот страшный разговор даже стал забываться, замещаться другими более интересными и весёлыми происшествиями. После Нового года Лариса заметила, что нет в группе Маши Ченибал. «Может, она ушла в начале декабря. А может она ходила в декабре, а только сейчас бросила, после Нового года… Как это я не заметила?» – размышляла Лариса.
Ещё долго Лариса занималась в студии, целых четыре года. Но никогда больше на отчётных выставках Ларису не вызывали в числе самых успешных художников студии, чтобы вручить дорогой подарок – пастель или петербуржскую акварель – так и несбывшуюся мечту. Лариса всегда надеялась, что её вызовут среди лучших – но нет. А лучшим художникам, кроме подарков дарили цветы. Как Лариса мечтала об этом: половину она бы подарила Ольге Викторовне – ведь она так любит цветы. С оставшихся Лариса бы сделала дома сто набросков: и углём, и сангиной, и пастелью, и на тонированной бумаге, и на белом фоне, и энкаустику, и акватипию, и просто написала бы классические тонкие акварели и модерновые акварели по-мокрому… Но – увы, не судьба. Ничего, ничего – дорогая её сердцу пастель исписана только на три четверти, а петербуржская акварель у неё всё-таки есть, только восемнадцать цветов, а не тридцать шесть. «Ничего, – успокаивала себя Лариса, сглатывая слёзы. – И восемнадцатью цветами можно прекрасно рисовать».
Ах, эта петербуржская акварель! Каждая красочка завёрнута в фольгу, а поверх фольги – в бумажку, на которой написано название краски: лимонный, охра красная, сурьма едкая, зелень изумрудная, сажа газовая, алая, ультрамарин и конечно краплак красный – самый нелюбимый Ларисин цвет, цвет крови, которая идёт из сырого мяса… Стоп! Краплак красный! Лариса вспомнила своё дежурство с Машей Ченибал, вспомнила банку, которая никак не хотела закрываться… Ну конечно же! Тот эскиз – на голубом фоне белые колокольчики – был её, Маши Ченибал, эскиз. И тот допрос, которым мучила Маша – нравится-не нравится – это был допрос с пристрастием… Маша вытянула из Ларисы признание, заявилась домой и устроила маме истерику наверняка устроила. А мама прибежала жаловаться педагогу. Зачем Маша это сделала? Она же сама меня заставляла сказать, что эскиз плохой, нет, даже не так. Она сказала, что платье из такой ткани нельзя носить… Зачем она ко мне приставала? Наверное, хотела, чтобы я спорила, убеждала, уговаривала, уверила её, что эскиз – супер, но он не был супер. Если бы был, Лариса бы так и сказала.
Лариса вспомнила, что эта Маша Ченибал на занятии, когда Ольга Викторовна выходила из комнаты, часто отвлекалась и обсуждала эскизы витража малышовой группы, и часто говорила: «Фу! Мне это не нравится!» или: «Ну, это хотя бы так себе»… Лариса никак не реагировала на эти обсуждения. Она рисовала в своём дальнем углу, ведь Маша тогда, после неприятного разговора, сидела на её, Ларисином, месте. Не сидела даже – восседала, подумалось Ларисе. «А может, – рассуждала Лариса ночью, лёжа на жёстком ортопедическом матрасе и вспоминая своё озарение. – Может, Маша Ченибал просто не любила рисовать. А мама её просто заставляла ходить. Вот Маша и нашла повод, нашла причину бросить рисование: её работы называют плохими. А мама вместо того, чтобы разрешить дочке не ходить, побежала разбираться с Ольгой Викторовной. Скорее всего, так и есть. Настоящий художник на другие работы и не смотрит и не обсуждает, у него для этого ни времени нет, ни желания».
На этом можно было бы и закончить, но хочется рассказать ещё немного.
Когда Лариса занималась в изостудии последний четвёртый год, перед тем как поступить в художку, Ольга Викторовна объявила, что в этом году в России юбилей поэта Лермонтова, круглая дата. И скоро приедет из Тархан, музея-заповедника Лермонтова, научный сотрудник, подарит шикарно изданные в рамках федеральной культурной программы книги и попросит нарисовать ребят рисунки на лермонтовскую тему.
И сотрудник приехал, и Лариса очень долго листала каталоги и книги с мелкими буквами и крупными яркими фотографиями, напечатанными на толстой блестящей бумаге… Нет, они конечно проходили Лермонтова в школе. Про тучку и про парус стихи, про Бородино учили наизусть, но Лариса уже всё забыла. «Мцыри» она проходила совсем недавно, Мцыри ей понравился. Научный сотрудник говорил о каком-то герое, которого все проходят в школе. Но это для старших классов. И Ларисе захотелось нарисовать не Бородино, и не Мцыри с барсом, а просто домик Лермонтова, просто природу, большое дерево и под ним стоит большой огромный, выше домика, Лермонтов. Он охвачен вдохновением, он сочиняет про героя, которого проходят в старших классах… Но работа не выходила. Домик получился так себе, Лариса срисовала его с фотографии, природа получилась получше, и дерево тоже ничего по цвету, а вот Лермонтов не выходил, не получался. Лариса билась-билась… Вместо Лермонтова с листа на Ларису смотрел какой-то уродец. Лариса совсем не умела рисовать людей. Таня Лазарева сказала Ларисе:
– Давай я тебе нарисую. Только контуры, а дальше ты сама.
Таня Лазарева рисовала лучше всех в студии, её работа с богиней войны Артемидой заняла первое место на городском конкурсе, и ей вручили настоящий телевизор. Но Лариса не представляла, что чья-то рука, кроме Ольги Викторовны или авторской, то есть её, Ларисиной, может касаться работы. Лариса промучилась три занятия, но работа так и осталась незаконченной, такой и легла в стопку остальных работ на лермонтовскую тему.
Лариса по-прежнему много времени проводила в студии после занятий. Она убиралась, помогала даже вешать занавески, которые сшила её мама – держала Ольге Викторовне стремянку. Но Ольга Викторовна говорила с Ларисой мало. У неё появилась отдельная комната – там стоял стол, стеллаж для документов, сканер постоянно плевался какими-то бумагами и с угрозой тарахтел на Ларису, наверное ревновал к хозяйке кабинета. В комнате Ольги Викторовны был и склад для оформленных для выставок работ и поделок. Изостудия стала очень популярная, к Ольге Викторовне приходили родители и что-то с ней обсуждали, приходили и начальники, и начальницы в строгих костюмах, а ещё прибегали бабушки и клянчили, чтобы их детей приняли в студию без очереди и без вступительного экзамена. Ольга Викторовна после этих бабушек становилась красная и отдувалась. Она никого не принимала вне очереди…
И вот однажды, после занятия, когда Лариса пошла в туалет промывать тряпки, в студию пришёл знакомый научный сотрудник, но не один, а с каким-то красивым-красивым мужчиной: высоким, с маленькой бородкой, маленькими глазами под густыми бровями – мужчиной, как будто только что сошедшем с рекламного плаката.
Лариса вошла в студию с чистыми тряпками, незаметно села за стол и стала слушать. Ольга Викторовна положила перед гостями работы, и начался отбор для Лермонтовской выставки. Красивый мужчина решал, что забрать на конкурс, что в усадьбу, и откладывал в сторону то, что ему не нравилось.







