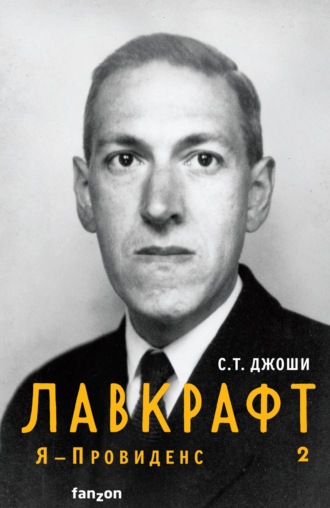
С. Т. Джоши
Лавкрафт. Я – Провиденс. Книга 2
«Ред-Хук – это лабиринт разнородной нищеты неподалеку от старого порта, напротив Губернаторского острова. Рядом убогие дороги, берущие начало от пристаней, взбегают вверх по холму и в конце концов перетекают в обветшалые улицы Клинтон и Корт-стрит, которые ведут к Боро-Холл. Почти все дома здесь кирпичные, построенные еще в первой четверти или середине девятнадцатого века, а некоторые особенно мрачные проулки все еще хранят притягательную атмосферу, которую в литературе принято называть „диккенсовской“».
Лавкрафт, правда, немного приукрашивает район, поскольку сейчас там точно нет никаких «притягательных» проулков. Впрочем, интересует его не только материальный упадок: «Жильцы представляют собой безнадежно запутанный клубок из сирийцев, испанцев, итальянцев и негров, вторгающихся на территорию друг друга, с некоторой примесью скандинавов и американцев. Это нагромождение шума и грязи со странными воплями, раздающимися в ответ на плеск маслянистых волн у мрачных пристаней и жуткий протяжный вой портовых свистков». В этом и заключается вся суть рассказа, ведь «Кошмар в Ред-Хуке» – не что иное как крик ярости и ненависти в адрес «иностранцев», отобравших Нью-Йорк у белых людей, которым он якобы принадлежал. Упоминание сирийцев, возможно, связано с одним из соседей Лавкрафта по Клинтон-стрит, 169, от странной музыки которого Говарду снились причудливые сны. Два года спустя он так описывал соседа: «однажды рядом со мной жил сириец, извлекавший жуткие и заунывные звуки из какой-то необычной волынки – от этой музыки мне снились всякие невероятные мерзкие существа из усыпальниц под Багдадом и бесконечные коридоры Эблиса под проклятыми луной руинами Истахра»57. Как ни странно, такое стимулирующее воздействие на воображение пришлось Лавкрафту не по душе.
В мемуарах Соня утверждает, что ей известно, как зародилась идея рассказа: «В тот вечер он ужинал где-то в Коламбиа-Хайтс – по-моему, вместе с Мортоном, Сэмом Лавмэном и Рейнхардом Кляйнером, когда в ресторан зашли несколько грубых и буйных мужчин. Его так сильно разозлило их хамское поведение, что на основе той ситуации он и придумал „Кошмар в Ред-Хуке“»58. Быть может, Лавкрафт упоминал об этом в письме к супруге, однако я сомневаюсь, что к написанию этой истории его подтолкнул всего лишь один конкретный случай – скорее, то было общее угнетенное впечатление после полутора лет жизни в Нью-Йорке, полной нищеты и тщетности.
Сюжет «Кошмара в Ред-Хуке» довольно прост и представлен в виде обычного конфликта добра и зла между Томасом Малоуном, детективом ирландского происхождения, работающим в полицейском участке Боро-Холл, и Робертом Сайдемом, богачом из древнего голландского рода, на котором и сосредоточен весь ужас в рассказе. Поначалу Сайдем привлекает внимание тем, что «слоняется по Боро-Холл и заводит беседы со смуглыми незнакомцами опасного вида». Позже он осознает, что свою подпольную деятельность необходимо скрыть за фасадом пристойности, в связи с чем решает исправиться, перестает возиться с чужаками, чтобы родственники не признали его недееспособным, и, наконец, удачно женится на Корнелии Герритсен, «молодой женщине превосходного положения». Новость об их свадьбе занимает «целую страницу в журнале, посвященном представителям высшего общества». Во всем этом просматривается едкая сатира (непреднамеренная со стороны Лавкрафта) по поводу бессмысленности классового разделения. После церемонии гости отправляются отмечать свадьбу на борту парохода на пирсе Кунард, однако, ко всеобщему ужасу, молодоженов находят убитыми и полностью обескровленными. Представители властей следуют указаниям на листке бумаги, подписанном Сайдемом, и бездумно передают его тело подозрительной группе людей во главе с «арабом с отвратительным негритянским ртом».
Далее рассказ приобретает еще больший оттенок бульварного чтива, и мы оказываемся в подвале полуразрушенной церкви, который переделали в танцевальный зал, где отвратительного вида существа проводят страшные ритуалы в честь Лилит. Чудесным образом возрожденный Сайдем не хочет, чтобы его отдавали в жертву Лилит, и переворачивает пьедестал, на котором она лежала (в результате труп «всей своей мерзкой массой расплескивается по полу, точно разложившаяся медуза»). На этом все ужасы почему-то заканчиваются. Все это время детектив Малоун просто наблюдал за происходящим с удобной позиции, однако увиденное настолько травмировало его психику, что он еще долго восстанавливался в небольшой деревушке в Род-Айленде.
Этот рассказ поразителен не только банальным изображением сверхъестественного, но и тем, что написан он откровенно плохо. Здесь пылкие речи, безобидные и уместные в других историях, звучат вымученно и чересчур напыщенно: «Сюда проник вселенский грех и, растравленный нечестивыми обрядами, вызвал ухмыляющийся марш смерти, который был готов сгноить нас всех и превратить в таких страшных уродцев, которых не примет и могила. Сатана устроил здесь свой вавилонский двор, и прокаженные конечности фосфоресцирующей Лилит омывались в крови невинного детства». Интересно, чем бы Лавкрафт, будучи атеистом, мог объяснить упоминание «вселенского греха» и присутствие Сатаны? Основная мысль данного отрывка, как и всего рассказа в целом, заключается в ужасе перед заполонившими страну иностранцами, которые непонятно каким образом все сильнее вытесняют крепких англосаксов, основавших эту великую белую нацию. Лавкрафт не мог не закончить рассказ на строгой тяжеловесной ноте («Душа зверя вездесуща и победоносна»), вполне прозрачно намекая на то, что ужасы, которым полицейский рейд якобы положил конец, еще вернутся: в финальной сцене Малоун случайно услышал, как «смуглая косоглазая старуха» внушает что-то маленькому ребенку, произнося те же слова, которые он уже слышал ранее. Это банальная, но подходящая концовка для рассказа, в котором мы сталкиваемся с одними стереотипами – связанными как с расовыми предрассудками, так и с художественными приемами «странной» прозы.
На отсутствие оригинальности и самобытности в рассказе указывает еще и то, что всю колдовскую тарабарщину Лавкрафт позаимствовал из статей по «Магии» и «Демонологии» за авторством Э. Б. Тайлора, известного автора «Примитивной культуры» (1871) – основополагающей работы в области антропологии, – из девятого издания Британской энциклопедии, которое как раз имелось в его библиотеке. Лавкрафт сообщил об этом, не таясь, в письме к Кларку Эштону Смиту, отметив: «Хотел бы я использовать менее очевидные источники, если б знал, где их найти»59. Данный комментарий сам по себе представляет интерес, поскольку разом опровергает абсурдные домыслы различных оккультистов, считавших Лавкрафта человеком широкой эрудиции в области эзотерики. Для более поздних рассказов он брал информацию из «Энциклопедии оккультизма» Льюиса Спенсера (у Лавкрафта был экземпляр этой книги).
Из Британской энциклопедии в «Кошмаре в Ред-Хуке» позаимствована в том числе и латинская цитата из статьи «Демонология» средневекового автора Антуана Дельрио (или Дель Рио) «An sint unquam daemones incubi et succubae, et an ex tali congress proles nasci queat?» («Существовали ли когда-нибудь демоны, инкубы и суккубы, и может ли от такого союза появиться потомство?»). Вероятно, благодаря этому отрывку Лавкрафт и стал использовать слово «суккуб» в необычной для него форме множественного числа («succubae», правильно: «succubi»), хотя на самом деле под суккубом подразумевается демон в образе женщины (тогда как демон в образе мужчины зовется «инкубом»). Из статьи о «Магии» Лавкрафт взял и заклинание, которое произносится в начале и в конце истории («О друг и соратник ночи…»), а также странный греко-еврейский заговор, обнаруженный Малоуном на стене танцевального зала в церкви. В одном из более поздних писем он привел перевод заклинания, но со множеством досадных ошибок (в энциклопедической статье перевод цитаты не указывался): к примеру, известный греческий религиозный термин «homousion» («одной сущности», что обычно относится к верованию в единого с Богом Христа) Лавкрафт перевел как «устаревший вариант или сложное слово, включающее в себя греческий корень „Homou“, что значит „вместе“»60.
С автобиографической точки зрения интерес представляет и фигура Малоуна. Мы вовсе не утверждаем, что этот персонаж списан с самого Лавкрафта, – напротив, некоторые особенности (довольно поверхностные) взяты у его главных литературных наставников, а именно Мэкена и Дансени. По сюжету Малоун – ирландец, и одно это уже связывает его с Дансени, однако в рассказе также утверждается, что он «родился на вилле георгианской эпохи близ Феникс-парка», а Дансени появился на свет не в Ирландии, а в Лондоне – в доме номер 15 по Парк-сквер, неподалеку от Риджентс-парка. Зато вера Малоуна в мистицизм – это уже дань уважения Мэкену. Пожалуй, Лавкрафт воображал, будто наделяет Нью-Йорк той же жуткой атмосферой колдовства, которой Мэкен наделил Лондон в «Трех самозванцах» и других работах.
Малоун представляет интерес еще и по другой причине, связанной с вероятной задумкой или специфичной формой рассказа. Еще до написания «Кошмара в Ред-Хуке» Лавкрафт отправлял «Заброшенный дом» в журнал Detective Tales, основанный одновременно с Weird Tales. Редактором обоих изданий был Эдвин Бейрд. Возможно, Лавкрафту казалось, что Илайхью Уиппл, герой «Заброшенного дома», сойдет за детектива и рассказ опубликуют. И хотя в Detective Tales периодически появлялись рассказы в жанре ужасов и сверхъестественного, Лавкрафту Бейрд отказал61. Ближе к концу июля Лавкрафт упоминал о том, что пишет «роман или повесть о салемских ужасах, которую я, пожалуй, смогу продать Эдвину Бейрду в Detective Tales, если добавлю в нее „детективности“»62, однако о начале работы над подобным произведением он далее не упоминает. Судя по всему, Лавкрафт пытался (правда, не очень удачно) освоить «альтернативный рынок» и надеялся, что в этом ему поможет редактор Weird Tales, принимавший все его работы в тот журнал. Разумеется, в начале августа Говард начал задумываться о том, чтобы отправить «Кошмар в Ред-Хуке» в Detective Tales63, однако непонятно, осуществил ли он свой замысел. Если рассказ и был отправлен, его однозначно отвергли. Позже Лавкрафт отмечал, что писал «Кошмар в Ред-Хуке» специально для Weird Tales64, и произведение все-таки вышло в январском номере журнала за 1927 год. При этом персонаж Малоуна, наиболее похожий на истинного детектива среди всех прежних – да и будущих тоже – героев Лавкрафта, вполне вероятно, отчасти создавался с прицелом на Detective Tales.
В остальном «Кошмар в Ред-Хуке» интересен лишь описаниями бруклинского колорита, знакомого Лавкрафту благодаря более близкому знакомству с районом. Танцевальный зал в церкви, скорее всего, списан с реально существовавшей церкви (уже снесенной) на набережной в Ред-Хуке. И в этой церкви, очевидно, некогда тоже располагался танцзал65. Сайдем живет на улице Мартенс (совсем недалеко от Парк-авеню, 259), рядом с Нидерландской реформатской церковью (вдохновившей Говарда на рассказ «Пес»), где «за чугунной оградой торчали голландские надгробные камни». Трудно сказать, имел ли Лавкрафт в виду какой-то конкретный дом: по описанию мне не удалось найти ни одно подходящее здание на улице Мартенс. Еще одну отсылку, не связанную с топографией, можно найти в описании жутких обитателей Ред-Хука, монголоидной расы родом из Курдистана – «и Малоун не мог не вспомнить, что Курдистан – это родина езидов, единственных потомков персидских бесопоклонников». Полагаю, данная информация позаимствована из замечательного рассказа «Незнакомец из Курдистана» Э. Хоффмана Прайса, опубликованного в Weird Tales за июль 1925 года. В этом произведении как раз упоминаются сатанисты-езиды. Впрочем, до личного знакомства Лавкрафта с Прайсом на тот момент оставалось еще семь лет.
Анализируя «Кошмар в Ред-Хуке», неплохо было бы обсудить развитие (если так можно выразиться) расовых предрассудков Лавкрафта в данный период. В то время его расистские взгляды достигли апогея. Как я уже отмечал, брак антисемита Лавкрафта с еврейкой вовсе не парадоксален, так как Соня выполнила необходимое требование в соответствии с его представлениями о жизни иностранцев за рубежом – она ассимилировалась с местным населением и стала американкой, как и многие другие евреи, включая Сэмюэла Лавмэна. Тем не менее Соня подробно рассказывала о позиции Лавкрафта по этому вопросу. Вот одно из ее самых известных заявлений: «Хотя однажды он сказал, что любит Нью-Йорк и будет считать его „вторым родным штатом“, вскоре я узнала, что на самом деле он ненавидит этот город вместе с его „полчищами чужаков“. Когда я возразила, что тоже отношусь к этим чужакам, он ответил: „Теперь ты не одна из этих полукровок. Теперь ты миссис Г. Ф. Лавкрафт с Энджелл-стрит, 598, в Провиденсе, штат Род-Айленд!“66 И это при том, что Лавкрафт и Соня никогда вместе не проживали в его родном доме. Еще более показателен следующий комментарий, сделанный позднее: «Вскоре после бракосочетания он сказал, что, когда мы будем приглашать к себе гостей, большинство из них должны быть „арийцами“»67. По-видимому, эта фраза относится к 1924 году, поскольку в 1925-м гостей они практически не принимали. Последнее заявление Сони на эту тему и вовсе изобличительно. По ее словам, в 1922 году она стремилась познакомить Лавкрафта с Лавмэном, чтобы «излечить» Говарда от предубеждений против евреев с помощью личной встречи с одним из них. Далее она рассказывает:
«Жаль, что некоторые зачастую судят весь народ по характеру лишь одного его представителя. Однако Г. Ф. заверял меня, будто он „излечился“ и, так как я хорошо приспособилась к американскому образу жизни и обстановке, наш брак будет успешным. К несчастью (и сейчас я приведу пример, о котором никого не хотела ставить в известность), сталкиваясь с толпами людей, в основном рабочими из национальных меньшинств, будь то в метро или в обеденный час на улицах Бруклина, он каждый раз закипал от ярости»68.
В письме к Уинфилду Таунли Скотту Соня дает еще более подробный комментарий:
«Я повторяю и клятвенно заявляю, что он закипал от ярости при виде большого количества иностранцев, особенно когда в обеденный перерыв они высыпали на улицы Нью-Йорка. Стараясь унять вспышки его гнева, я говорила: „Ты не обязан их любить, но и в такой безумной ненависти нет ничего хорошего“. На что он отозвался так: „Знать, что ты ненавидишь, важнее, чем знать, что любишь“»69.
Опять же, в то время в его словах не было ничего удивительного, однако с учетом современных реалий такое отношение кажется пугающим. И все же несмотря на предположения Л. Спрэга де Кампа, прежнего биографа Лавкрафта, в письмах Говарда к его тетушкам за тот период крайне редко встречаются упоминания чужестранцев. В одном печально известном отрывке повествуется о приуроченной к четвертому июля поездке Сони и Лавкрафта в Пелем-Бей – огромный парк на северо-восточной оконечности Бронкса: «…мы возлагали большие надежды на этот парк, думая, что окажемся в уединенной сельской местности. Однако нас ждало разочарование. О Боги Пеганы, какое скопление людей! И это еще не самое страшное… готов поклясться – и пусть меня пристрелят, ежели я не прав, – что три четверти, нет, скорее, девяносто процентов присутствовавших составляли мерзкие тучные ниггеры, которые без конца ухмылялись и болтали!»70 Интересно отметить, что они оба решили побыстрее уйти из парка – возможно, на тот момент и сама Соня еще не освободилась от расовых предрассудков, хотя в мемуарах утверждает обратное. В длинном письме, которое относится к началу января, в подробностях рассказывается о невозможности евреев приспособиться к американской жизни, ведь «больше всего вреда наносят идеалисты, вселяющие в людей веру в подобное слияние, которому не суждено случиться». Добавив, что «большинство семитских наций чисто физически вызывают у нас отвращение до дрожи»71 («у нас» здесь звучит как интересная риторическая уловка), Лавкрафт косвенным образом взглянул в самую суть этой проблемы: самым неприятным в иностранцах (или, в более широком смысле, людях «неарийской» расы, поскольку многие представители меньшинств в Нью-Йорке были иммигрантами уже в первом или втором поколении) он считал их странный внешний вид.
В этой связи необходимо сказать пару слов в защиту Лавкрафта. Хотя подробнее о его расистских убеждениях мы поговорим немного позже (он попытался найти более универсальное философское и культурное оправдание конкретно своим взглядам лишь в начале 1930-х годов), стоит сообщить, что вышеупомянутое длинное письмо о евреях было единственным в своем роде среди всей переписки Говарда с Лиллиан и даже в поздние годы ничего подобного в корреспонденции не встречалось. К тому же Лиллиан, по-видимому, и сама высказывала по этому поводу некоторые замечания, опасаясь, вероятно, что Лавкрафт позволит себе словесные или физические нападки в адрес евреев или других ненордических рас, так как в конце марта Лавкрафт писал: «Между прочим, не волнуйся, что моя раздражительность по отношению к нью-йоркским чужестранцам способна принять форму оскорбительной беседы. Я прекрасно понимаю, когда и где можно обсуждать вопросы социального и этнического толка, и наша компания еще не была замечена в неподобающем поведении или чрезмерном высказывании своего мнения».72
Сторонники Лавкрафта выстраивают собственную защиту именно на основании этого последнего утверждения. Как утверждал Фрэнк Лонг: «Во время наших долгих прогулок по улицам Нью-Йорка и Провиденса я не слышал от него ни одной уничижительной ремарки о каком-либо представителе национальных меньшинств, проходивших мимо или вступавших с ним в беседу, даже если это был человек другой культуры и расы»73. Эти слова противоречат заявлениям Сони, хотя, пожалуй, данному факту можно найти простое объяснение: Лавкрафту казалось невежливым говорить о таком в присутствии Лонга. Впрочем, в январском письме к Лиллиан Говард сообщал:
«Составить компанию нормальному консервативному американцу могут лишь другие нормальные консервативные американцы – из хорошей семьи и традиционного воспитания. Поэтому Белнэп, наверное, единственный из всей банды, кто ничуть меня не раздражает. Он нормальный, он естественно реагирует на мои давние воспоминания и рассказы о жизни в Провиденсе и предстает вполне реальным человеком, а не двухмерной тенью-наваждением, что свойственно людям богемы»74.
Лонгу вряд ли было бы приятно услышать такой комплимент. В любом случае если обратиться к ошеломительному высказыванию, сделанному шесть лет спустя, то можно сделать вывод, что Лавкрафт не только осуждал иностранцев в письмах, но и задумывался о более серьезных действиях, направленных против них: «Население [Нью-Йорка] – это стадо полукровок, среди которых особенно выделяются численностью отвратительные монголоидные евреи, и со временем так невыносимо устаешь от этих грубых лиц и дурных манер, что хочется врезать каждому из чертовых ублюдков, что попадаются на глаза»75. Тем не менее именно предполагаемое отсутствие оскорбительного поведения, как словесного, так и физического, со стороны Лавкрафта по отношению к людям неарийской расы лежит в основе высказываний Дирка В. Мосига в защиту Говарда. Взяты они из письма Мосига к Лонгу и цитировались Лонгом в его мемуарах. Мосиг приводит три смягчающих обстоятельства:
1) «…в первой трети двадцатого века слово „расист“ имело совсем другой смысловой оттенок по сравнению с тем, что оно значит в наши дни»;
2) «Лавкрафта, как и многих других, стоит судить по его поведению, а не по личным заявлениям, которыми он никого не хотел задеть»;
3) «В переписке с разными людьми Г. Ф. Л. показывал разные стороны личности… Вполне возможно, что… перед тетушками он представал таким, каким те хотели его видеть, и что некоторые из его „расистских“ заявлений были сделаны лишь из желания угодить старшему поколению, а не потому что он действительно разделял подобные взгляды»76.
Боюсь, ни одно из этих рассуждений в защиту Лавкрафта не имеет большого значения. Конечно, после Второй мировой войны понятие «расизм» приобрело другие, более зловещие коннотации, однако позже я еще отмечу, что в интеллектуальном плане взгляды Лавкрафта, уверенного в биологической неполноценности черных, абсолютной неспособности различных этнических групп к культурной ассимиляции, а также в расово-культурном единстве разных рас, национальностей и культурных общностей, были отсталыми. Убеждения Лавкрафта стоит сравнивать не с общей массой его современников (откровенными расистами, коих много и наши дни), а с продвинутой интеллигенцией, для большинства представителей которой вопрос расы вообще считался несущественным. Несомненно, все мы понимаем, что поведение важнее высказываний, и все же Лавкрафт не перестает быть расистом лишь потому, что он ни разу не оскорбил еврея в личном разговоре и не ударил чернокожего бейсбольной битой. Концепция «частных высказываний» затрагивает и третье утверждение Мосига, согласно которому Говард писал тетушкам только то, что те хотели услышать, хотя и этот аргумент легко опровергнуть человеку, систематически изучающему переписку автора. На длинную тираду о евреях из письма за январь 1926 года Лавкрафта спровоцировали не слова Лиллиан, а присланная ею вырезка из газеты, посвященная расовому происхождению Иисуса. Скорее всего, и Лиллиан, и Энни, будучи старомодными уроженками Новой Англии, соглашались с заявлениями племянника и вообще разделяли его взгляды по этому вопросу, однако по замечаниям Лиллиан, на которые он откликнулся в конце марта, можно понять, что у нее расовые проблемы не вызывали такой яростной реакции.
И, конечно же, враждебность Лавкрафта лишь усиливалась из-за проблем с душевным здоровьем, вызванных тем, что он влачил существование в малознакомом недружелюбном городе, где был чужаком и не мог найти постоянную работу и комфортное жилье. Иностранцев удобно было считать козлами отпущения, тем более что Нью-Йорк, уже тогда считавшийся невероятно космополитичным и культурно разнообразным городом США, сильно отличался от единообразной и консервативной Новой Англии, где Говард прожил первые тридцать четыре года своей жизни. Город, прежде казавшийся таким источником магии и чудес в духе Дансени, превратился в грязное, шумное, перенаселенное местечко, постоянно наносившее удары по его самолюбию из-за отказов в работе, несмотря на его способности. Нью-Йорк заставлял Лавкрафта отсиживаться в убогой дыре, кишащей мышами и преступниками, поэтому неудивительно, что его гнев и отчаяние находили выход только в расистских историях наподобие «Кошмара в Ред-Хуке».
Однако Лавкрафт не переставал творить. Через восемь дней после написания этого рассказа, а именно десятого августа, он отправился на вечернюю прогулку, долгую и одинокую: через Гринвич-Виллидж к Бэттери и затем на паром до Элизабет, куда он прибыл в семь утра. В магазине он купил чистую тетрадь за десять центов, устроился в Скотт-Парке и сочинил рассказ:
«Идеи захлестнули меня, чего не случалось уже много лет, и солнечный пейзаж плавно перетек в страшную полуночную историю фиолетово-красных тонов, историю о таинственных ужасах на запутанных старинных улочках Гринвич-Виллидж, куда я добавил немало поэтических описаний, а также ощущение бесконечного ужаса человека, который приезжает в Нью-Йорк, желая увидеть сказочный цветок из камня и мрамора, но находит лишь изъеденный паразитами труп – чужой мертвый город, не имеющий ничего общего ни с собственным прошлым, ни с американской культурой в целом. Этот рассказ я назвал „Он“…»77
Интересно отметить, что Лавкрафту пришлось уехать из Нью-Йорка, чтобы о нем написать. Согласно записям в дневнике, впервые он побывал в Скотт-Парке тринадцатого июня и после этого стал часто туда наведываться. В вышеупомянутом описании заметны автобиографические детали (так оно и задумывалось), и рассказ «Он», значительно превосходящий «Кошмар в Ред-Хуке», общепризнанно считается не менее душераздирающим в своем отчаянии творением, чем его предшественник. Начало истории впечатляет:
«Я увидел его бессонной ночью, когда бродил по городу, безнадежно стремясь спасти свою душу и мечты. Приехать в Нью-Йорк было ошибкой. Среди переполненных лабиринтов старинных улочек, что, переплетаясь, выбегали из заброшенных дворов, площадей и причалов и терялись в таких же заброшенных дворах, площадях и причалах или меж громадных небоскребов, мрачно высящихся под луной, я надеялся найти необычайные чудеса и вдохновение. Вместо этого я обнаружил лишь ужас и подавленность, которые грозили подчинить, парализовать и уничтожить меня».
Даже не зная деталей биографии Лавкрафта, можно прочувствовать силу этого отрывка, однако мы видим, как в нем отражается душевное состояние самого автора. Далее рассказчик говорит о том, как блестящие башни Нью-Йорка поначалу пленили его, но:
«Там, где луна намекала на очарование и древнюю магию, ослепительные дневные лучи освещали только запустение, отчужденность и губительные размеры расползающихся ввысь каменных стен. Похожие на ущелья улицы охватывали толпы людей, коренастых смуглых незнакомцев с суровыми лицами и узкими глазами, злобных незнакомцев, лишенных мечтаний и ничем не связанных с происходящим вокруг. Они не имели никакого значения для голубоглазых представителей прежних поколений, всем сердцем обожавших зеленые тропинки и белые деревенские башенки Новой Англии».
Вот так Лавкрафт представлял социальный строй Нью-Йорка: наводнившие город иммигранты действительно никак с ним не связаны, так как основали его голландцы и англичане, а у чужестранцев совсем иное культурное наследие. С помощью данного софизма Лавкрафт приходит к выводу, что «этот город камней и свиста нельзя назвать продолжением старого Нью-Йорка, в отличие от Лондона и Парижа, многое унаследовавших от своих древних предшественников. На самом деле город просто мертв, а его распростертое тело неумело забальзамировано и заражено странными существами, которые не имеют с ним ничего общего, хотя при его жизни все было иначе». Получается, иммигрантов он считал кем-то вроде червей.
Так почему же рассказчик не уезжает подальше от этого города? Он немного успокаивается, бродя по старым районам, хотя оправдывает свою нерешимость по поводу отъезда лишь следующими словами: «Я… не приполз обратно домой, дабы никто не пристыдил меня за поражение». Трудно сказать, насколько точно в этих словах отражаются чувства самого Лавкрафта, но позже мы еще вернемся к этому отрывку и поговорим о том, как на него отреагировала Соня.
Рассказчик, как и Лавкрафт, тоже приезжает в Гринвич-Виллидж и именно здесь в августе, в два часа ночи, встречает «того самого человека» – тот изъясняется причудливыми устаревшими фразами, да и одет довольно старомодно, так что рассказчик принимает его за безобидного чудака. Чудак же тот сразу чувствует в своем собеседнике такого же любителя старины, как и он сам. Человек ведет его по старым улочкам и дворам, и наконец они приходят к «увитой плющом стене дома», где и живет незнакомец. Имел ли автор в виду какое-то конкретное место? В конце истории рассказчик стоит «у входа в маленький черный дворик близ Перри-стрит», и это сразу указывает, что данный отрывок вдохновлен схожей прогулкой Лавкрафта, которую он совершил двадцать девятого августа 1924 года. «Уединенная колониальная экскурсия» как раз привела его к Перри-стрит, «где я выискивал безымянный затаившийся дворик, восхвалявшийся в тот день в Evening Post… Я без труда его нашел и еще больше им восхитился, потому что уже видел в газете. Эти затерянные улочки древнего города просто очаровательны…»78 Лавкрафт имеет в виду статью из New York Evening Post за двадцать девятое августа, вышедшую в колонке «Городские зарисовки». В статье имелся карандашный рисунок «затерянного переулка» на Перри-стрит и его краткое описание: «Все связанное с ним теперь утеряно – и название, и страна, и все опознавательные знаки. Его самая выдающаяся черта, а именно старая масляная лампа, висящая над кривыми ступенями, выглядит здесь совершенно неуместно, будто попала сюда с Острова потерянных кораблей после давнего кораблекрушения»79. Описание и правда заманчивое – неудивительно, что Лавкрафт сразу же отправился на поиски местечка. По его словам, он легко обнаружил этот переулок. Благодаря рисунку и упомянутым в статье деталям (о том, что переулок находится на Перри-стрит за улицей Бликер) становится ясно, что речь идет о нынешнем доме номер 93 на Перри-стрит, арка в котором ведет к переулку между тремя зданиями, до сих пор очень похожему на описание из той статьи. Более того, согласно исторической монографии, посвященной Перри-стрит, когда-то этот район населяли индейцы (они назвали его Сапоханикан), а в период между 1726 и 1744 годами в квартале, ограниченном улицами Перри, Чарльз, Бликер и Западной Четвертой, был построен роскошный особняк, в котором обитали богатые жители города, пока в 1865 году его не снесли80. Лавкрафт наверняка кое-что знал об истории этого района и умело включил детали в рассказ.
Однако для логики рассказа важно, что дом найти не так уж легко. Незнакомец специально запутывал рассказчика, водил его кругами, и в какой-то момент оба «ползли на четвереньках по низкому каменному проходу, такому длинному и извилистому, что я совершенно перестал ориентироваться в пространстве». Это действие важно для фантазийного элемента в истории, топография которой во всем остальном на редкость реалистична.
Есть здесь и поразительная автобиографическая деталь. В начале августа 1924 года во время поездки по колониальным достопримечательностям Гринвич-Виллидж Соня с Лавкрафтом действительно встретили пожилого мужчину, показавшего им некоторые скрытые от глаз места. Лавкрафт рассказывает об этом так:
«Завязав в процессе вышеупомянутой прогулки беседу с красноречивым джентльменом, мы многое узнали об истории района, например, что первые дома на Миллиган-Корт появились в конце восемнадцатого века и построила их методистская церковь для небогатых, но уважаемых семей прихода. Продолжая свой рассказ, наш дружелюбный Наставник привел нас к вроде бы ничем не примечательной двери в одном из двориков, а затем мы прошли через темный коридор к заднему входу. Мы даже не представляли, куда он нас ведет, но открывшаяся нам картина была поразительна. За той дверью, отрезанный от мира глухими стенами и фасадами домов, скрывался еще один то ли двор, то ли переулок, увитый растительностью, а с южной стороны тянулся ряд простых колониальных дверных проемов и окошек с мелкой расстекловкой!!.. Наслаждаешься этим захватывающим фрагментом прошлого, и в воображении всплывают бесконечные идеи для странных историй…»81
Поразительное сходство с блужданиями рассказчика, попавшего в истории «Он» в потайной дворик, пусть даже на четвереньках они и не ползали. А «идеи для странных историй» Лавкрафт, несомненно, унес оттуда с собой, хотя применение им нашел лишь спустя год.



