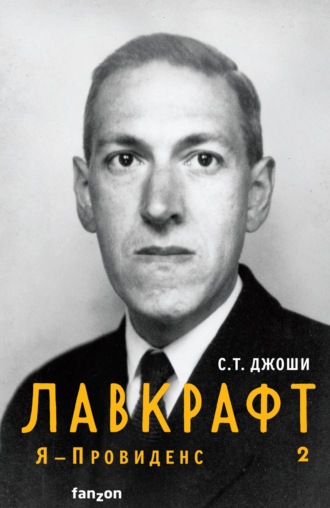
С. Т. Джоши
Лавкрафт. Я – Провиденс. Книга 2
Эту историю нельзя назвать совсем уж невпечатляющей, тем более что ближе к концу в ней убедительно создается атмосфера ужаса, в основном благодаря диалекту Фостера. Остается лишь один вопрос: насколько значительную роль сыграл Лавкрафт в создании данного произведения? Из его писем к Талману становится ясно, что Лавкрафт не только написал часть рассказа, особенно отрывки с использованием диалекта, но и предложил внести серьезные изменения в его структуру. Талман скорее всего прислал Лавкрафту и черновик, и краткое описание рассказа – или, может быть, только начало истории в черновом варианте и краткий пересказ сюжета. Лавкрафт советовал упростить структуру так, чтобы все события читатель воспринимал с точки зрения Хоффмана. Что касается языка, Лавкрафт пишет: «По поводу моих действий с манускриптом – уверен, вы не найдете никаких вмешательств в ваше творческое чутье. Мои изменения почти во всех случаях затрагивают только выбор слов, и все это сделано ради более гладкого и плавного стиля»68.
В мемуарах 1973 года Талман упоминает редактуру Лавкрафта с некоторым раздражением: «Он внес ненужные мелкие изменения, особенно в диалоги… Перечитав рассказ уже в напечатанном виде, я подумал, что без этих изменений было бы лучше, поскольку диалектная речь у него вышла слишком неестественной»69. Вероятно, в связи с этим Талман и преуменьшил роль Лавкрафта в данной работе, ведь его стиль прослеживается и в других частях рассказа, а не только в диалогах с использованием диалекта. Как и многие последующие редакторские работы Лавкрафта, «Две черные бутылки» – это стандартный рассказ в жанре ужасов, который понравился Фарнсуорту Райту – неудивительно, что он сразу принял его к публикации, отвергнув более замысловатые произведения Лавкрафта.
В октябре Говарду выпала возможность потрудиться над совсем другим редакторским проектом под названием «Бич суеверий». О нем почти ничего не известно, но, скорее всего, речь шла о совместной редактуре Лавкрафта и К. М. Эдди по поручению Гарри Гудини. Иллюзионист выступал в Провиденсе в начале октября и обратился к Лавкрафту со срочной задачей – написать статью с критикой астрологии. За эту работу он заплатил семьдесят пять долларов70. Статья не была опубликована, однако в ней, возможно, содержалась задумка полноценного полемического материала на тему всевозможных суеверий. Гудини, конечно, и сам уже выпустил несколько подобных работ, включая «Фокусника среди призраков» 1924 года издания (экземпляр этой книги он преподнес Лавкрафту с дарственной надписью); теперь же его интересовал труд с более научным уклоном.
От «Бича суеверия» остались только наброски Лавкрафта и первые несколько страниц книги, написанных Эдди по заметкам Говарда, в которых ожидаемо упоминается происхождение суеверий в первобытные времена («Все суеверия и религиозные идеи родились из попыток первобытного человека установить причины возникновения природных явлений»), при этом много информации взято из «Мифов и мифотворцев» Фиске и «Золотой ветви» Фрэзера. Сохранившаяся глава однозначно написана Эдди: в ней почти не чувствуется стиль Лавкрафта, хотя приведенные факты по большей части были предоставлены именно Говардом.
Однако тридцать первого октября Гудини внезапно скончался, и проект не получил дальнейшего развития, так как супругу Гудини он не заинтересовал. Пожалуй, оно и к лучшему, поскольку существующий материал нельзя назвать выдающимся и ему заметно недостает научной основы. Может, Лавкрафт неплохо разбирался в антропологии для дилетанта, но у них с Эдди не хватило бы научных знаний, чтобы привести это дело к достойному завершению.
Вскоре после написания «Модели Пикмана» случилось нечто странное – Лавкрафт снова оказался в Нью-Йорке. Приехал он не позднее понедельника, тринадцатого сентября, потому что вечером того дня он ходил с Соней в кино. Цель этой поездки мне не совсем ясна. Говард пробыл в городе совсем недолго – то был всего лишь визит, а инициатива, мне кажется, исходила от Сони. Как я уже говорил, она сообщила, что отказалась от работы в Кливленде и вернулась в Нью-Йорк, чтобы жить поближе к Провиденсу (куда она надеялась выбираться на выходные, хотя эти планы так и не осуществились), но скоро ей предложили очень хорошую должность в Чикаго, от которой никак нельзя было отказываться, и Соня отправилась туда. По ее словам, она пробыла в Чикаго с июля до Рождества 1926 года, не считая поездок в Нью-Йорк за покупками раз в две недели71. Либо Соня ошибается насчет времени отъезда в Чикаго (скорее всего, это был сентябрь, а не июль), либо их встреча случилась во время одной из ее регулярных поездок в Нью-Йорк. Подозреваю, что второй вариант более вероятен, так как Лавкрафт не упоминает никаких квартир, а говорит, что они вместе сняли номер на Манхэттене в отеле «Астор» на пересечении Бродвея и 44-й улицы, а во вторник утром «С. Х. ждали дела с самых ранних часов, и время так поджимало, что у нее не осталось ни одной свободной минутки на запланированные развлечения»72. Хотя официально Лавкрафт все еще оставался мужем Сони, к тому времени он, похоже, снова приобрел «гостевой» статус, как и во время визитов в 1922 году. Большую часть времени он провел с «бандой», а именно с Лонгом, Кирком и Ортоном.
В воскресенье девятнадцатого сентября Лавкрафт по настоянию Сони отправился в Филадельфию – она спонсировала эту поездку73, вероятно, в качестве компенсации за то, что ему пришлось вернуться во «вредительскую зону». В Филадельфии он пробыл до вечера понедельника и по сравнению с поездкой 1924 года сумел более внимательно осмотреть долину Виссахикон, а вдобавок заглянул в Джермантаун и парк Фермаунт. Приехав обратно в Нью-Йорк, двадцать третьего числа Лавкрафт посетил собрание «банды» у Лонга, где произошло два странных события: во-первых, он вместе с другими членами Клуба Калем слушал по радио комментарий боя между Демпси и Танни, а во-вторых, познакомился с Говардом Вулфом, другом Кирка и репортером Akron Beacon Journal. Лавкрафту показалось, что это был обычный светский визит, однако позже он с изумлением обнаружил, что Вулф написал статью, посвященную состоявшейся встрече и конкретно Говарду, для колонки «Разное». Это была одна из первых, а может, и самая первая статья о Лавкрафте, вышедшая за пределами любительской прессы и «странной» литературы, поэтому очень жаль, что точная дата выхода материала нам не известна. Я видел эту колонку только в виде газетной вырезки; появилась она, судя по всему, весной 1927 года, а сам Лавкрафт получил статью лишь весной 1928 года, когда Кирк, носивший ее с собой целый год, наконец-то отдал ее Говарду.
Вулф назвал Лавкрафта «пока еще неизвестным писателем в жанре ужасов, чьи работы сравнимы с любыми современными произведениями в данной области» и отметил, что весь вечер обсуждал с Лавкрафтом «странную» прозу. Затем он добавил, что за следующие несколько месяцев прочитал много старых выпусков Weird Tales, и творчество Лавкрафта впечатлило его еще сильнее. «Изгоя» Вулф счел «настоящим шедевром», «Усыпальница», по его мнению, «почти того же уровня», даже о «Неименуемом» и «Болоте Луны» он отзывался положительно, а вот «Храм» оказался «не так уж хорош». Завершалась статья пророческим выводом: «Как мне сообщили, автор ни разу не отправлял свои рассказы в книжное издательство. Наткнувшимся на этот материал читателям я рекомендую убедить его подготовить подборку рассказов и предложить для публикации. Любой его сборник будет пользоваться успехом и популярностью». Ни Вулф, ни Лавкрафт не могли представить, сколько еще времени пройдет, прежде чем это наконец-то случится.
Лавкрафт оставался в Нью-Йорке до субботы двадцать пятого сентября, после чего вернулся домой на автобусе. Судя по письмам к тетушкам, он приятно провел эти две недели: осматривал достопримечательности и встречался с друзьями, которые были для него единственным спасением в огромном мегаполисе. Думаю, и Лавкрафт, и Соня прекрасно понимали, что с его стороны это был лишь недолгий визит.
В конце октября Лавкрафт совершил еще одну поездку, на этот раз вместе с Энни Гэмвелл и не так далеко от дома. Впервые с 1908 года он посетил Фостер – город своих предков. Приятно читать записи Лавкрафта об этой экскурсии, во время которой он не только наслаждался красотой своей любимой сельской местности Новой Англии, но и восстановил связь с родственниками, по-прежнему чтившими память Уиппла Филлипса: «Никогда прежде меня так живо не притягивало к истокам предков, теперь я ни о чем другом и мыслить не могу! Меня переполняют и насыщают жизненные силы моего унаследованного существа, и я духовно очистился среди настроения, атмосферы и личностей моих крепких новоанглийских прародителей»74.
То, что Лавкрафт действительно «ни о чем другом и мыслить не мог», проявилось в его следующем рассказе «Серебряный ключ», написанном примерно в начале ноября. В этой истории Рэндольфу Картеру, восставшему после «Неименуемого» (1923), тридцать лет. Он «потерял ключ к вратам снов» и пытается привыкнуть к реальному миру, который теперь кажется ему банальным и неудовлетворительным с эстетической точки зрения. Он успеет испробовать все новинки литературного и физического мира, пока однажды не найдет ключ – какой-то серебряный ключ на чердаке. Поехав на машине по «старому знакомому пути», он возвращается в сельский район Новой Англии, где прошло его детство, и каким-то волшебным и необъяснимым образом превращается в девятилетнего мальчика. Картер сидит за ужином со своей тетей Мартой, дядей Крисом и рабочим по имени Бениджа Кори и чувствует себя прекрасно – наконец-то он сбросил с себя сложности утомительной взрослой жизни и вновь вернулся в чудесное детство.
«Серебряный ключ» принято считать историей в стиле Дансени – по той лишь причине, что это сновидческая фантазия, а не рассказ в жанре ужасов, однако с Дансени он никак не связан, за исключением, пожалуй, использования фантазийных элементов в философских целях – хотя не факт, что и этот прием был взят непосредственно у Дансени. И еще здесь можно обнаружить любопытную, хоть и едва заметную связь. Потеряв доступ к миру грез, Картер снова берется за написание книг (напомню, что в «Неименуемом» он был автором страшных историй), но это не приносит ему никакого удовольствия:
«…ибо прикосновение земли было у него на уме, и он не мог больше, как прежде, думать о чудесных вещах. Ироничный юмор разрушил все воздвигнутые им сумеречные минареты, и земной страх неправдоподобия уничтожил все потрясающие нежные цветы в его волшебных садах. Типичная притворная жалость проливалась слащавостью на его героев, а миф о важности реального мира и значимости человеческих событий и эмоций опустил его высокую фантазию до уровня плохо завуалированной аллегории и дешевой социальной сатиры… В этих изящных романах он вежливо смеялся над набросками своих мечтаний, однако понимал, что их изощренность забрала у него все жизненные силы».
Полагаю, таким образом Лавкрафт выразил собственное отношение к более поздним работам Дансени, которым, как он считал, не хватало ощущения детского чуда и высокой фантазии, типичной для его раннего периода. Я уже цитировал проницательное замечание Лавкрафта из письма 1936 года, но его стоит привести здесь еще раз:
«Повзрослев и набравшись мудрости, он утратил былую новизну и простоту. Дансени стыдился собственной наивности и начал отдаляться от своих историй, наблюдать за их развитием с улыбкой. И вместо того, чтобы, подобно истинному фантазеру, оставаться ребенком в детском мире грез, он изо всех сил хотел показать, что на самом деле он взрослый, притворяющийся ребенком»75.
На самом деле в «Серебряном ключе» Лавкрафт в литературной форме изложил свои философские взгляды в сфере социологии, этики и эстетики. Это даже не рассказ, а, скорее, притча или философская диатриба. Лавкрафт критикует литературный реализм («Он не стал возражать, когда ему сказали, что мучения застрявшей свиньи или пахаря с больным желудком в реальной жизни мощнее, чем несравненная красота Нарата с сотней резных ворот и халцедоновых куполов…»), традиционную религию («…он обратился к великодушной церковной вере, любовь в которой ему внушила наивная доверчивость прародителей… И только при ближайшем рассмотрении заметил он увядшую фантазию и красоту, скучную тривиальность и глуповатую серьезность и абсурдность заверений в твердой истине, которым следовало подавляющее большинство исповедующих… Картера утомлял один лишь вид людей, с серьезным лицом старавшихся подогнать старые мифы под обыденную реальность, хотя на каждому шагу их опровергала хваленая наука…») и богемный образ жизни («…они влачили свое зловонное существование в боли, уродстве и несоразмерности, хотя при этом оно было наполнено нелепой гордостью за то, что им удалось избежать чего-то менее дурного. Они променяли ложных богов страха и слепой благодетели на богов вольности и анархии»). Выводы ко всем этим и другим отрывкам, встречающимся в рассказе, упоминаются в его письмах. Лавкрафт нечасто напрямую высказывал философские взгляды в художественном произведении, однако «Серебряный ключ» можно считать его окончательным отказом как от декадентства в качестве литературной теории, так и от космополитизма как образа жизни. Что иронично, структуру истории – Картер, желая придать своей жизни смысл и интерес, по очереди примеряет на себя самый разный эстетический, религиозный и личный опыт – Лавкрафт вполне мог позаимствовать из главной декадентской книги, романа Гюисманса «Наоборот», в прологе к которому дез Эссент пускается в очень похожее интеллектуальное путешествие. Возможно, Лавкрафт осознанно взял эту деталь из книги Гюисманса как еще один способ отрицания описанной в ней философии. Возвращение Картера в детство является, пожалуй, очередным примером, иллюстрирующим одно из ранних высказываний Лавкрафта («Взрослая жизнь – это ад»76), хотя на самом деле возвращается он не столько в детство, сколько к традициям предков, которые, как считал Лавкрафт, помогают справиться с чувством бессмысленности нашей жизни, когда мы осознаем незначительность человека в масштабах вселенной.
К этому моменту становится очевидно, что «Серебряный ключ», как справедливо отметил Кеннет У. Фейг-мл., – это, по сути, рассказ Лавкрафта о недавней поездке в Фостер, только в беллетризованной форме77. Данный вывод подтверждают и топографические детали, и имена персонажей (имя Бениджи Кори, скорее всего, сложилось из двух других: Бенеджи Плейса, хозяина фермы через дорогу от дома, где останавливался Лавкрафт, и Эммы (Кори) Филлипс, вдовы Уолтера Герберта Филлипса, чью могилу Лавкрафт наверняка посещал в 1926 году), и другие схожие черты. После двух лет неприкаянной жизни в Нью-Йорке Лавкрафт почувствовал, что ему необходимо восстановить связь с родными местами, поэтому и в своем творчестве он не мог не заявить, что отныне, куда бы ни завело его воображение, в итоге он всегда вернется в Новую Англию и будет считать ее истоком основных ценностей и эмоциональной поддержки.
Почти не исследован вопрос о том, как именно «Серебряный ключ» связан с другими историями о Рэндольфе Картере. В рассказе представлена вся жизнь Картера, начиная с детства и до пятидесяти четырех лет, после чего он возвращается в детство. С точки зрения такой хронологии «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата» – это «первая» история о Рэндольфе Картере, так как на момент событий рассказа ему где-то за двадцать. После утери ключа от ворот снов (это случилось, когда ему было тридцать) Картер приступает к экспериментам в области литературного реализма, религии, богемного образа жизни и так далее, а не найдя во всем этом никакого удовлетворения, обращается к более мрачным тайнам, в том числе к оккультизму. Как раз в то время (возраст не указан) он знакомится с Харли Уорреном и происходят события, описанные в «Показаниях Рэндольфа Картера». Вскоре после этого он возвращается в Аркхэм, и случается то, о чем рассказано в «Неименуемом», хотя события упоминаются лишь вскользь. Даже эти заигрывания со сверхъестественным не радуют Картера, и вот в возрасте пятидесяти четырех лет он наконец-то находит серебряный ключ.
Почти сразу после написания рассказа Лавкрафт отмечал, что это «не окончательный его вариант, вскоре из его начала будут отсечены философские размышления, которые задерживают развитие действия и отбивают интерес к истории еще до того, как дело переходит собственно к повествованию»78. Однако Лавкрафт так и не внес изменения в рассказ, поскольку, должно быть, решил, что «отсечение философских размышлений» сделает саму историю совершенно бессмысленной: как читатели поймут важность возвращения Картера в детство, если прежде не осознают, что он не может найти удовлетворение во взрослой жизни? В итоге, конечно, получился рассказ, абсолютно не ориентированный на массового читателя, поэтому Фарнсуорт Райт ожидаемо не принял его к публикации в Weird Tales79. Впрочем, летом 1928 года Райт попросил прислать «Серебряный ключ» снова и на этот раз принял его, заплатив Лавкрафту семьдесят долларов80. Как и ожидалось, когда произведение появилось в номере за январь 1929 года, Райт сообщил, что читателям оно «совершенно не понравилось»81! Пожалев Лавкрафта, Райт не стал публиковать эти враждебные отзывы в колонке с читательскими письмами.
В «Загадочном доме на туманном утесе», написанном девятого ноября, стиль Дансени прослеживается сильнее, чем в «Серебряном ключе», а его влияние Лавкрафт пропустил через себя таким образом, чтобы выражать собственные чувства с использованием языка и атмосферы Дансени. Заимствованием можно назвать только некоторые детали места действия и применение фантазийных элементов с философской и даже сатирической целью.
Мы снова попадаем в Кингспорт, куда Лавкрафт не возвращался со времен рассказа «Праздник» (1923), в котором он впервые передал впечатления от поездки в Марблхед – городок, где волшебным образом сохранились многие признаки прошлого. К северу от Кингспорта «ввысь взбираются любопытствующие скалы, уступ за уступом, пока самая северная из них не повисает в небе замерзшей серой тучей». На той скале стоит старинный дом, однако живущего в нем человека никто никогда не видел, даже Ужасный старик. Однажды Томас Олни, турист, «философ» и любитель всего странного и удивительного, решает добраться до этого дома и повидать его таинственного обитателя. С трудом вскарабкавшись по скале, он подходит к дому и видит, что с этой стороны нет входа, только «пара маленьких круглых окон с грязными стеклами и с решетками, как было модно в семнадцатом веке». Единственная дверь находится с другой стороны, прямо над отвесной скалой. Олни вдруг слышит тихий голос, из окна высовывается человек с «огромным лицом, заросшим черной бородой» и приглашает его зайти. Турист залезает внутрь через окно и ведет разговор с обитателем дома:
«Шли часы, а Олни все слушал легенды о былых временах и далеком прошлом, рассказы о том, как правители Атлантиды сражались с жуткими скользкими существами, что вылезали, извиваясь, из расселин на дне океана, и о том, как храм Посейдона, украшенный колоннами и заросший водорослями, до сих пор иногда появляется ночью перед сбившимися с курса кораблями – стоит только его увидеть, и сразу поймешь, что ты заблудился. Хозяин вспоминал о временах Титанов и уже с испугом заговорил о мрачной первой эпохе хаоса, когда еще не было ни богов, ни даже Древних, а когда только другие боги плясали на вершине Хатег-Кла в каменистой пустыне близ Ултара, что за рекой Скай».
Внезапно раздается стук в дверь – ту самую дверь, расположенную прямо над скалой. В конце концов хозяин все-таки открывает дверь, и комнату заполняют разные причудливые существа – «Нептун с трезубцем», «убеленный сединами Ноденс» и другие. На следующий день Олни возвращается в Кингспорт, и Ужасный старик торжественно заявляет, что это уже не тот человек, который поднялся на скалу. Олни больше не стремится к чудесам и тайнам, а довольствуется своей простой жизнью с женой и детьми. А вот жители Кингспорта, глядя на дом на скале, говорят, что «по вечерам в низеньких окошках свет горит ярче, чем прежде».
Лавкрафт неоднократно признавался, что при написании этого рассказа не имел в виду какое-то конкретное место, хотя отчасти он вдохновлялся воспоминаниями о «гигантских скалах Магнолии»82 (правда, никакого дома на утесе там нет), а также мысом неподалеку от Глостера – Лавкрафт называет его «Матушка Энн»83, но его точное расположение остается неизвестным. На выбор места действия могли повлиять и «Хроники Тенистой Долины» Дансени, так как в этой книге упоминается дом волшебника на вершине скалы84. Таким образом, в этом рассказе Лавкрафт изменил пейзаж Новой Англии даже больше, чем в своих «реалистичных» историях, а сделано это было, чтобы усилить фантастичность произведения: в «Загадочном доме на туманном утесе» практически нет топографических деталей, и мы попадаем в вымышленную страну, где, что необычно для Лавкрафта, внимание почти целиком сосредоточено на характере людей.
Ведь суть истории как раз заключается в странном преобразовании Томаса Олни. В чем его смысл? Почему он потерял интерес к чудесам, который привел его в Кингспорт? Намек на ответ можно найти в словах Ужасного старика: «Где-то под серой остроконечной крышей или же среди бескрайности зловещего белого тумана все еще бродит потерянный дух того, кто раньше звался Томасом Олни». Тело вернулось к привычной жизни, тогда как душа его осталась в загадочном доме на высоком утесе. Встреча с Нептуном и Ноденсом стала апофеозом, после чего Олни осознал, что ему место именно в этом царстве туманных чудес. Тело его теперь – лишь пустая оболочка без души и воображения: «Женушка полнеет, дети растут, становятся обыкновенными практичными людьми, а он не забывает с гордостью улыбаться, когда предоставляется случай». Эту историю можно рассматривать в качестве зеркального отображения «Селефаиса»: если Куранесу пришлось умереть в реальном мире, чтобы его дух попал в мир фантазий, то тело Олни продолжает жить, хотя душа его остается в другом месте.
Стоит также упомянуть стихотворение «Ужас Йуле», опубликованное в Weird Tales в декабре 1926 года. Оно состоит из четырех строф и написано в стиле Суинберна, как и «Заклятый враг», «Дом» и «Город». Лавкрафт отправил его на Рождество Фарнсуорту Райту под названием «Праздник». Редактору стихотворение настолько понравилось, что он, к удивлению Говарда, напечатал его в журнале, выкинув, правда, последнюю строфу, в которой Лавкрафт намекал на самого Райта:
И пусть в таких делах
Вы будете и аббатом, и служителем,
Воспевающим алчность каннибала
На каждом дьявольском пиру
И показывающим знак зверя всему недоверчивому миру.
Не считая «Праздника», за первые восемь месяцев после переезда в Провиденс Лавкрафт написал только еще два стихотворения: печальную элегию на смерть кота Оскара, попавшего под машину (написано в конце июня, хозяином кота был сосед Джорджа Кирка), и стихотворение «Возвращение», посвященное Ч. У. Смиту, которые появились в Tryout за декабрь 1926 года.
Двадцать третьего ноября он написал эссе «Коты и собаки» (Дерлет со временем дал ему другое название – «Кое-что о кошках»). Редакторский клуб в Бруклине готовился провести дискуссию о преимуществах кошек и собак. Лавкрафт с удовольствием принял бы участие в такой встрече лично, тем более что любителей собак среди членов клуба оказалось больше, но так как поехать в Нью-Йорк он не мог (или не хотел), то подготовил материал, в котором рассказал о своей любви к кошкам, подкрепляя – местами вполне серьезно – свои заявления замысловатыми философскими рассуждениями. Результатом стало одно из самых замечательных произведений Лавкрафта, хотя свои чувства в этом эссе он выражал довольно саркастично.
Вкратце, Лавкрафт утверждал, что кошек заводят творцы и мыслители, а собак – невозмутимые представители буржуазии. «Собака взывает к простым, дешевым чувствам, кошка же – к глубинным источникам воображения и вселенского восприятия в человеческом разуме». Все это неминуемо приводит к упоминанию классовых различий, лаконично выраженных следующим образом: «Собака – это деревенщина, а кот – джентльмен».
Именно «дешевые» чувства, включая сентиментальность и потребность в угодничестве, заставляют людей хвалить собак за «верность» и преданность, презирая при этом равнодушие и независимость кошек. По его мнению, ошибочно считать «бессмысленную общительность и дружелюбие собаки, как и ее раболепную преданность и послушание, качествами, достойными восхищения». Сравним поведение этих животных: «Бросьте палку, и собака, хрипя и тяжело дыша, бросится за ней, чтобы принести хозяину. Повторите то же самое перед кошкой, и она глянет на вас с вежливым изумлением и легким оттенком скуки». Но разве мы не считаем человека высшим существом как раз за независимость его мыслей и действий? Так почему же мы не хвалим кошку, когда она проявляет те же качества? Более того, человек вовсе не владеет кошкой (как может владеть собакой), а просто принимает ее у себя. Кошка – гость, а не слуга в нашем доме.
В «Котах и собаках» еще много всего интересного, но этих цитат будет достаточно, чтобы продемонстрировать его необыкновенное изящество и юмор. В этом эссе замечательным образом объединяются философия, эстетика и личные чувства, чтобы рассказать о существах, которыми Лавкрафт восхищался больше всего на свете (включая людей). Пожалуй, неудивительно, что Р. Х. Барлоу, решивший напечатать это эссе во втором номере Leaves (1938), захотел смягчить некоторые наиболее провокационные (и лишь отчасти шутливые) политические аллюзии. Ближе к концу эссе Лавкрафт отмечает: «Звезда кошки, как мне кажется, только начинает восходить, и мы понемногу освобождаемся от грез этики и демократии, омрачавших девятнадцатый век», и в этом отрывке Барлоу заменил «демократию» на «конформизм». Далее, где Лавкрафт говорит: «Трудно сказать, сумеет ли возродившаяся монархия и красота восстановить нашу западную цивилизацию, или распад уже необратим и его не сдержат даже фашистские настроения…», Барлоу написал «власть» вместо «монархии» и «никакая сила» вместо «фашистских настроений». Однако вопреки – или же, напротив, благодаря – этим крайне неполиткорректным высказываниям эссе «Коты и собаки» получилось великолепной работой такого высокого уровня, которого Лавкрафт не часто достигал.
Разумеется, на этом Лавкрафт не завершил свое творчество в тот год. Действуя вопреки заведенному правилу, он написал «Серебряный ключ» и «Загадочный дом на туманном утесе», одновременно работая над куда более объемным произведением. В начале декабря он сообщал в письме Августу Дерлету: «Я добрался до семьдесят второй страницы моей сновидческой фантазии…»85 К концу января была готова самая длинная на тот момент прозаическая работа Лавкрафта – повесть «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата».



