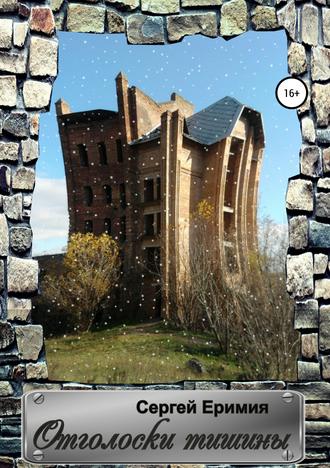
Сергей Владимирович Еримия
Отголоски тишины
– Вот и давайте ее мне. Вы же пока отдохнете. А насчет почетного гостя, так вы сами читали, никакой я не почетный, я ведь даже и не монах, всего лишь послушник…
В глазах деда Петра отчетливо читалось сомнение. Ему, конечно же, очень хотелось побездельничать, но меньше всего хотелось прогневить настоятеля. Он минуту молчал, только головой качал, взвешивая все за и против, в конце концов, решился, повернулся ко мне и сказал:
– Давай сделаем так – сейчас ты поработаешь, недолго, но если вдруг услышишь что с той стороны братья уже близко, бегом ко мне, – он заговорщицки подмигнул и добавил шепотом: – Только настоятелю не рассказывай, не надо, договорились?
Снега и вправду намело немало. Запал, с которым я взялся за борьбу с сугробами, быстро улетучился. Лопата стала неподъемно тяжелой и очень уж неудобной. Вздымалась она все реже и реже, а скоро и вовсе остановилась. Уткнулась она в сугроб, я оперся о черенок, закрыл глаза и принялся часто дышать. Дед Петро, который все это время через окошко наблюдал за моей работой, тут же вышел, подошел, похлопал меня по плечу и изрек:
– Эх, молодежь, молодежь, а ну давай-ка сюда инструмент, покажу, как работать надо!
Еще трижды мы менялись, то я работал, то дед и вот послышались звонкие голоса с другой стороны снежной баррикады. Как и следовало того ожидать, согласно всем законам подлости, я только успел взяться за лопату, только набрал снега. Дед Петро быстро сориентировался, выхватил инструмент из моих рук и приложил палец к губам. Сопровождаемая победоносным кличем, сплошная стена снега впереди рассыпалась. Несколькими минутами позже обе дорожки окончательно слились в одну. Снежный завал был расчищен. Дорога свободна.
Привратник на глаз оценил длину каждого участка, покачал головой и с гордостью сказал:
– Вот скажите мне на милость, что бы вы без деда делали? А? Посмотрите, сколько я расчистил, – он поднял указательный палец вверх и, четко выговаривая каждую букву, продекламировал, – с-а-м! А вы сколько, вчетвером!
Монахи ответили что-то в тон деду, все вместе посмеялись и они направились обратно. Дед Петро крикнул вслед:
– Ну и куда это вы собрались? Гостя заберите!
Спустя всего несколько минут я стоял перед настоятелем. Стоял, вертел головой и удивлялся. Прежде всего, ему самому. Ему и его возрасту. Странно, но он выглядел всего-то лет на пять старше меня, пожалуй, слишком молод для столь ответственной должности. Но это было далеко не единственное «слишком». Чуть выше меня ростом, при этом он был невероятно худым, этого не могли скрыть даже весьма просторные одежды монаха. Его худобу венчала большая голова. Опять-таки слишком большая. Она казалась особенно большой из-за просто-таки творческого беспорядка на ней. Слишком длинные волосы выглядели растрепанными и живописно торчали в разные стороны. К тому же светлые они, отчего вся эта картинка сразу навеяла мысли об одуванчике, вызвала предательскую улыбку и тут же потребовала ее спрятать.
Так же как сам настоятель, удивляла и его келья, скорее, кабинет. Он мало напоминал лишенное излишеств пристанище монаха, скорее это была лаборатория ученого, причем ученого с неимоверно широкой сферой интересов…
Помню, вошел в кабинет-келью-лабораторию. Вошел и сразу же остановился. Первое что бросалось в глаза – книги. Они были везде. На высоких до самого потолка стеллажах, поставленных вдоль боковых стен, на столе, на стульях, несколько даже на полу. Одна лежала просто у меня под ногами (собственно, поэтому я и замер, остановился, чтобы не наступить). Многие из тех книжек, что не стояли на полках, лежали открытыми в самых разных местах помещения, большинство с вложенными яркими закладками, не иначе как настоятель развлекается тем, что одновременно читает множество книг, перебегая от одной к другой. Вот бы как-то подсмотреть, наверняка это занимательное зрелище!
У единственной стены свободной от книжных полок, той, в которой имелось узкое и высокое окошко, по обе стороны от окна расположились два закрытых мутными стеклами шкафа. Сквозь полупрозрачные двери можно было разглядеть множество пробирок, колб, банок бутылок, емкостей замысловатых форм, заполненных всевозможными веществами, всех мыслимых расцветок. Левее шкафов, в дальнем углу, стоял небольшой металлический столик. Я лишь успел заметить отблеск какой-то стеклянно-металлической конструкции на нем, как настоятель быстро набросил на него черную материю. Заметив, что я стал свидетелем его маневра, он улыбнулся, сначала виновато, слегка натянуто, затем чуточку шире, почти искренне, еще шире, еще искреннее. Когда же улыбка достигла пика яркости, он протянул руку и направился ко мне:
– Прошу прощения за беспорядок, я именно сегодня намерился навести порядок во всем этом хозяйстве. Погода, знаешь ли, не благоприятствует никаким более занятиям, – он обвел рукой книжные полки. – И все это… одну минутку!
Он убрал стопку книг со стула, не найдя куда ее определить, бросил на пол, протер сиденье рукавом.
– Вот, присаживайся!
Я подумал, что сидеть послушнику в присутствии настоятеля это не совсем правильно, субординация, какая ни есть должна быть, потому подождал, пока отец Феофан освободит еще один стульчик для себя, сядет и уже после присел сам.
– Вчера весь день такая метелица была, даже во двор не выходили, я почти собрался, а теперь… уже и сегодня… – извинительным тоном продолжил он. – Но ведь не это неважно, правда? Важно то, что ты, несмотря на столь неблагоприятную зиму, прибыл! Словом, рад приветствовать в нашей обители. Отец Орест, меня уже давно уведомил, правда, ожидали мы тебя еще три дня назад, но ничего не поделать, прихоти погоды. Он что-то наказывал передать?
Я отдал письмо, он быстро пробежал глазами текст и кивнул:
– Узнаю отца Ореста. Он всегда отличался лаконичностью и четкостью мысли. Всего несколько предложений, но все со смыслом. Ну что, ты пока располагайся, братья покажут твою келью, ты ведь к нам надолго, еще не раз увидимся. Словом, добро пожаловать!
– У меня тут приключение случилось неприятное, – сказал я и поведал подсказанную дедом Петром историю про разбойников.
Настоятель грустно покачал головой.
– Знаю, знаю, места у нас, прямо сказать, дикие. Мало кто из путешественников, кто странствовал нашими землями, может похвастаться тем, что избежал знакомства с разбойниками. Но, увы, тут мы бессильны. Окраина! Разный народ бежит в эти земли, с разными намерениями, от разной жизни. Правда, нас пока не трогают. Думаю, боятся гнева, не знаю только гнева божьего или гнева человеческого. А с твоей проблемой поможем. Тулуп тебе найдем, да и валенки подыщем, а коли еще чего пропало, так не взыщи, тут ничего поделать, придется просто смириться…
Так началось служение мое в монастыре святого Василия. Со снега, с приключения и, увы, со лжи. Пусть ложь и не ради выгоды, а исключительно ради спасения, но ложь она была и остается ложью.
В первое время основным занятием как моим, так и моих собратьев была борьба с последствиями снегопада. Снега насыпало так много, что если бы не приближающееся Рождество, и мужики из соседних деревень не помогли, думаю, мы бы до Пасхи разгребались. Но вот свершилось. Просторный двор наконец-то лишился сугробов, высоту которых живописно подчеркивали многочисленные дорожки, освобождены из снежного плена деревья, вырваны из сплошной белизны монастырские постройки. Моему взору открылось истинное величие и, замешанная на мощи и аскетизме, красота дома божьего.
Сам монастырь удачно расположился на изгибе полноводной реки. Более того, она, словно природный ров укрепленный замок, окружала его территорию. Река выгибалась, образовывала практически идеальный круг, не доходила буквально с два десятка метров до своего же русла и, свершая крутой поворот, исчезала вдали. На ограниченной рекой площадке, по самому берегу, насколько можно было судить по льду, вдоль самой кромки воды, была выстроена высокая стена. Сопровождая быстрые воды, она доходила до разворота русла, отходила от него, завершая круг. В той части, где образовался перешеек между «материком» и округлым «полуостровом», стена постепенно становилась выше, переходя в две одинаковые симпатичные башенки. Они обрамляли массивные деревянные ворота, обитые листами толстого железа. Правее них, скрытая среди каменной кладки, виднелась дверь в прекрасно знакомую мне каморку деда Петра, памятная дверь, та к которой я так удачно свалился.
В центре огромного круга образованного стеной возвышалось большое здание, в верхней части увенчанное блестящим куполом с солидных размеров крестом. С высоты, если взглянуть, к примеру с какого-нибудь облака, проплывающего в вышине, оно само выглядело большим равносторонним крестом. Два крыла здания, углом обращенные в сторону ворот являли собой церковь, в праздники открытую не только для обитателей монастыря, но и для простых прихожан. В двух других, спрятанных от любопытных глаз стеной и множеством деревьев, расположились кельи монахов, библиотека и множество других помещений, о назначении многих из которых я так и не узнал.
В глубине двора вдоль стены выстроился неровный ряд амбаров, сараев, конюшен, правда, я не помню, чтобы хоть раз слышал ржание лошадей. Все что требовалось для жизни монастыря, подвозили крестьяне на своих же конях.
Все это, всю картину целиком я увидел позже, гораздо позже, первое же впечатление – церковь. Именно с нее началось знакомство с «моим», Свято-Васильевским монастырем. Да, в церкви было на что посмотреть. И не только внутри, снаружи тоже. Она поразила меня сразу, еще в первый день, когда нам с братьями удалось расчистить проход, да освободить от снега небольшую площадку перед входом, чтобы можно было открыть массивные двери.
Помню, я подошел к покрытым искусной резьбой дверям, обрамленным великолепной лепниной, запрокинул голову и посмотрел вверх. Оттуда, снизу здание казалось просто огромным. Большой крест, на котором играли отблески заходящего зимнего солнца, медленно плыл в синеве небосвода. Он касался белоснежного облака, казалось, вот-вот с небес сойдет ангел, и, направляясь по тонкому лучику солнца, спустится вниз…
Величие снаружи, а войдешь внутрь, так и вовсе дух захватывает! Прежде всего – свет. Поразительный, удивительный, нереальный! Тусклые лучи солнца пробивались сквозь огромные витражи и разноцветными зайчиками плясали по полу, по стенам. Все сразу становилось таким живым, таким величественным, пронизывало всего, вселяло благоговейный восторг с ним трепет. Чуть постоишь и накатывают волны суеверного страха перед той силой, что гораздо сильнее всего, что только может представить себе человек.
Не уступал великолепием и куполообразный потолок. Удивительной красоты роспись, непередаваемая полнота оттенков. Представь только: высоко на фигурном своде, словно живые, сонм святых, средь них в полный рост стоит Христос на белоснежном облаке, точь-в-точь как то, которое я видел снаружи. Стоит и смотрит вниз, на тебя. Даже не просто на тебя, он смотрит внутрь тебя, заглядывает в самые потаенные уголки души, смотрит и спрашивает, а правильно ли ты живешь? С чистыми ли помыслами явился в дом Божий?
На стенах фрески не менее реалистичные, не менее красочные. Некоторые, непередаваемо прекрасны, иные, изображающие муки грешников, вызывают отвращение и суеверный ужас. В промежутках между фресками иконы, множество икон. Многие обрамлены ризами удивительно тонкой работы. Некоторые совсем простые и даже не помещены в рамы, но от того не менее яркие и не менее впечатляющие…
У противоположной от входа стены скрывая дверь, ведущую за алтарь, расположилось главное украшение церкви – триптих. Три картины, связанные как духовным наполнением, так и общим обрамлением. На его центральной, самой большой части, изображена Голгофа, на ее вершине крест с распятым Иисусом. На удивление реалистичное изображение. Вон как все мастерски нарисовано! И лицо и фигура, даже капельки крови и те, будто настоящие. Медленно еле заметно стекают они по сведенным судорогами рукам, вытекают из раны, из-под гвоздей, пробивших живую плоть. Кровоточат ссадины на лице, текут алые ручейки из ран, нанесенных венком терновым. Заливает кровь глаза Иисуса, застилает полный страданья взор, устремленный в небо. Его губы шевелятся, будто произносят молитву, обращенную к отцу своему небесному…
Рядом с ним, но при этом как бы вдалеке, два креста поменьше, на них тела Дисмаса и Гестаса, разбойников, распятых вместе с ним. Они не так четко прорисованы, благодаря чему взгляд постоянно возвращается к сыну божьему. Приковывают взор его мученья, проникают в сердце, в душу. Отзываются верой, откликаются благодарностью, ведь принял он муки за всех нас грешных…
Пространство под ним от горизонта и до основания креста, заполнено людьми и так мастерски изображенными, что просто диву даешься! Представь, прорисована каждая черточка лица, каждая, пусть самая мельчайшая деталь, понятна каждая эмоция! Вот группа людей, не иначе как последователи – смиренно молятся, держась поближе к спасителю. Там, одаль другая – радостно смеются, а один из них, толстяк с горящими злобой и ненавистью глазами, весело хохочет, тычет пальцем в сторону распятий, не иначе как упивается мучениями казненных!
Море людское, море эмоций. Сверху же иное море – небесный океан. Бурлит, кипит. Просто над головой у Иисуса расползается черная туча – надвигается гроза…
По сторонам от большого холста два других, несколько меньших. Правый иллюстрирует скорбь матери распятого – Богородицу Марию. Она изображена в полный рост, стоит, повернувшись к сыну и в скорби низко наклонила голову. По бледной щеке медленно стекает, блестит, словно настоящая, слезинка.
Левая часть триптиха, на ней другая женщина – Мария Магдалина. Обе эти картины словно зеркальное отражение. Эта женщина также стоит, повернувшись к Христу. Также склонила голову, только в отличие от Богородицы, одежды на ней не черные, а белые. В руках она сжимает белую розу и, сжимает так крепко, что с ладони проколотой шипами по стеблю медленно стекает ручеек алой крови…
– Нравится? – послышалось за спиной.
Мне действительно нравился триптих. Уже неделя прошла с того часу как я попал в монастырь и с тех пор я ежедневно задерживался у него. Стоял, не двигался, не в силах отвести взгляд.
От неожиданно громкого средь тишины церкви голоса я подскочил на месте и резко обернулся. Позади меня стоял отец Феофан со своим уже привычным слегка виноватым выражением лица. Он так же смотрел на картину.
– Очень нравится. Сколько смотрю, столько и удивляюсь, как человек смог так натурально изобразить, это какой же талант должен быть, какая вера!
– Действительно красиво. Этот триптих – наше маленькое чудо. А создал его не мастер живописи, а простой шорник из соседнего села. Единожды ему было видение матери Божьей. И вот он, никогда ранее не бравший в руки кисть, изобразил, – настоятель медленно кивнул и почему-то густо покраснел. – Теперь же мы смотрим на результат.
– А можно будет как-нибудь увидеть этого святого человека?
Отец Феофан только развел руками.
– Да где там! Умер, давно умер. Можешь расспросить деда Петра, он его должен помнить, они родом из одного села.
– Жаль. Наверное, истинный христианин был покойный!
– Вовсе нет! Только за год до смерти смирным стал, после видения, а раньше из корчмы не выгонишь. Пил беспробудно. Напьется – буянит! Еще и здоровый был. Четверо с ним не могли совладать! Единственно, что могло его остановить во хмелю, так это огреть оглоблей из-за угла по спине, да что есть силы. Пока не проспится спокойствие… – отец-настоятель замолчал на минуту и виноватым тоном добавил: – Это мне дед рассказывал!
– Удивительно, а я думал…
– Нет, все логично, чему тут удивляться? Так всегда и бывает. Ведь если человек достойный, верующий, ему и так дорога в рай. Ему для веры чуда не надобно. А вот ежели наоборот, так тут только через видения путь во… смирение…
Мой взгляд снова вернулся к триптиху. Настоятель, тем временем, обращаясь уже не ко мне, а к самому себе, продолжал:
– Действительно, красиво. Даже и не знаю, снимать или нет…
– Кого снимать, – пробрался в его размышления я.
– Так вот его. Прошлой осенью епископ приезжал, три дня у нас гостил, все хвалил, все его радовало. Вот только триптих наш его обеспокоил. Говорит, образ сомнительный. Видишь слева Мария Магдалина. Именно эта часть ему не понравилась. Говорил, заменить надо. Чтобы смятение не сеять…
– А почему он сомнительный? Мария Магдалина, она же святая, равноапостольная!
– У нас, православных, да, а вот у католиков, ее образ трактуется не столь однозначно.
– Странное дело! Неужто нам на них ровняться? Наша вера единственно правильная!
– Так-то оно так. Но епископ наш человек мудрый и дальновидный, уверен, у него есть причины для подобного рода высказываний. Говорил, все беды от женщин… Пожалуй, достаточно отвлеченных разговоров. Это не та тема, на которую нам с тобой рассуждать. На то есть умы, лучше наших. Я ведь тебя по делу разыскивал. Идем, надо письмо составить архимандриту Оресту. Заодно и мне покажешь, что за премудрость такая вся эта тайнопись!
Монотонная и плавная монастырская жизнь. Вся суета, вся спешка осталась там, за высокой стеной. Именно за стеной. Я уже начал забывать, что между мной и моей привычной жизнью не только высокий забор, а еще и пропасть времени. Да и какая разница, что тогда, что сейчас? В чем отличие? Разве только мобильного телефона нет, а еще пульта в комплекте с телевизором. На мой взгляд, плюсов в этом гораздо больше чем минусов.
Весь почет, который прочил мне дед Петро в день прибытия, свелся к ежедневной аудиенции в кабинете отца-настоятеля, ведению документации монастыря, и (мое любимое занятие, вот почему я не разведчик!) составлению зашифрованных посланий. Помимо этого я исполнял и множество других возложенных на меня послушаний. Простых и понятных. Занимался уборкой, помогал на кухне, а с приходом тепла работал на полях. Тем временем игумен Феофан выхлопотал для меня разрешение остаться в Свято-Васильевском монастыре. Сам я не возражал, хотя будучи послушником, вполне мог иметь свое мнение. Не представляю, как к этому отнесся отец Орест, ведь я даже не знаю кто это. Нет-нет, да и проскакивали странные мысли: «Вот любопытно, если бы он к нам приехал, что бы он сказал, увидев меня? Любопытно, я похож на того послушника Ивана, которого он отправил в долгий зимний поход? А может, не просто похож, может он это и вправду я?».
Подходила средина осени. Да, без малого год прошел с той поры, как я, в самом буквальном смысле, свалился в Свято-Васильевский монастырь. Как-то само собой возникло желание, созрело решение, я понял, что готов и начал готовиться к постригу. В день, который настоятель назвал самым главным в моей жизни, а я искренне с ним согласился, собрались все братья. В связи с таким торжественным событием игумен надел свою праздничную черную мантию со скрижалями. Братья тоже, хотя их повседневная одежда мало чем отличалась от праздничной, выглядели нарядно-торжественными.
Почему-то я разволновался. Наверняка так оно и должно было быть. Что ни говори, не каждый день тебя постригают в монахи! Я же так разнервничался, что напрочь забыл весь ритуал. Кажется, все предельно просто: трижды игумен приказывает подать ножницы и трижды их отвергает, проверяет насколько сильно мое стремление. Как сейчас вижу, вот первый раз подаю ему их, он отводит мою руку, тут я и растерялся, смотрю на него, расстроено, если не обижено. Только взгляд перевожу с ножниц на настоятеля, затем обратно. Хорошо хоть брат Михаил, старейший в монастыре приблизился и прошептал:
– Подавай еще раз, все так и должно быть!
Только за третьим разом, как и полагалось по традиции, скорее согласно ритуалу, убедившись в непоколебимости моего решения, игумен принял ножницы, поднял их над головой, будто показывая окружающим, накрест выстриг мне волосы, приговаривая:
– Во имя отца и сына, и Святого духа. Нарекаю тебя братом Иоанном, на знак полнейшего отречения от жизни мирской для служения Господу нашему…
Он еще долго что-то вдохновенно говорил, но, сознаюсь, я его уже не слушал. Я внимательно следил за братом Михаилом, который извлекал из сундука хитон, мантию, рясу да пояс. Казалось такая нехитрая монашеская одежда, а какие хитроумные названия ей придумали! Не один день прошел, пока я запомнил, что да как называется. Но это было потом. Тогда же меня одели, отец Феофан еще раз перекрестил, дал коснуться губами большого креста и с тем стал я самым настоящим монахом.
А время все продолжало свой стремительный полет. Приближалась памятная дата. Еще несколько недель и исполнится ровно год, первая годовщина моего пребывания в монастыре. Подходила к концу осень, с каждым днем погода становилась хуже. Чуть не каждый день сильные и по-настоящему холодные дожди вымывали и без того чистый монастырский двор. С каждым днем все сильнее хотелось, чтобы поскорей наступила зима…







