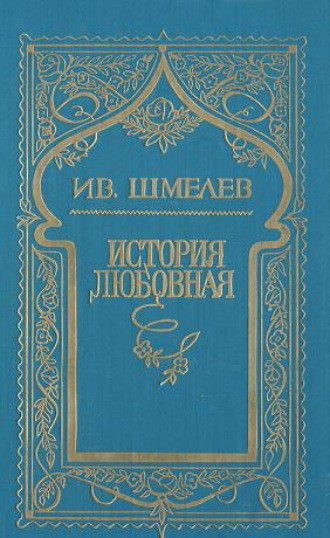
Иван Шмелёв
История любовная
XXII
Я сидел у забора и поджидал. Стемнело. Придет?… Любит – придет. Обрывал на крыжовнике листочки. Если уколюсь, то – любит. Переколол все пальцы. Сколько на галерее окон? Если четное, то не любит?… Пять окон! Любит. Но я кажется, знал, что пять?… Сколько буковок в «Серафиме»… четное – любит! Восемь!
Корову подоили, сейчас и ужинать позовут. А она все не выбегала. Я сосчитал до тысячи, а она все не приходила. Начал вторую тысячу. Бахромщицына девчонка пробежала, постояла под бузиной и убежала.
И вот – услыхал шажки. Она бежала на цыпочках, как фея.
– Конечно, вы здесь… и ждете?… – услыхал я чудесный шепот.
– О, это вы!… – прошептал я страстно. Она так чудесно засмеялась!
– Вы сумасшествуете… Это последний раз! Слышите?… Меня начинает мучить совесть… Мы должны кончить. Ну, вот, я вам ответила… И это все… Мне вас жаль, но, милый… нельзя же так. Прощайте…
И она пропала, прежде чем я ответил.
Ее, сиреневая теперь, душистая записка говорила:
«Я совершаю преступление, отвечая вам. Я не могу ответить на ваше юное непосредственное чувство. Не такой же любви вы ждете? Вы ждете чего-то необыкновенного? Но… так все обыкновенно! Советую вам читать Шпильгагена, Жорж Санд и, особенно, Чернышевского – „Что делать?“. Тогда ваши идеалистические стремления найдут выход. Ваша страстность вносит в мою душу смуту. Но я не смею отвлекать вас, мешать учебным занятиям. Я плачу над вашими письмами, но… забудьте выдуманную вами „небожитель-ницу“. Я просто самая обыкновенная „бабенка“!
Ваша, немножко увлеченная вами С…
P. S. Хорошо. Я решаюсь объясниться. Я должна на два дня уехать. Во вторник или среду я напишу вам, где и когда мы встретимся. И кончим? да? Право, милый мальчик, кончим?… Не будем распеленывать ваш „идеал“? Вы можете разочароваться, прикоснувшись к грубой реальности. Посылаю вам маленький „лепесток“. Какой вы хитрый обожатель! Довольны? „Неземная“ – пишете вы! О, слишком земная и слишком грешная, как все женщины, хотя и Серафима. И недостойна вашей нетронутой чистоты. Ах, если бы вы забыли выдуманную вами „нетленную“, „неземную“ и „божественную“! Будьте же благоразумны…»
Я рыдал над ее письмом. Я вдыхал одуряющий аромат востока, я припоминал музыку ее шепота, ее удивительное – «ах милый мальчик!» Она уже посылала мне маленький «лепесток»! Я мечтал, как она подарит мне обворожительный поцелуй женщины… Я понимал, что в ней происходит страшная внутренняя борьба. Она готова со мной расстаться, но в приписке она не в силах бороться с одолевающею ее… с зарождающимся в сердце чувством? Она плачет… Она боится, что я разочаруюсь!… Мы встретимся в Нескучном, в глухом уголке сада, у каменной беседки, где колонны, на берегу зарастающего пруда… или в «Аллее Вздохов», откуда виден купол Христа Спасителя! Или – у «Чертова Оврага»… Там соловьи поют… Но почему она – «грешная, как все женщины»? она… не девушка? Если она любила… почему же – грешная?… Значит, кого-то она любила…
Кончить?… Нет, это невозможно. Я хочу держать ее маленькую ручку, ручку ребенка-женщины, пожимать ее нежно-нежно, пить аромат шелковистых ее волос, пропитанных ароматами Востока… Я хочу носить ее, как ребенка, сажать к себе на колени, целовать ее чудные глаза и розовый «цветочек», с которого будут падать душистые лепестки, страстные поцелуи женщины, и читать ей свои стихи, написанные кровью сердца, написанные для нее одной…
И я написал отчаянное письмо.
«…Это не преступление, что вы уделяете мне хотя бы крупицу счастья. Да благословит вас Творец! Вспомните „лепту вдовицы“! Пушкин сказал словами князя Гремина: „Любви все возрасты покорны, ее порывы… благотворны! для юноши в расцвете лет, едва увидевшего свет!“ Это знаменательная фраза в устах Пушкина, и, конечно, Пушкин, как великий поэт, не мог бросать ее на ветер! Если вы уважаете Пушкина, вы должны признать это. Даже для – „едва увидевшего свет!“ – как я, хотя я уже многое повидал и много уже прочитал, как, например: „Дон-Кихот“, „Юрий Милославский“, „Демон“, „Мцыри“ и „Маскарад“ Лермонтова, массу всяких романов! Конечно, я немедленно проглочу всего Шпилгагена и Жорж Санд и „Что делать?“ Чернышевского, но уверен, что они не разубедят меня! Сама жизнь, устами Гения, говорит мне – люби! И вы сами уже немножко интересуетесь мною? Или я ошибся? Нет, не отнимайте у меня последнего утешения видеть Солнце! Вы – Солнце, вдруг осветившее мне весь мрак моей суровой жизни. Вы, как Зинаида из „Первой любви“ – удивительная повесть И. С. Тургенева, если вы уже читали! Да, вы для меня – лучезарная Зинаида, тоже „грешная“ женщина, отдававшаяся безумной любви даже под хлыстом любимого человека! Я плачу, перечитывая ваши письма, вдыхаю аромат женщины! Да, вы женщина, как античная Венера, а я только „мальчик“, но если ваша любовь только игра сложившейся женщины, то и тогда я с радостью пью яд обмана! Дайте мне, умоляю вас, пить этот отравляющий обман и боготворить вас! Вы мне необходимы. Я знаю, что вас окружают тысячи поклонников – может быть, более меня достойных, но бросьте мне хотя бы корку от вашего пира любви, и в этом я почерпну силы, чтобы завоевать в ваших глазах место, достойное вашей любви. Любимый мною поэт Лермонтов сказал когда-то: „Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит!“ Так и я. Я один выхожу на дорогу, и впереди туман, и кремнистый путь! Но… пройдут года, и я завоюю место в ваших глазах и… сердце? да? и получу право просить вашей руки и сердца, если хоть одна слабая искорка любви и чувства ко мне сохранится в нем! О, позвольте мне хотя бы мысленно лобызать края вашего платья! Простите, я не в силах сдержать обуревающее меня чувство. Я медленно сгораю, я не сплю и не ем, ночи и дни напролет думаю о вас, и ваш телесный образ божественно наполняет мою душу! О, розоперстая Эос! заря утренней моей жизни! Если бы я был Гомер, я написал бы „Серафиаду“ и воспел бы вас героически! „Эннепэ, Муза, полютронон гос мала полля!“ – как поет Гомер Одиссея! Отныне я ваш Гомер! И вы… о, вы должны быть моей\ Вся вы, и ваша бессмертная душа, и ваше прекрасное и бессмертное для меня и святое тело! да, тело богини Венеры! Я безумствую, я целую ноготки ваших пальчиков и ваши каблучки! Простите безумного сумасброда, я в каком-то вихре! Ваш Тон. Так меня зовут. Я не люблю, когда прибавляют „Ан“. Некоторые зовут меня Тоничка… и, кажется, влюблены в меня. Но что же мне делать с сердцем?!»
Были еще приписки, и заканчивалось стихами:
Мне незнакома женщин ласка,
Но слово «женщина» – как сказка!
XXIII
Был вечер. Я подошел к парадному, бросил письмо в прорезь и решительно позвонился. Увидят или не увидят – мне было безразлично.
Гришка, оказывается, дежурил, но, должно быть, дремал, когда я прошел к парадному, а я проглядел его.
– Чего к бабкам-то звонились? – спросил он меня с усмешкой. – Для прахтики?
– Да… просили знакомые передать письмо… – нашелся ответить я. – Хотят акушерку пригласить!
– Сказывайте, знако-мые!… – сказал плутовато Гришка. – Чего-нибудь такое. Портнишечка, что ль, какая?
– Глупости… – смущенно сказал я Гришке и быстро прошел в ворота.
А он мне крикнул:
– Ну и ребята пошли отчаянные! Мастаки-и!… Я кинулся к забору. Галерея едва светилась. По потолку поплыло пятно света. Потом проплыла и лампа. Дверь в квартиру захлопнулась. По тихому ходу лампы я сразу понял, что это прошла толстуха. Серафима бы пробежала быстро. «Толстуха, – подумал я, – выходила на мой звонок и, должно быть, взяла письмо».
Я прождал больше часу. Неужели она не выйдет? Я просил знакомую звездочку, – это была моя звездочка… – быть может, это и есть Венера? – чтобы она сманила. Я помнил, как сестры пели: «Звезда любви мне тихо говорила, что любит он печальную меня!…» Ко мне подошел Рыжий и принялся тереться. Я нежно его погладил. Он стал мурлыкать. «Милый Рыжик! – сказал я ему, лаская, – ты тоже любишь… кошечку в бантике!» Помурлыкав, он сиганул к соседям.
Кликали ужинать. По двору пробежала Паша. Я укрылся под куст крыжовника.
– Нету, не видать… – услыхал я Пашу: она заглянула в садик. – А плетун сказывал… во двор пошли! К портнишкам, может? Мухлюют что-то… Тоничку не видал? – спрашивала кого-то Паша. – Не у девчонок?
– Девчонки в баню пошли. Есть мне время Тоничку тво-во сторожить. Ты за ним все хвосты отрепала… и гоняй! – сказал недовольный голос Степана-кучера.
– А-а, трепало! – усмехнулась Паша. – Пусти… сейчас закричу, бугай страшный! Что, всамделе, проходу не даешь?… Ей-Богу, барыне пожалюсь…
– Са-харная, что ли… рассы-пешься!… Шутков не понимаешь. Тот тебе небось… не обижаешься?…
– У, бесстыжие глаза, ломовик!… Какая-никакая, а пока не твоя!
Все, до одного слова было слышно в вечернем воздухе. Говорили они у бревен. Кучер мне был противен. От Паши я был в восторге. Какая она… зубастая!
– Паш!… – окликнул кучер, – на одно словечко, по сурье-зу!…
– Погоди до морозу! – крикнула звонко Паша.
Я слышал, как портнишки пришли из бани, смеялись с Гришкой. Потом кучер проваживал во дворе лошадь. Потом – затихло. Прошел Карих, приколотил что-то у сарая, ругнулся, – должно быть, попал по пальцу, и, сказав: «Храни Бог, ежели в пожарном отношении», – зашмурыгал в свою квартирку, рядом с бахромщицами.
У бахромщиц погасла лампа. Карих еще светился. Погас и он. Портнишки кончили «Чудный месяц», и только скорняки и сапожники, отужинавши, что-то еще галдели. Пропели про Дуню и лапушок, про какой-то «корешок-корешок» и, наконец, умолкли. Я уже собирался идти домой. И вдруг сердце мое мотнулось. Галерея взблеснула и погасла. Она?… Я разобрал легкие, осторожные шажки. Потом – легкий и частый шорох…
Я прижался плотнее к столбику, где опустит. Услыхал милую одышку…
– Какое-то безумие… что меня заставляет?… странный мальчик. Да куда же?… Ничего не вижу… – шептала она нежно над самым моим ухом.
Я прижимался к столбику, и у самого моего сердца зашуршала ее записка!
– Простите, Серафима!… – вырвалось у меня отчаянно, – я не мог дождаться… я посмел беспокоить… но я, прямо…
– Ах, как вы меня испугали! Вы здесь?! Ах, отчаянный!… – шепнула она с улыбкой: я чувствовал по тону. – Вы… сумасшедший?! и хотите свести с ума! Со мной еще никогда… таких романов!…
– Я… я сам не знаю… – бессвязно зашептал я, – я безумно вас… обожаю, люблю… я как в ослеплении… от вас…
– Тише же, ради Бога… вы очень громко… – перебила она мой лепет. – Скандал, если нас застанут! Тоничка? да?… Вот что… – она говорила, задыхаясь… – что мне с вами делать? я положительно теряюсь, вы так настойчивы. Это последний раз… Я вам написала, все… Сейчас же идите спать! Я вас целую… горячо целую! Вы слышите? ну, если хотите… поцелуем жен-щины! Довольны? Вот… Вы слышите… Тоничка?…
– О, дорогая… – шептал я в бреду, не помня.
– Милый… – она задышала часто, – вот, самый… жгучий…
И она поцеловала забор, три раза! Совсем близко, против моего глаза. Я слышал ее дыханье, ее вздохи… как пахло восточными духами!
– Ах, целую… Серафима… богиня… – в ослеплении бредил я.
Странное чувство легкости, потери всего себя, какого-то сладостного беспамятства и неги, какого-то чудного растекания, – вот что было! Я обнимал забор, шарил по нем ладонями, целовал доски, щели, гнилушки, ямки. В рот мне лезли труха и плесень. Но я целовал и плесень, и гнилушки…
– Однако… вы хорошо целуетесь! – шептала она, смеясь. – Но я вас не вижу, Тоничка… Да где же щели? Погодите… – шептало мне сладко за досками, – на гвоздь не попадите… – смеялась она нежно, задыхаясь, – кажется, я попала… и оцарапалась…
– Ваши глаза… ваши губы, Серафима… ваше дыханье… Целую ваше душистое дыханье… все ваше… Серафима… Где вы? Вот здесь… здесь… сюда… Я бредил – и слышал, помнил! Она смеялась странно, словно ей было больно:
– Какой счастливый забор. Мы его всего исцеловали… кажется, оба сумасшедшие… вы, однако… страстный!… не ожидала… от мальчика… никогда со мной… ха-ха-ха… подобного… – она истерически смеялась, словно ее душило, – и последний, самый последний… Вот, кажется…
Кажется, мы нашли друг друга. Я почувствовал теплоту, дыханье…
– Кажется, мы и в самом деле… поцеловались?! – вскрикнула она острым шепотом, как с ожога. – Ох, ради Бога… дайте… дай скорей твои губы… сюда!
И мои губы нашли ее! И я утонул в истоме. Я утонул в этом душном поцелуе, глубоком, крепком. Я слышал ее зубы, которыми она давила, прижимаясь к моим зубам, влажные ее губы, которыми она вбирала…
– Уходите… глупый… сумасшедший… – шептала она с удушьем, – чудесный мальчик… что вы со мной… не понимаю… Спите и забудьте… Боже мой, что я делаю… как это страшно… глупо!…
И она побежала от забора. Затрещало что-то, может быть, зацепилась шалью? – зашелестели юбки.
Я сидел на земле, как пьяный. На рябине что-то серебрилось, луна всходила? По садику потянулись струйки. Черные ветки яблонь путались в них рогами. На сарае блистала крыша. Луна всходила! Петухи яростно взывали, разливались. Пахло сырой землею, раздавленной ногами, весенней травкой, помятыми кустами. Цветами пахло! Цветы еще не народились, и это было ее дыханье, оставшееся в щелях забора, на гнилушках, на воздухе, на моем дыхании, на моем языке, губах, на подбородке, – на всем пространстве… – в моем воображении. «Восточные ароматы „Конго“ греховной женщины…» – сверкало в мыслях. Да что же еще нужно?… Ах, записка!…
Я вытащил бумажку… И – рявкнуло на меня, оттуда:
– Вот эта дак мамзель! – узнал я ужасный голос. – Через забор махает!… Чистое привидение, как проскочила… Черт их знает…
Разговаривал с собой Карих. Он стоял, весь белый, на крылечке. Видел?!
Он подошел поближе, пригляделся.
– Чего ей у забора?… За кошкой, что ли?… Он потер себе голову и обругался:
– Чего оно там, звенит? Кис-кис!… – хрипло покликал он. – Гнать, больше ничего… лахудры!…
Я побежал из сада.
Целовались… любит! чудная, необыкновенная!… Я шатался по комнате, натыкался на стол и стулья, искал спички… Я разорвал бумажку. Дрожали пальцы. Она была залита духами, даже растеклись чернила.
«Что вы пишете, сумасшедший! – восторженно читал я. – Я должна быть вашей?! Да вы с ума сошли! И почему все о моем теле, о платье, о Венере? Черт знает что! Даже и душу мою хотите и „святое тело“? Так физиологически смотреть, в ваши годы! У вас сумбур, и я должна с вами серьезно поговорить. Вам нужен какой-то „аромат женщины“? Хотите даже „корку от моего пира любви“? Что вы вообразили? Какой это „пир любви“? Хорошенький, сумасбродный мальчик! Я знаю, что вы хорошенький, и готова расцеловать вас, ну… пусть даже „как женщина“… Не скрою, вы что-то во мне затронули, будите во мне странные ощущения… вакхические, когда женщины бегут, опьяненные страстью, с огнями, и кого-то даже разрывают в кровь… В каждой женщине есть вакханка. Но вы, мальчик, не можете же вызвать во мне физического влечения! Это было бы ненормально, а для вас и вредно. Что же мне с вами делать? Вам не юбки моей надо, а чего-то другого! Вам „незнакома женщин ласка“. Допустим, что еще незнакома. Ну, довольно, я хочу лечь своим „прекрасным телом“ в постель. Я очень одинока, но… не стоит. Мы поговорим. Какую ошибку я сделала, что начала играть с вами. Во вторник или среду я напишу, где мы встретимся. На два дня еду. Теперь – как бы я хотела не ехать! В Нескучном? Пусть. Я люблю глухие местечки в нем. И мы поговорим. Будете терпеливы? Будете учиться? И… вспоминать меня? чуть-чуть? Роняю три, четыре, пять… самых ароматных лепестков! А вы?… У вас, кажется, детский рот? Но многое в вас совсем не детское. Ваша „Венера“ С***… А вы – мой „амур“? А много в вашем колчане стрелок? Будем охотиться?… Ах, вы… ми-лый! Целую ваши глаза и заочно баюкаю. Спите, мой мальчик. До свиданья. Ваша С***.
P. S. Кстати, непременно Шпильгагена прочтите! И еще некоторые романы удивительной женщины, много любившей, которая писала, как мужчина, – Ж.-Санд! Ваша маленькая (что-то вы мне писали про колени, хотели держать меня на коленях и носить на ручках?) Симочка».
Я вдыхал жгучие, ароматные слова, я целовал их страстно и тер по лицу бумажкой. Все пропитали они во мне.
XXIV
На последнем уроке перед экзаменами Фед-Владимирыч, «Русский», посмотрел на меня быком, но ласковым, и промычал, прищурясь:
– Ты, должно быть, сегодня именинник. А некоторые молодцы и до сего дня пишут – «и-мя-ненник»! Ну-ка, на прощанье… «Василия Шибанова»…?
Я прочитал так лихо, что сидевший у нас директор «Васька» долго потирал красную плешь свою, перегнувшись совсем в колени, назвал «артистом-с Императорских теат-ров-с» и прокартавил милостиво:
– А по-греческому рентяй-с, изворьте ри видеть-с-да-с… У меня двоечки хватает!… – и на следующем уроке поставил мне за Гомера, по живому подстрочнику, тройку с плюсом.
Любовь принесла мне счастье. К экзаменам допустили, и тетя Маша предсказывала «какую-то победу». О «победе» я и без ее предсказания знал отлично. Победить жен-щину!… Это потруднее Гомера с секторами. На перемене я обнял Женьку, которого тоже допустили, – «из уважения к сединам», – и стал восторженно говорить, что решил усиленно заниматься и перейти с наградой.
– Ты прав, Женька, что женщина может погубить и лишить подвигов! Я даже на себе заметил… – говорил я с таким азартом, что выступили слезы. – Не стоит размениваться на мелочи. Уйду с головой в науки!…
Он втянул подбородок в грудь и внушительно сделал – гм!…
– «Голодная кума-лиса… залезла в сад! В нем винограда кисти рделись!…» Это давно известно. Когда к одному пустыннику пришла одна молодая женщина, он, за неимением ничего лучшего, стал горячо молиться! Это ты можешь прочесть в одной очень редкой книге, которую я тебе притащу. Non solum, sed etiam! Период уступительный!
– Не уступительный, а… Но он не дал и возразить:
– «Молчи, кар-рамбо! – яростно зарычал Дон-Хозе, и его усы бешено встали дыбом!» Послал запрос в юнкерское, в Казань! К дьяволу всех шпаков! Скоро война, и предстоят тучи подвигов!
Молодой юнкер, молодой юнкер
Полковни-и-чка про-о-сит!…
Хоть и бодрился он, но его что-то удручало.
– Получил от нее? – спросил я его небрежно.
– Dum non… – сказал он, яростно жмя резину. – А ваша милость?
– Nihil dum, – хмуро ответил я. – Знаешь, бросаю все пустяки. Не стоит.
Мне хотелось запрыгать, бешено обнять Женьку и все поведать. Когда выходили из гимназии, я был до того в восторге, что раскланялся с кучкой гимназисток. Они захохотали.
– Да ты… что?! – поразился Женька.
– Очень хорошенькая… заметил, блондиночка с косами? Моя симпатия. Встречаемся иногда в Нескучном!
– Врешь. Это ты с твоей Пашкой развратился. По себе знаю. Всякое соприкосновение с ними вызывает… эмоцию! Не советую, брат, растрачиваться на пустяки. Пойдем-ка переулками… хочу показать тебе одну штуку!
Когда мы свернули в переулок, он остановился у фонаря, посмотрел на меня без мысли, словно прислушивался внутри себя, и поморщился, как от боли.
– Живот болит?… – спросил я его, жалея.
У него часто болел живот – от питательных корешков, должно быть.
– Дурак Г – сказал он шипящим голосом.
– Да что ты сердишься! – крикнул я. – Что у тебя такое? Может быть, мать больна?… Женя… ну, ради Бога!… – сказал я нежно, желая, чтобы он был счастлив. – Мы же друзья навеки.
Тронутый моей дружбой, он вдруг остановился и сказал саркастически:
– А она ведь все-таки ответила, сквернавка!…
– Кто – «сквернавка»? Я совершенно тебя не понимаю… – сказал я сухо.
– Она!… Ну, дама из Амстердама! Твоя любезнейшая…
– Почему… моя?! – возмутился для виду я, но сердце мое возликовало. – И что же она ответила?…
– Поганка, больше ничего! – и он вынул клочок бумажки. Бумажка была совсем простая, – чуть ли не из заборной книжки.
– Духами пахнет?… – вырвалось у меня невольно.
– На, понюхай! Поганка знает! Нет, этого не прощают… нет!…
От бумажки ничем не пахло. Написано было твердым и круглым почерком, совсем не ее рукой. Я прочел, делая озабоченное лицо:
«Из Пушкина»
Вы съединить могли с нахальством вашим подлость:
Из Пушкина стихи посмели вы содрать!
Кто любит Пушкина, тот презирает пошлость,
Но кто – «дерет», того бы надо драть!
Доброжелательница.
Меня распирало от восторга! Я понял сразу, что это студент, с дубинкой. Жестоко, но… поделом. Конечно, не она писала. Ни одной ошибки! А у нее, – это меня смущало, – иногда встречались. Например, в последнем ее письме попалось семь ошибок! «Вы пишите» – вместо «пишете», «приклоняетесь», «арамат», «с ума-шедший», «будете во мне», «местечьки»! – ужас! – «в вашем калчане»… – не говоря о знаках препинания! А тут и знаки препинания на месте, и кавычки… Конечно, студент с дубинкой.
– Хороши духи?… Нет, я с ней поговорю!
– Стихи никуда не годятся! – старался я его утешить. – «Подлость» и… «пошлость»! Разве это рифмы?… Я бы написал, ну… «дерзость» и… «мерзость»!
– Да уж ты бы… написал мерзость! – даже и тут сострил Женька. – Стихи дурацкие, но… зачем издеваться над… чувством?! над сердцем, которое всегда… таилось?!. Нет, так оставить… кануть в Лету?… Не-эт, под жабры!…
Я вспомнил о его «чувстве», но промолчал из такта.
– По-моему, Женюк… – хотел я его утешить, – простая шутка! Даю голову на отсечение, она… не хотела тебя обидеть! Она же… развитая, кончила такие курсы…
– А… «надо драть»?! Так… меня никто еще не оскорблял! Такую обиду только кровью смывают, крро-вью!!. – заорал он на переулок. – Если бы мужчина, я бы ему всю рожу растворожил!… Так не шутят с человеком, который со всей искренностью!…
– Но тут же игра слов! Видит, что ты «содрал» у Пушкина, ну и… сострила! «А кто „дерет“, того бы надо драть!» Даже в кавычки поставлено, игра слов!
– Игра… ослов! Просто пустая дрянь!
– За что ты оскорбляешь ее?! Если игра слов?… Например, Аспазия у Иловайского… «отличалась удивительным остроумием, для услады пиров»! Это-то и прелесть, когда красивая женщина еще и остроумна! Клеопатра и не так еще издевалась…
– Ты осел! Клеопатра-Клеопатра… на то она и Клеопатра! А она… какая она, к черту, Клеопатра! Акушерка! И еще, поганка, оскорбляет! Нет, я этого… Пошлая баба!…
– Не смеешь ты оскорблять… совершенно невинную девушку… или женщину! – возмутился я. – А если это вовсе и не она?!.
– Как не она?! – совал он кулаками.
– Да… почерк… по-моему, мужской! Женщины, я прекрасно знаю, пишут нежными елочками… или как мелким бисером! Я переписывался с одной дамой и уверяю тебя, что… Ты вглядись!…
– И я переписывался… сто раз! – поглядел Женька на бумажку. – Да, как будто… Почерк уж очень хлесткий! Но тогда… тогда…? Значит, она посмела кому-то показать?… Издеваться над чувствами, самыми интимными!… Смеяться вместе с любовником?! Подлячка!…
Меня полоснуло, как ножом. С любовником?!. Этот студент – любовник! Я вспомнил о своих письмах… – и у меня захолодело в сердце. Неужели они читают вместе?! И все – только ее игра?!. Мне стало тошно. Но… мы же целовались! Сама подбежала у часовни… И такое предположение показалось мне просто кощунственным.
– А представь себе, Женька… – пробовал я оправдать ее. – Ты бросаешь письмо под дверь. Приходят гости, какой-нибудь студент. Он входит в парадное, видит у ног письмо… Ба! письмо! Оно ведь было не запечатано…?
– Да, черт… без конверта. Кончики всунуты, и написано – С. К. П.
– Тем более! С. К. П.?! Ясно, что тут секрет! Он, может быть, давно и безнадежно ухаживает за пей, влюблен безумно, и им овладевает жгучая ревность? Разве это невозможно?!
– Возможно. Ну-ну, жарь…
– Дальше… – нарисовалась мне картина, и я увлекся. – Он нервным движением вскрывает письмецо! О, ужас! Розовая бумажка, с голубком, с веночком?!.
– А, черрт… – прохрипел Женька.
– «Ого! – думает он взволнованно, – голубки воркуют!» И тут же, на лестнице, при свете, падающем из окошечка над дверью, он узнает, к своему ужасу и отчаянию, что ты, ученик седьмого класса, умоляешь о свидании!…
– Да, черт возьми… глупость какую сделал… без конверта! Ну?…
– У него в сердце целый ад! Ты требуешь свиданья! Не просишь, а именно – требуешь!…Я ошибся: ты не умолял, а требовал!
– Нисколько не умолял, а… «ответьте мне, красавица, что да!»
– Вот! Ты уже называешь ее… «красавица»! Словно она Уже дала право называть ее так фривольно. Ты уже требуешь ответа – да! Жизнь или смерть! И что же он, безнадежно влюбленный, должен был ощутить в своей израненной Душе?! Какие муки ада?! Отвергнутый любовник… то есть не любовник, а влюбленный! Он потрясен, обескуражен. Все эмоции возбуждены до крайности! Он уже не владеет своим мозговым аппаратом… Ведь он, может быть, сам шел к ней за ответом, после трудных экзаменов, нес ей свои ужасные стихи, вроде, например, – «Она была девицей скромной, не ела булочки скоромной!» Я недавно как раз такие слышал при очень некультурной обстановке! И она, представь, ему еще отказала!… И он, конечно, не захотел передать ей твоего письма… он просто скрыл его, украл, как вор, в порыве ревности! На что не подвигнется человек в порыве ревности! Ромео душит… то есть не Ромео, а Отелло душит там Джульетту, сам плача! И вот, взял да и хватил тебе со злости! Я почти уверен, что так и вышло. В то время у ней были гости, и как раз был мрачный студент, играл во дворе грустный романс, а она демонически хохотала… над ним! Разве невозможно?…
– Возможно… – уныло ответил Женька. – Но я ведь ей еще два письма катнул, и она не ответила! Впрочем, он мог и перехватывать?…
«Не ответила! А мне ответила страстно-страстно, и сама прибегала целоваться! Боже, какое счастье! Только не покарай меня! – взывало в моей душе. – Я так несчастен и одинок!»
– Мог и перехватить. Но возможно, что… и с ее согласия… – поспешил я разочаровать его, чтобы он не писал ей больше.
– Эти акушерки… все наглые и легко продают себя! Акушерки, фельдшерицы… это такая…!
– Почему – все?… Есть и из них женщины с чутким сердцем! Они могут иногда потерять голову, забыться до… Мне, например, недавно рассказывали случай, как одна поразительной чистоты женщина… – она тоже акушерка, и ее хорошо знает наша тетка, в Сущеве она живет… – и поразительной красоты!…
– Ври, ври… – сердито сказал Женька.
– Не вру, а было! Мне тетка клялась, что это у них на дворе произошло! И она, кристальной чистоты и красоты, сгорая от любви к одному… очень симпатичному молодому человеку, в порыве экстаза… а до того случая она вполне индифферентно относилась даже к докторам, которые ее окружали… – она даже целовала доски и все предметы, к которым прикасался вышеупомянутый мною молодой человек! Тетка так ахала!… – с увлечением говорил я.
– Чепуха! – захохотал дико Женька. – Это ты про «Бедную Лизу» волынку тянешь… «О, сколь ужасно было страдание бедной нашей героини…»! А я знаю целых трех акушерок!… Ты не защищай. Не гетеры даже, а как…
– А я знаю факт! Она целовала даже гнилые доски забора, за которым притаивался вышеупомянутый молодой человек! Какая же это должна быть самозабвенность, высший альтруизм, самопожертвование для ближнего… какое всеохватывающее чувство страсти, когда головка ее и сердце закружились в огне желаний самых платонических… и забыт весь мир, и позор, и стыд… когда кругом низменные людишки готовы вывести ее на позор, назвать, как ты сейчас… наглой и даже хуже, чем гетера… и она все, все неглижирует, ей море по колено, и только одно чувство, только один предмет… не предмет, а… а преклонение и восторг перед кристально чистыми чувствами молодого человека, может быть, даже юноши!… Тетка говорила, что ему что-то около… семнадцати лет, а ей… уже двадцать четыре года…
– Скажи еще – сапоги лизала твоему молодому юноше! – злобно хихикнул Женька. – Это ты у Марлинского вытащил. Нет, поговорю! Македонов говорит… это она чтобы раздразнить! Приставай и не отставай, как банный лист, не давай проходу! Раз она хитрая кокетка – напролом! Потребую объяснений… – жадно повел он пальцами, словно разминал резину. – Македонов прямо советует: откажет в свидании – грози, что повесишься или с колокольни бросишься и оставишь записку, что ввиду недостойной игры со стороны такой-то, имя-отчество, проживающей по такой-то улице, покончил самоубийством! Тогда ее могут замотать! Придет на свидание! А раз придет… можно договориться! У него раз так было, и кончилось победой!
Меня это очень обеспокоило.
– А если она уже любит другого?…
– Чепуха! Они могут свободно, брака не признают. Я говорил с ней на эту тему, про Шпильгагена. Сразу видно! Жорзанда какого-то советует, он тоже про свободную любовь.
– И Жорж Занда советовала, она?! – изумился я совпадению. – Но это не «он», а любившая многих, которая писала, как мужчина…
– Знаю и без тебя! А чем я хуже какого-то студента! Я физически как двадцатилетний! – проговорил он басом. – Гм!… Э-э-э… Октава!
Меня очень это обеспокоило. Вспомнилось, как ругался Карих: «Вот это дак мамзель!»
– Завтра катну такое!… Попомню, как «надо драть»!
– Не стоит, Женя. Встретишь еще много юных девушек, которые…
– Это уж мое дело.







