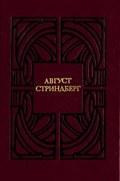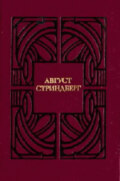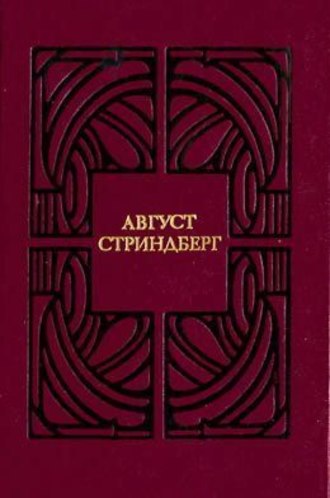
Август Юхан Стриндберг
Слово безумца в свою защиту
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
На следующий же день после отъезда в Копенгаген весь город уже говорил о похищении баронессы секретарем Королевской библиотеки. Именно этого и следовало ожидать, опасаться, избежать любой ценой, чтобы не погубить ее репутации, но все сорвалось из-за ее минутной слабости. Она все испортила, а мне теперь предстояло расплачиваться за ею содеянное и по возможности устранить последствия этой эскапады особенно пагубные для ее театральной карьеры, поскольку для нее речь могла идти только об одной сцене, а дурные нравы, отмеченные в досье, не очень-то способствуют ангажементу в королевский театр.
Чтобы иметь алиби, я, едва вернувшись в Стокгольм, под первым попавшимся предлогом отправился ни свет ни заря с визитом к директору библиотеки, который был нездоров и не выходил в тот день из дому. Потом я прогулялся по центральным улицам и вовремя явился на работу. Вечером я побывал в клубе журналистов и пустил слух о разводе баронессы из-за ее намерений стать актрисой, уверяя всех, что история эта вполне невинная, что супруги в прекрасных отношениях и расстаются только из-за социальных предрассудков.
Если бы я знал тогда, какие неприятности я себе уготовил, пуская слух о невиновности баронессы, я бы, конечно… поступил точно так же.
Газеты тут же публикуют сообщение об этом в отделе происшествий, но публика как-то не поверила в такую безоглядную любовь к искусству, которое, уж во всяком случае в кругу актрис, не очень-то высоко ставится. К тому же брошенный ребенок, как темное пятно, портил всю картину, и женщины не клюнули на приманку.
Тем временем я получаю письмо из Копенгагена. Это крик отчаяния! Она терзается угрызениями совести, тоскует по ребенку и требует, чтобы я немедленно к ней приехал, потому что ее родственники ее мучают и, вступив, как она подозревает, в сговор с бароном, препятствуют отправке акта, необходимого для развода.
Я твердо отказываюсь ехать в Копенгаген, зато пишу, разгневавшись, угрожающую записку барону, который отвечает мне высокомерным тоном, что приводит к нашему окончательному разрыву.
Я отправляю телеграммы, одну, другую, и порядок восстанавливается. Завизированный акт находят, и бракоразводный процесс идет своим чередом.
Я провожу все вечера, составляя для нее подробнейшие инструкции, как ей надо себя вести, чтобы избежать неприятностей, советую заниматься, изучать актерское искусство, ходить побольше в театры и, чтобы заработать немного денег, писать рецензии на спектакли, которые я берусь публиковать у нас в уважаемой газете.
Ответа нет, из чего я делаю заключение, что мои советы плохо приняты этим независимым умом.
Проходит целая неделя, полная тревоги, забот, работы, прежде чем я получаю письмо из Копенгагена, которое мне приносят утром, когда я еще лежу в постели.
Она спокойна, весела и не скрывает, что гордится той мужской стычкой, которая произошла между бароном и мною, и так как каждый из нас послал ей копию написанных писем, она может о них судить. Она восхищается стилем барона и моим мужеством. «Как жаль, – добавляет она, – что вы двое, оба такого закала, не хотите остаться добрыми друзьями». Потом она рассказывает о своих развлечениях. Она старается не скучать, ходит в артистические клубы, что мне совсем не нравится. Была она и в варьете в обществе молодых мужчин, которые за ней ухаживают, и покорила одного молодого музыканта, порвавшего со своей семьей из-за своего артистического призвания. Поразительное соответствие с ее судьбой! За этим следовала подробная биография юного мученика и просьба (адресованная мне) не ревновать!
«Что все это значит?» – думаю я, убитый тоном этого письма, одновременно и сердечного и издевательского, как будто написанного во время выпивки.
Не принадлежит ли эта холодная и сладострастная мадонна к числу распутниц по крови? Кокетка, кокотка!
Я устраиваю ей настоящий нагоняй, не жалея красок, называю ее госпожой Бовари, умоляю пробудиться от этого гибельного сна, ибо она на краю бездны.
В ответ, как признак высшего доверия, она посылает мне письма, которые получила от юного энтузиаста. Любовные письма! Все та же старая игра словом «дружба», «необъяснимая близость Душ», весь репертуар используемых в таких случаях формулировок, к которому прибегали и мы сами в свое время. «Брат и сестра», «мамочка», «товарищи» и все остальное, чем прикрываются влюбленные до того дня, как начинают играть в животное о двух спинах.
Просто невозможно в это поверить! Сумасшедшая, бессознательная негодяйка, которая ничему не научилась за те два ужасных месяца нечеловеческой пытки, когда сердца троих людей жарились на медленном огне! А я, превращенный в козла отпущения, в подставное лицо, я из кожи вон лезу, чтобы проложить ей дорогу к неправедной жизни комедианток.
Новое страдание! Та, которую я обожал, окажется смешанной с грязью!
И тут меня охватила невыразимая жалость, я предчувствовал, какое будущее ожидает эту порочную женщину, и я дал себе клятву, что вытащу ее из омута, поддержу, спасу от падения, не пожалев на это своих последних сил.
Ревнивец! Какое гнусное слово, придуманное женщиной, чтобы сбить с толку обманутого мужчину или того, кого она собирается обмануть. Она ему неверна, а как только муж проявляет малейшее недовольство, она ослепляет его этим словом: ревнивец. Ревнивый муж, обманутый муж. Подумать только, что есть женщины, которые пытаются отождествить ревность с бессилием, чтобы обвести мужа вокруг пальца, чтобы муж закрыл глаза, и в самом деле бессильный бороться с такого рода упреками.
Недели через две она возвращается. Красивая, свежая, сияющая, полная радостных воспоминаний, поскольку она там веселилась! В ее обновленном гардеробе я вижу чрезмерно модные вещи экстравагантных цветов, на грани дурного вкуса. Из просто, но элегантно, изысканно одетой дамы она превратилась в даму, привлекающую всеобщее внимание.
Встреча наша получилась более холодной, чем мы ожидали. И после тягостного молчания разразилась сцена.
Поклонение ее нового друга придало ей силы, она разыгрывает из себя гордячку, задирает меня, дразнит. Потом, разложив на моем просиженном диване подол своего роскошного платья, она прибегает к своему излюбленному приему, и наша ненависть разряжается в бурных объятиях, однако не до конца, и тут же начинаются взаимные оскорбительные обвинения. Раздосадованная моим неумеренным темпераментом, не соответствующим ее ленивой натуре, она начинает плакать.
– Как ты можешь думать, – восклицает она, – что я играю этим юношей! Я ведь обещаю тебе никогда ему не писать, хотя и даю этим повод упрекнуть меня в невежливости.
Невежливость! Одно из ее главных слов! Мужчина ухаживает за ней, или, говоря иначе, делает ей авансы, и она их принимает из страхи прослыть невежливой. Вот плутовка!
О, горе мне! Она купила себе новые башмачки, совсем крошечные, и я снова в ее власти. Проклятье! Она надела черные чулки, и от этого икры ее кажутся более выпуклыми, а колени, живые белые колени оттенены этим как бы траурным крепом, эти черные ноги в кипении белых воланов нижних юбок могли принадлежать только дьяволице! Они словно две стройные траурные колонны, стоящие у входа в склеп, в котором я жажду похоронить миллионы моих животворных ферментов, квинтэссенцию моей крови.
Чтобы вторгнуться безо всяких помех в эту слиянность неба и ада, я отдаю себя в рабство ее величеству Лжи. Устав от ее вечного ужаса перед последствиями, я начинаю врать. После тщательных поисков в ученых книгах я наконец разгадал тайну обмана естества. Я настойчиво рекомендую ей некоторые меры предосторожности, уверяя, что к тому же обладаю неким органическим дефектом, который делает меня не то чтобы совсем бесплодным, но во всяком случае малоопасным. В конце концов я сам в это начинаю верить, и она больше не ограничивает моей свободы, поскольку все равно расплачиваться за все фатальные последствия нашей близости пришлось бы мне.
Поселилась она в квартире матери и тетки, на втором этаже дома, расположенного на одной из самых оживленных улиц города. Меня там принимали только потому, что в противном случае дочь грозила навещать меня в моей мансарде. Признаться, мне было не очень приятно быть под надзором у этих двух старых дам, которые во время моего визита все время находились где-то рядом.
Теперь мы оба начали понимать, что мы потеряли. Она была баронессой, супругой и хозяйкой дома, а теперь ее понизили до уровня девочки, которая пребывает под попечительством матери, и заперли в четырех стенах. И каждый день мать ей твердит, что сумела обеспечить дочери приличное положение в обществе, в то время как дочь вспоминает о том счастливейшем часе, когда ее молодой супруг освободил ее из материнской тюрьмы. В результате то и дело вспыхивали ссоры, лились слезы и говорились друг другу горькие слова, которые вечером, когда я заявлялся к ней с визитом, рикошетом били в меня. Свидание с заключенной при надзирателях за дверью.
Когда же мы уставали от этих мучительных разговоров с глазу на глаз, мы назначали свидание в городском парке, но и это постепенно становилось все более тягостным, потому что мы то и дело ловили на себе презрительные взгляды прохожих. Весеннее солнце, освещавшее всю безвыходность нашего положения, становилось нам отвратительным. Мы жаждали мрака, мечтали о зиме, чтобы скрыть свой позор, но, увы, надвигалось лето с его белыми ночами!
Постепенно все наши знакомые начали нас избегать. Даже моя сестра, испугавшись нарастающей волны сплетен, в конце концов порвала с нами. Во время нашего последнего ужина в ее Доме, когда кроме нас было еще несколько гостей, бывшая баронесса, чтобы почувствовать себя уверенней, стала пить и, конечно, опьянела, произнесла какую-то нелепую речь, потом закурила и всем своим поведением вызвала отвращение у замужних женщин и презрение у мужчин.
– Из таких вот и получаются шлюхи, – конфиденциально шепнул один почтенный отец семейства моему зятю, который поспешил мне это передать.
Когда нас пригласила сестра в следующий раз, а это, как сейчас помню, был воскресный вечер, мы пришли точно в назначенное время, но служанка сообщила нам, что господ нет дома, что они сами ушли в гости. Это было настоящей пощечиной, и вы легко можете себе представить наши чувства… Большего унижения нельзя было и вообразить. Мы провели этот воскресный вечер запершись в моей мансарде, плакали от отчаяния и собирались покончить жизнь самоубийством. Я задернул занавески, чтобы не видеть дневного света, мы дожидались, пока стемнеет, не хотели до этого выходить на улицу, а в это время года солнце поздно садится. Часов в восемь вечера нас начал мучить голод. Дома не было никакой еды, и выпить было нечего, и ни гроша в кармане ни у меня, ни у нее. Возникло какое-то предчувствие грядущей нищеты, и эти несколько часов были едва ли не худшими в моей жизни. Взаимные упреки, вялые поцелуи, бесконечные слезы, угрызения совести, чувство опустошения.
Я умолял ее пойти домой ужинать, но она теперь боялась солнечного света да и не решалась вернуться раньше времени, поскольку мать знала, что ее пригласили на ужин. Она ничего не ела с двух часов дня, и от печальной перспективы лечь спать натощак лютый голод терзал ее все больше. Воспитанная в богатом доме, привыкшая с детства к роскоши, она даже не представляла себе, что такое бедность, и поэтому все больше теряла самообладание. Я же с детства привык к голоду, но ужасно страдал от того, что обожаемая мною женщина оказалась в таком бедственном положении. Я обшарил шкаф, но ничего не нашел, потом стал рыться в ящиках секретера и нашел там, среди различных памятных мне вещиц, увядших цветов, любовных записочек, выцветших лент, две конфетки, которые я хранил в память о похоронах, уж не помню, чьих именно. Я подал ей эти леденцы, завернутые в черную с серебряной каймой бумажку – цвета катафалка. Какое зловещее угощение предложил я своей возлюбленной!
Подавленный, просто уничтоженный, я не помнил себя от отчаяния, но вместе с тем я был в бешенстве и метал громы и молнии против так называемых честных женщин, которые захлопнули перед нами дверь, изгнали нас из своей среды.
– Почему они окружают нас презрением и ненавистью? Разве мы совершили преступление? Разве мы повинны в прелюбодеянии? Нет! Речь идет всего лишь о разводе, честном, дозволенном, в полном соответствии со всеми существующими законами!
– Мы были чересчур честны, – утешала она себя, – а общество состоит из одних прохвостов. Прелюбодеяние, которое свершается нагло, на глазах у всех, люди готовы терпеть, но развод – нет! Хороша мораль!
Тут мы сошлись в мнениях. И все же от преступления нам некуда было деться, оно витало над нашими головами, склонившимися в ожидании удара дубинкой.
Я чувствовал себя как мальчишка, разоривший птичье гнездо-Мать унесли, и птенец валялся на земле, жалкий комочек, которого лишили материнского тепла. А отец! Как одиноко должно быть отцу в этом разоренном гнезде в такой вот воскресный вечер, когда семья обычно собиралась вокруг очага. Один в гостиной, где молчит рояль, один в столовой, где он ужинает в полном одиночестве, один в спальне…
– Нет! – прервала она меня. – Есть все основания полагать, что он сейчас, примостившись на диване у камергера, дяди кузины, пожимает руки своей Матильде, этой бедной оклеветанной девочке, и смакует самые невероятные рассказы о дурном поведении своей недостойной жены, которая почему-то не могла привыкнуть к гаремной жизни. Причем оба они, и оплывший, пресыщенный Густав, и Матильда, пользующаяся симпатией и сочувствием лицемерных людей, первые бросят в нас камень!
Обдумав все как следует, я тут же пришел к выводу, что барон водил нас за нос, что он преднамеренно отделался от старой жены, чтобы взять себе новую, и что приданое досталось ему не по праву. Но тогда она запротестовала:
– Не говори о нем худо! Во всем виновата я!
– А почему не он? Что, его личность священна?
Похоже, что да. И заметьте, стоило мне на него напасть, как она решительно вставала на защиту.
Уж не что-то ли вроде франкмасонства связывает ее с бароном? Либо в их интимной жизни были секреты, тайны, из-за которых она боится сделать этого человека своим врагом? Это так и осталось для меня неясным, как и ее непоколебимая верность своему прошлому с бароном, несмотря на все его дальнейшие предательства.
Солнце в конце концов все же село, и мы расстались. Я спал неспокойным сном голодного человека, и мне снилось, что я хочу улететь на небо, но не могу, потому что на шее у меня висит мельничный жернов.
События нарастали. Обратились к директору театра, чтобы получить разрешение на дебют для госпожи К., и он будто бы ответил, что театр не может иметь дело с женщиной, покинувшей свой семейный очаг.
Все рухнуло! Выходит, что после года, потраченного на подготовку дебюта, эту женщину без всяких средств к существованию попросту выбросят на улицу! И я, бедный как цыган, должен попытаться ее спасти.
Чтобы проверить, справедливо ли это ужасное известие, она отправилась с визитом к своей подруге, знаменитой драматической актрисе, с которой она прежде часто встречалась в свете и которая всячески заискивала перед белокурой баронессой, этим «маленьким эльфом».
Знаменитая актриса, погрязшая в расчетливом пороке при Живом муже, приняла честную грешницу самым оскорбительным образом и указала ей на дверь!
И это пришлось стерпеть!
Оставалось только одно – любой ценой взять реванш. – Что ж, стань писательницей! – говорил я ей. – Пиши пьесы и сделай так, чтобы их играли на этой самой сцене. Зачем опускаться, когда можно подняться! Брось эту комедиантку к своим ногам, одним рывком возвысившись над нею. Разоблачи это лживое, лицемерное, порочное общество, которое, открывая двери своих гостиных для шлюх, закрывает их для разведенной женщины! Вот прекрасная тема для пьесы.
Но Мария, увы, из числа тех бесхребетных, впечатлительных натур, у которых нет сил отражать удары…
– Никакой мести!
Трусливая и мстительная одновременно, она полагала, что месть – это дело бога, а всю ответственность взваливала на подставное лицо.
Но я не отступил, и тут мне пришел на помощь счастливый случай: один издатель предложил мне обработать тексты для детской книжки с картинками.
– Вот приведи в порядок эти тексты, – сказал я ей, – и ты тут же получишь сто франков.
Я принес ей кипу разных книг, чтобы у нее сложилось впечатление, что она в самом деле сделала эту работу, и она получила свои сто франков. Но какой ценой мне это далось! Издатель потребовал, чтобы на книжке с картинками стояло мое имя. И это после того, как я уже дебютировал в качестве драматурга. Литературная проституция! Какие сладостные минуты пережили мои литературные враги, которые поклялись, что я бездарность.
Вслед за этим я заставил ее написать корреспонденцию в утреннюю газету. Она с этим справилась весьма посредственно, однако письмо все же было напечатано, но газета отказалась платить гонорар. Я бегал по городу, чтобы достать луидор, и, не стыдясь святого обмана, вручил ей его «по поручению редакции»!
Бедная Мария, как она радовалась, отдавая эти жалкие заработанные гроши несчастной матери, у которой дела обстояли столь плачевно, что она была вынуждена не только сократить свои расходы, но и сдавать меблированные комнаты.
Старухи начали поглядывать на меня как на спасителя и, вытащив из ящика переводы пьес, уже отвергнутые всеми театрами, стали меня уверять, что я в состоянии изменить решение директоров. Так на меня свалилось столько невыполнимых поручений, что они отнимали все мое время, и мне уже грозила настоящая нищета. Итак, мои денежные дела окончательно запутались из-за потери времени и ежедневной неразумной траты нервов, так что в конце концов мне пришлось отказаться от обеда, и я вернулся к своей старой привычке ложиться спать не поужинав.
Тем временем Мария, ободренная своими материальными успехами, взялась за сочинение пятиактной пьесы. Мне казалось, что я передал ей все семена своих поэтических вдохновений и, пересаженные в эту нетронутую почву, они принялись, проросли, а я стал бесплодным, подобно цветку, который, разбрасывая свои семена, увядает. Я был на пороге смерти, выпотрошен, и мой мозг перестал работать, прилаживаясь к механизму мелкого женского мозга, устроенного совсем иначе, чем у мужчины. Я не могу в точности сказать, что именно заставило меня переоценить литературные способности этой дамы и направить ее по пути сочинительства, ведь кроме писем, иногда искренних, но часто вполне посредственных, я не читал ни строчки, написанной ее рукой. Она становилась чем-то вроде моей живой поэмы, я израсходовал на нее весь свой талант, а сам остался ни с чем. Ее личность срослась с моей, привилась к ней, как черенок к фруктовому дереву, и стала просто чем-то вроде моего нового органа. Отныне я существовал только через нее, я, так сказать, материнский корень этого растения, влачил свое жалкое подземное существование, питая стебель, поднимавшийся к солнцу, чтобы на нем расцвел прекрасный цветок, который будет меня восхищать своим великолепием, и при этом я забывал, что настанет день, когда черенок этот вдруг отделится от истощенного ствола и начнет кичиться позаимствованной у меня статью.
Как только она закончила первый акт пьесы, я прочел его и нашел превосходным, причем вовсе не в силу своего пристрастия. Я тут же выразил свое восхищение автору и горячо поздравил ее с таким успехом. Она сама была удивлена своим талантом, я ей рисовал блестящие перспективы ее писательской карьеры, но тут вдруг произошло некоторое изменение в наших планах. Мать Марии вспомнила про одну свою подругу, художницу, хозяйку великолепной помещичьей усадьбы, очень богатую женщину. Художница эта дружила, что было в данном случае самым важным, с ведущим актером королевского театра и с его женой, причем оба они были отъявленными врагами и соперниками той знаменитой актрисы, к которой ходила Мария.
По настоянию этой незамужней помещицы, взявшей на себя моральную ответственность за свою подопечную, актерская чета согласилась заняться подготовкой Марии к дебюту. А для начала Марию пригласили погостить две недели в этой усадьбе, где она и встретится с ведущим актером и его женой. И тут выяснилось, что они уже разговаривали с директором, который – о счастье – благоприятно отнесся к дебюту Марии, а дурные слухи, ввергшие нас в отчаяние, распространяла, оказывается, сама мать Марии в надежде отвадить дочь от сцены.
Итак, Мария была спасена. А я снова начал дышать, спать, работать. Она отсутствовала две недели и, судя по ее редким письмам, не скучала. Она подверглась там домашнему экзамену, друзья-артисты прослушали ее и сочли, что у нее есть данные для сцены.
Вернувшись из усадьбы, она сняла в деревне, под Стокгольмом, комнату у крестьянки, которая ее и кормила. Таким образом, она освободилась из под надзора старых дам и могла свободно, без свидетелей и ограничений, встречаться со мной по субботам и воскресеньям. Жизнь нам наконец улыбнулась, хотя раны, нанесенные, только что пережитым, еще не затянулись, но на лоне природы Меньше чувствуешь давление социальных условностей, и летом, под лучами солнца, мрак в душе быстрее рассеивается.
Наконец в начале осени было объявлено о дебюте Марии. Поскольку ее имя на афише было окружено именами двух самых знаменитых артистов, то все сплетни разом прекратились. Правда, роль знатной дамы в этой затасканной комедии мне решительно не нравилась. Однако новый наставник Марии твердо рассчитывал на то, что она вызовет симпатии публики, когда откажет в руке маркизу, вознамерившемуся украсить ею свой салон, предпочтя этому титулованному прощелыге бедного юношу, но с золотым сердцем.
Как только я был отстранен от должности, так сказать, театрального педагога, у меня сразу образовалось достаточно времени, чтобы заняться наукой, и я стал писать работу для какой-нибудь академии, дабы оправдать надежды, которые коллеги возлагали на меня как на эрудита библиотекаря и ученого. С необычайным рвением я углубился в этнографические исследования Дальнего Востока, и эти занятия были чем-то вроде опиума, успокаивающего мою бедную голову, истерзанную боями, которые мне пришлось вести все последнее время, злонамеренной клеветой и всяческими страданиями. Движимый честолюбивым желанием стать кем-то, чтобы соответствовать любимой женщине, которой, казалось, теперь уж наверняка уготована блестящая карьера, я проявлял чудеса усидчивости, с раннего утра до позднего вечера не выходил из библиотеки и был готов терпеть всяческие лишения, не обращая внимания ни на холодный сырой воздух подвалов Королевского дворца, ни на постоянное недоедание, ни на нехватку денег.
За несколько дней до того, как должен был состояться дебют Марии, умерла ее дочь от энцефалита. Месяц прошел в слезах, в упреках, в угрызениях совести.
– Вот расплата! – объявила бабушка, радуясь, что может вонзить ядовитый кинжал в сердце дочери, которой была не в силах простить, что та запятнала семейную честь.
Мария, не помня себя от горя, проводила дни и ночи у кроватки умирающей девочки в доме мужа, с которым была уже в разводе, под надзором своей бывшей свекрови. Бедный отец, потерявший свою единственную радость, был убит горем, и ему захотелось увидеть своего бывшего друга, чтобы воскресить в памяти прошлое со свидетелем тех безмятежных дней. И вот однажды вечером, вскоре после похорон девочки, прислуга сказала мне, когда я пришел домой, что ко мне заходил барон и просил прийти к нему.
Так как я решительно не хотел возобновлять отношения, которые были порваны оскорбительным для меня образом, я написал записку, в которой очень вежливо и деликатно, но при этом весьма решительно отказался от приглашения.
Четверть часа спустя явилась Мария в трауре и, обливаясь слезами, заставила меня выполнить просьбу барона, который был в таком отчаянии.
Считая, что брать на себя эту миссию было с ее стороны безвкусно, я продолжал отказываться, ссылаясь на общественное мнение и на то, что такой визит дает повод к кривотолкам. Она в ответ стала меня обвинять в том, что я потакаю предрассудкам, и, взывая к моему великодушному сердцу, умоляла меня уступить барону, так что в конце концов мне пришлось сдаться.
Я в свое время поклялся, что никогда больше не переступлю порога старого дома, где развернулась вся наша драма. Но оказалось, что барон переехал на другую квартиру, расположенную по соседству с моей мансардой и в двух шагах от комнаты, которую снимала Мария, так что мне не пришлось поступиться предубеждением, которое у меня было против старого дома супругов, не пришлось сопровождать бывшую жену туда, где она прожила столько лет со своим бывшим мужем.
Траур, горе, строгая мрачная обстановка дома, где умерла девочка, сняли неловкость и фальшь нашей встречи. Давняя привычка видеть Марию и барона вместе убивала ревность, а деликатное и дружеское поведение барона создали спокойную непринужденную атмосферу. Мы вместе поужинали, выпили вина, а потом сели играть в карты, совсем как в доброе старое время.
На следующий день мы снова собрались, на этот раз у меня, а потом у Марии, которая, как я уже сказал, снимала комнату у одной старой девы. Постепенно возобновились прежние привычки, и Мария была счастлива, что мы так хорошо ладим. Ее это успокаивало, а так как все вели себя деликатно, никто никому не наносил душевных ран. Барон относился к нам как к тайно помолвленным, его любовь к Марии, казалось, уже умерла. Иногда он даже делился с нами своими любовными огорчениями: красавица Матильда была заточена в родительском доме и тем самым стала недостижимой для несчастного любовника. Мария даже забавлялась тем, что то дразнила его, то успокаивала. И он уже не пытался скрывать истинный характер своих чувств к Матильде, хотя прежде это отрицал.
Однако постепенно интимность наших отношений стала пугающей, и я начинал испытывать если не ревность, то во всяком случае какое-то отвращение. Однажды Мария предупредила меня, что не придет ко мне, потому что останется обедать у барона, с которым у нее были срочные дела, связанные с вхождением в наследство, оставшееся после смерти девочки, официальным наследником которой был отец. Я выразил свое недовольство по поводу этого бестактного поступка, ибо счел его почти неприличным. Она стала надо мной смеяться, поддевая меня: чего, мол, тогда стоит весь мой бунт против предрассудков, – и повернула дело так, что в конце концов мне ничего не оставалось, как тоже посмеяться. Конечно, это выглядит нелепо, странно, но зато какой «шик» вот так потешаться над общественным мнением, зная, что добродетель торжествует.
С того дня она стала ходить к барону одна, когда ей вздумается, и, как мне кажется, они забавлялись тем, что вместе разучивали ее роль.
До этого времени все обходилось безо всяких конфликтов, и под влиянием привычки и еще оттого, что ожило старое представление, будто они супруги, ревность моя рассеялась. Но вот однажды вечером Мария пришла ко мне одна. Я помог ей снять пальто, и она, в противовес своей привычке, долго оправляла юбку перед зеркалом, хотя прежде никогда этого не делала. Я хорошо разбираюсь во всех секретах дамской психологии и сразу почуял что-то неладное. Продолжая разговаривать со мной излишне оживленно, она села на диван напротив зеркала и все время исподтишка разглядывала в нем свое отражение, то и дело украдкой поправляя прическу.
Жестокое подозрение словно молния озарило мой мозг, и я не мог справиться с охватившим меня волнением.
– Где ты была?
– У Густава.
– Что ты там делала?
Она вздрогнула, но тут же взяла себя в руки и ответила:
– Читала свою роль.
– Врешь!
Она стала возмущаться моей нелепой ревностью, обрушила на меня гневный поток всяческих обвинений, и я сдался. К тому же она стала меня торопить, потому что мы были приглашены в тот вечер к барону, так что мне тогда так и не удалось ничего выяснить.
Однако теперь, вспоминая этот инцидент, я мог бы поклясться, что мои тогдашние подозрения были справедливыми, что она была повинна в двоемужии, и это еще самое невинное слово. Но она так ловко манипулировала словами, что ей тогда удалось меня загипнотизировать, и я дал себя обмануть.
Что же тогда произошло? Примерно следующее.
Она ужинала вдвоем с бароном. Потом выпила кофе с ликером и почувствовала усталость, как часто бывает после сытной еды. Барон предложил ей прилечь на диван, от чего она, к слову сказать, никогда не отказывается, а все последующее пошло как по писаному. То, что они вдруг снова оказались одни, привычное доверие друг к другу, общие воспоминания помогли бывшим супругам сделать последний шаг, тем более что им не надо было преодолевать чувство стыдливости. Барон после нескольких месяцев холостяцкой жизни быстро воспламенился, и тут все и произошло. Да и почему, собственно, ей было отказываться от наслаждения, которое никому не принесет ущерба, если никто, а особенно тот, кто имеет на нее какие-то права, ничего знать об этом не будет? Она вдруг почувствовала себя абсолютно свободной, особенно потому, что не была материально зависима от своего, так сказать, узаконенного любовника, а обмануть кого-либо женщине вообще ничего не стоит. К тому же, быть может, она еще и сожалела о потере мужчины, который за многолетнюю совместную жизнь вполне приноровился к ее потребностям. Вероятно также, что, удовлетворив свое любопытство со мной и сравнивая нас с бароном, она стала скучать по нему, потому что в любовном поединке человек застенчивый и деликатный, как бы он ни был страстен, всегда окажется в проигрыше. И вполне возможно, что она, столько лет делившая с ним супружеское ложе, тысячи раз раздевавшаяся перед этим человеком, которому все, что касается ее ног, тела и прочего, досконально известно, не откажется получить после обеда вдвоем еще и прекрасный десерт. Ведь она и вправду считала себя свободной от всех и всяческих обязательств перед кем бы то ни было, и ее чувствительное женское сердце не могло отказать тому, кто нуждался в ее нежности. И честное слово, на месте барона, если не обманутого, то, во всяком случае, оскорбленного мужа, я бы, черт подери, клянусь в этом всеми древними и новыми богами, не выпустил бы от себя любовницу своего соперника нетронутой, раз уж она оказалась в моей спальне.
И все же я не разрешил себе дать волю таким подозрениям, тем более что обожаемые губы все время произносили разные возвышенные слова типа: Честь, Честность, Нравственность и прочее. И если вы поинтересуетесь почему, то я разъясню вам, что женщина, которую любит человек чести, всегда возьмет над ним верх. Ведь человек этот льстит себя надеждой, что он у нее единственный, ибо мечтает быть единственным, а веришь обычно в то, во что хочешь верить.