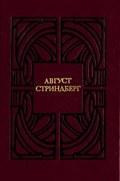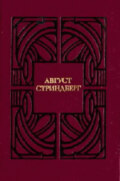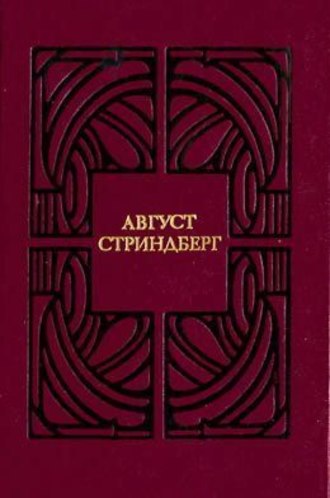
Август Юхан Стриндберг
Слово безумца в свою защиту
Она надула губы, заметив беспорядок на столе, и скорее горько, чем весело, бросила мужу какую-то язвительную фразу, а он тут же огрызнулся на это, пожалуй, незаслуженное замечание. Я поспешил на выручку, заговорив о вчерашних впечатлениях, которые мы с бароном только что ворошили.
– А как вам понравилась моя прелестная кузина? – спросила баронесса.
– Очаровательна! – воскликнул я.
– Не правда ли, это дитя просто находка, – произнес барон столь отеческим и искренним тоном, что ни в чем, кроме жалости к этой жертве воображаемых тиранов-родителей, его нельзя было заподозрить.
Но баронесса, не поддержав шулерской игры со словом «дитя», сказала безжалостно:
– Вы только поглядите, как эта милая Малютка причесала моего мужа!
И в самом деле, от привычного пробора у барона не осталось и следа, волосы были завиты и взъерошены, а усы подкручены, и все это до неузнаваемости меняло его лицо. Но при этом я обратил также внимание, хотя и вида не подал, на то, что в прическе, в одежде и даже в манерах баронесса теперь подражала своей обольстительной кузине. Нечто вроде избирательного сродства в химии, которое также широко применимо к живым существам.
Тем временем обед тянулся медленно и тяжело, как похоронные дроги. К кофе ждали кузину, которая стала теперь непременным членом нашего квартета, поскольку трио явно разладилось.
Когда подали десерт, я провозгласил тост в честь супругов, но говорил традиционно, без вдохновения, и речь моя походила на выдохшееся шампанское.
Барон и баронесса обнялись, возбужденные старыми воспоминаниями, и от этих внешних жестов любви в них вдруг проснулась подлинная нежность друг к другу, и они почувствовали себя снова влюбленными, подобно актерам, которые, искусственно вызывая слезы, приходят в состояние истинной печали. А может, под пеплом еще тлел огонь, готовый тут же вспыхнуть, если его умело и вовремя раздуть. Трудно сказать, что именно это было.
Потом мы спустились в садик и расположились в зеленой беседке, из которой был виден бульвар. Разговор то и дело замирал, всех нас охватило какое-то оцепенение, барон был рассеян и все время посматривал на улицу, выглядывая кузину. Вдруг он вскочил и умчался с быстротой лани, оставив нас вдвоем. Уж очень ему хотелось поскорее встретить свою гостью!
Оставшись наедине с баронессой, я почувствовал себя неловко, и вовсе не оттого, что был застенчив. Но когда мы оставались одни, она просто пожирала меня глазами, непомерно восхищаясь то одной, то другой деталью моего туалета, что не могло не вводить меня в смущение. И вот тогда, после долгого молчания, такого долгого, что уже становилось как-то не по себе, она вдруг рассмеялась и, указав в сторону убежавшего барона, сказала:
– До чего же влюблен мой дорогой Густав!
– Похоже, – ответил я. – Но вас как будто не мучает ревность.
– Нимало! – заверила она. – К тому же я сама влюблена в эту прелестную кошечку. А как вы относитесь к моей очаровательной кузине?
– Хорошо, баронесса. Но, чтобы быть до конца откровенным, скажу, не желая вас обидеть, что она не пользуется моей настоящей симпатией.
Я сказал чистейшую правду. С первого взгляда эта молодая особа, по происхождению простолюдинка, как и я, невзлюбила меня, как ненужного свидетеля, а точнее, как опасного соперника, охотившегося на той же территории, что и она, чтобы получить доступ в высший свет. Окинув меня проницательным взглядом – у нее были маленькие жемчужно-серые глазки, – она сразу же определила, что это ненужное ей знакомство, что пользы от меня как от козла молока, а ее инстинкт буржуазки подсказал ей, что в этот дом меня привела погоня за удачей. В известном смысле она была даже права, ведь я и не скрывал, что пришел в этот дом в надежде найти посредников, чтобы пристроить мою трагедию, но у моих друзей не оказалось решительно никаких театральных связей, все это был чистый вымысел финской барышни, и о моей пьесе мы ни разу не говорили, если не считать тех банальных комплиментов, которые я выслушал после чтения.
Барон, легко поддававшийся влиянию, решительно изменил ко мне отношение, и это лишь доказывало, что постепенно он тоже начинал смотреть на меня глазами обольстительной кузины. Впрочем, влюбленные не заставили себя долго ждать, они вскоре появились у калитки, оживленно болтая и смеясь.
Юная кузина была в тот вечер в игривом настроении. Она озорничала, как мальчишка-сорванец, то и дело употребляла фривольные слова, но при этом оставалась в рамках хорошего вкуса, ловко, с самым невинным видом говорила двусмысленности, прикидываясь, будто и понятия не имеет о вторых значениях некоторых фраз. Она курила и пила вино, но при этом всегда вела себя как женщина, причем очень молодая женщина. Никаких мужских повадок, никакого намека на эмансипированность, никаких высоких воротничков. По правде говоря, она была забавной, и в ее обществе время пролетало незаметно. Но больше всего меня поразило, и это наблюдение оказалось пророческим, то дикое веселье, которое охватывало баронессу всякий раз, когда с уст кузины срывалась очередная рискованная фраза. Ее охватывали приступы какого-то развязного смеха, а на лице появлялось выражение бесстыдного сладострастия, свидетельствующее о ее посвященности в тайны разврата.
Тем временем к нам присоединился дядя барона. Старый вдовец, капитан в отставке, он был необычайно обходителен с дамами и отличался изысканными манерами, но при этом не был чужд и предприимчивой галантности в духе старого времени. Используя кровное родство как надежный щит, он был в этом доме настоящим женским угодником, давно завоевал расположение его обитательниц и пользовался правом обнимать их, поглаживать по щечкам и целовать руки. И на этот раз не успел он появиться, как обе дамы кинулись ему на шею с радостными криками.
– Ах, мои крошки, поосторожней! Две на одного, не много ли это для такого старика, как я? Поостерегитесь, а то я буду стрелять! Руки вверх, либо я за себя не отвечаю.
Баронесса протянула ему свою сигарету, которую она уже примяла губами.
– Огоньку, дядюшка! – выкрикнула она со страстью в голосе.
– Увы, мой огонь иссяк, – ответил он лукаво. – Уже пять лет, как огня нет!
Баронесса с шутливой укоризной хлопнула его по щеке, но он поймал ее руку, стиснул ее пальчики между своими ладонями, а потом принялся гладить руку по всей длине, от кисти до самого плеча.
– Да ты, голубушку, вовсе не такая худышка, как кажется, – сказал он, проводя пальцами по изгибам ее мягко очерченной руки, которую она не отнимала.
Комплимент пришелся баронессе, судя по всему, по вкусу, во всяком случае, она опять рассмеялась громким чувственным смехом и, подняв рукав платья, обнажила изящную, благородных линий руку, поражающую молочной белизной кожи.
Вдруг она вспомнила о моем присутствии и торопливо опустила рукав, однако я успел увидеть, как в ее глазах вспыхнуло безумное пламя, а лицо ее исказилось гримасой любовного экстаза. В этот момент я.как раз зажигал спичку и по неосторожности уронил раскаленный уголек, который упал между манишкой и жилетом. Баронесса кинулась в ужасе ко мне и, зажав пальцами тлеющее пятнышко, крикнула: «Огонь, огонь!», – залившись от волнения краской.
Я был потрясен и прижал ее руки к своей груди, но тут же, устыдившись своего порыва, отстранился, сделав вид, будто спасся от серьезной опасности, и почтительно поблагодарил баронессу, которая еще не успокоилась.
Мы пролюбезничали до ужина. Солнце тем временем зашло, и из-за купола обсерватории показалась луна, освещая яблони в саду, и мы стали отгадывать названия сортов яблок, висящих на ветках и наполовину скрытых густой листвой, блекло-зеленой в электрическом свете луны. А яблоки – и кроваво-красный кальвиль, и серо-зеленая антоновка, и коричневатый ранет – все изменили свою окраску и казались теперь разноцветными пятнами, от ярко-желтых до иссиня-черных. То же самое происходило и с цветами на клумбах. Георгины приобрели совершенно неправдоподобные оттенки, левкои выглядели цветами с другой планеты, а китайские астры блестели и переливались красками, которым у нас нет названия.
– Поглядите, баронесса, насколько все вокруг – плод нашего воображения, цвета существуют не сами по себе, а зависят от природы света. Все иллюзорно, решительно все.
– Все? – переспросила она, остановившись передо мной и подняв на меня пронзительный взгляд своих глаз, ставших от темноты еще больше.
– Все, баронесса, – солгал я, совсем потеряв голову от этого Реального видения из плоти и крови, которое меня в тот миг испугало своей невообразимой красотой.
Ее растрепавшиеся волосы образовали как бы серебряный нимб над ее лицом, озаренным лунным светом, а стройная фигура, Подчеркнутая полосатым, ставшим при этом освещении черно-белым, платьем, была удивительно пропорциональна и гармонична.
Левкои источали возбуждающий аромат, кузнечики призывали нас лечь на траву, увлажненную вечерней росой, листва деревьев трепетала от теплого ветерка, сумерки укрывали нас мягкой пеленой, – одним словом, все призывало к любви, и только добропорядочная трусость удерживала меня от признания.
Вдруг в траву упало яблоко, сорванное с ветки порывом ветра. Баронесса нагнулась, подняла его и многозначительным жестом протянула мне.
– Запрещенный плод, – пробормотал я, – нет, баронесса, благодарю вас.
И, чтобы загладить свою неуклюжесть, я тут же стал придумывать удовлетворительное объяснение, намекая на мелочность хозяина.
– Вы же знаете хозяина. Что он скажет?
– Что вы рыцарь без страха и упрека, – насмешливо ответила она, словно ставя мне в вину мой испуг, и бросила косой взгляд на беседку, где сидели барон и кузина, скрытые от наших глаз.
Подали ужин. Когда мы вышли из-за стола, барон предложил всем прогуляться, чтобы проводить домой «наше дорогое дитя».
Выйдя из ворот, барон взял под руку кузину и повернулся ко мне.
– А вы, сударь, предложите руку моей жене, покажите, что вы кавалер, – сказал он обычным отеческим тоном.
И я снова испугался. Так как вечер был теплый, она не надела пальто, а лишь накинула его на плечи, и от прикосновения ее руки, упругость которой я ощущал сквозь шелк, по моему телу пробежал электрический ток, возбудивший во мне какую-то сверхчувствительность. Так я, например, почувствовал, что рукав ее платья кончается на уровне моей дельтовидной мышцы. Я был так взвинчен, что мог воссоздать всю анатомию этой очаровательной руки. Ее бицепс – мышца-сгибатель, играющая первейшую роль во время объятий, – прижался к моему бицепсу, сквозь материю я ощущал мягкое ритмичное пульсирование ее плоти. Шагая с ней рядом, я легко представил себе форму ее ноги и округлость бедра, которое облегала ее нижняя юбка.
– Вы хорошо ведете даму и, наверное, прекрасно танцуете, – подбодрила она меня, но от стеснения я не мог вымолвить слова.
И после паузы, убедившись, что мои нервы натянуты до предела, она спросила с усмешкой, наслаждаясь своим женским превосходством:
– Вы дрожите?
– Да, баронесса, мне холодно.
– Наденьте пальто, мой мальчик, – сказала она ласково.
Надев пальто вместо смирительной рубашки, я оказался несколько защищенным от тепла ее тела. Но ее маленькие шажки, подладившись к ритму моих шагов, настолько объединили наши нервные системы, что мне показалось, будто я иду четырьмя ногами, как сдвоенное существо.
Во время этой прогулки, имевшей, как потом выяснилось, пророческое значение, мне как бы сделали прививку, которую делают садовники, приживляя ветку к стволу.
С того самого дня я перестал владеть собой. Эта женщина просочилась мне в кровь, наши нервы, придя во взаимодействие, напряглись, ее женские клетки нуждались в активной силе моих мужских клеток, ее душа испытывала потребность в моем интеллекте, который, в свою очередь, стремился до краев заполнить этот нежный сосуд. Но мы об этом еще не подозревали. В этом и было все дело.
Вернувшись домой, я спросил себя, чего же, собственно говоря, хочу. Убежать, забыть или добиться успеха в какой-нибудь далекой стране. И я сразу же стал намечать план предполагаемого путешествия. В Париж, в центр цивилизации, чтобы там заточить себя в библиотеки и музеи – почем я знаю! – и завершить свой труд!
Как только возник этот план, я стал предпринимать шаги для его осуществления, и все произошло так быстро, что через месяц я уже начал делать прощальные визиты. Одно происшествие, случившееся на редкость кстати, облегчило мне трудную задачу найти благопристойный предлог для этого бегства. Сельма – так звали финскую барышню, – о которой я и думать забыл, опубликовала сообщение о своем предстоящем браке с певцом.
Я вынужден бежать, чтобы поскорее забыть изменницу и залечить на чужбине свое раненое сердце. Объяснение показалось убедительным.
Но когда я решил отправиться в Гавр пароходом, мне пришлось поддаться уговорам друзей и отложить отъезд на несколько недель из-за осенних бурь.
Затем меня задержала свадьба сестры, назначенная на начало октября, так что мой отъезд все оттягивался.
Тем временем мои друзья чуть ли не каждый день приглашали меня к себе. Поскольку кузина уехала к своим родителям, мы чаще всего проводили вечера втроем, и барон, вновь попав под влияние жены, стал ко мне опять благоволить. Успокоенный моим скорым отъездом, он по старой привычке вел себя со мной как с другом.
Как-то вечером, когда мы были в гостях у матери баронессы, баронесса, непринужденно примостившись на диване и положив голову на колени матери, решила вдруг публично признаться в своем горячем увлечении одним знаменитым актером. Я и сейчас не могу решить, было ли это правдой или говорилось исключительно для меня, чтобы, поджаривая меня таким образом на медленном огне, посмотреть, как я буду реагировать на ее признание. Но так или иначе, старая дама, поглаживая волосы дочери, сказала мне:
– Если вы, сударь, намерены в будущем написать роман о женщине, то вот вам прообраз пылкой натуры. У нее всегда есть предмет страсти помимо мужа.
– Истинная правда, – подхватила баронесса. – И в данный Момент это божественный М.
– Ну разве она не безумна? – воскликнул барон и улыбнулся мне, однако не сумел побороть начавшийся тик.
Пылкая натура! Это определение засело в моей голове, потому что оно было произнесено пожилой дамой, матерью, и не могло, при всей его ироничности, не содержать зерна истины.
В канун своего отъезда я пригласил барона и баронессу на ужин к себе в мансарду. Принимая их по-холостяцки, я все же украсил свою комнату, чтобы хоть как-то скрыть недостатки меблировки, и мое скромное жилище превратилось в подобие храма. У стены, между двумя окнами, перед одним из которых находился мой письменный стол и жардиньерка с комнатными цветами, а перед другим – небольшая книжная полка, стоял плетеный продранный диванчик, покрытый тигровым одеялом, которое крепилось невидимыми кнопками. Слева помещалась тахта в чехле из полосатого тика, заменявшая мне кровать, а на стене над ней яркая пестрая карта обоих полушарий; справа красовался комод, над которым висело зеркало, – обе эти вещи были в стиле ампир с украшениями из позолоченной бронзы, дальше – шкаф с гипсовым бюстом и умывальник, в этот вечер задрапированный оконными занавесками. Стены были увешаны всевозможными гравюрами в рамах, в совокупности создающими впечатление чего-то заведомо старинного и уникального.
На потолке висела фарфоровая люстра с рельефными цветами, по форме удивительно напоминающая паникадило – я нашел ее у одного старьевщика. Дефекты и сколы на этой люстре я ловко прикрыл листьями искусственного плюща, который стащил на днях у своей сестры. Под люстрой с тремя подсвечниками стоял стол, покрытый белоснежной камчатной скатертью, а в его центре – фаянсовое кашпо с кустом бенгальской розы, усыпанным алыми цветами, которые таились в темно-зеленой листве; все это вместе с ниспадающими на растение усиками плюща создавало впечатление праздника Флоры. Горшок с розами был окружен бокалами красного, зеленого, опалового стекла, купленными по случаю в антикварной лавке, все они были с дефектами, так же как и фарфоровый сервиз, собранный поштучно и состоящий из тарелок, солонки и сахарницы китайской, японской и мариберг-ской работы.
На ужин я выбрал десять или двенадцать блюд холодных закусок скорее из декоративных соображений, нежели по вкусовым качествам, поскольку главным угощением все равно были устрицы. Хозяйка квартиры оказалась настолько любезна, что одолжила мне разные мелкие предметы, без которых было бы трудно организовать в мансарде настоящий праздник. Наконец, когда все было готово, я окинул взглядом мою преображенную мансарду и остался доволен, хотя и не выразил своих чувств даже восклицанием. Возникшая композиция вызывала в душе целую гамму различных ощущений, ибо включала в себя одновременно и труд поэта, и исследование ученого, и вкус художника, и снобизм гурмана, и культ цветов, а за всем этим угадывалось ожидание женщины. Если бы не три прибора на столе, можно было подумать, что интерьер этот создан для первой ночи, для ночи любви, но для меня предстоящий вечер был скорее сценой покаяния, В мою комнату не ступала нога женщины с тех пор, как у меня произошел разрыв с той подлой обманщицей, след от ее удара каблуком еще ясно виден на полированном дереве моей тахты. С того самого дня зеркало над комодом не отражало больше женского бюста. И вот теперь целомудренная, тонко чувствующая женщина, мать, дама света, освятит своим приходом это жилище, стены которого были свидетелями стольких печалей, страданий и бед. Но вместе с тем это должна быть и священная трапеза, так говорил во мне поэт, потому что, по существу, я жертвую своим сердцем, покоем, а может, и жизнью, ради счастья своих друзей.
Все у меня было готово, когда до меня донесся шум шагов на площадке четвертого этажа. Я поспешил зажечь свечи, поправил цветы в вазах и тут же услышал, как гости, наконец добравшись до мансарды, с трудом переводят дыхание перед моей дверью.
Я открыл. Ослепленная светом стольких свечей, баронесса захлопала, как в опере после понравившейся сцены.
– Да вы настоящий режиссер! – воскликнула она.
– Да, баронесса, я люблю театр, а пока…
Взяв у нее пальто, я поздоровался с гостями и предложил им сесть на диванчик. Но она никак не могла усидеть на месте. С любопытством молодой женщины, которая никогда не бывала в комнате холостяка, которая из родительского дома сразу попала в спальню своего мужа, она учинила у меня настоящий обыск. Оказавшись в моей келье, она принялась перебирать мои ручки, раскрыла мою записную книжку, все перетрогала, словно хотела узнать какой-то секрет. Потом она подбежала к полке с книгами и рассеянно скользнула взглядом по корешкам. Но проходя мимо зеркала, она на мгновение задержалась, чтобы поправить прическу и отложить кружева своего корсажа, обнажив при этом выемку груди. Она оглядела по очереди каждый предмет обстановки и понюхала цветы, всем любовалась, сопровождая это какими-то невнятными тихими возгласами. Наконец, обойдя всю комнату, она спросила совсем наивным тоном, казалось, без всякой задней мысли, но продолжая что-то искать глазами:
– А где же вы все-таки спите?
– На тахте, баронесса.
– Ах, как, наверно, хорошо быть холостяком! – И было похоже, что она вспомнила свои девичьи мечты.
– Иногда холостяку бывает очень грустно, – ответил я.
– Разве грустно быть хозяином самому себе, чувствовать себя независимым, знать, что ты ни перед кем не в ответе? О, я обожаю -свободу… А замужество Сельмы – просто предательство! Не правда ли, сердце мое? – обратилась она к барону, который, чтобы соответствовать ей, произнес:
– М-да, весьма досадно!
Мы сели за стол, ужин начался. После первого же стакана вина мы развеселились. Но вдруг вспомнили, в связи с чем собрались здесь, и печаль охватила нас. Потом каждый по очереди стал вслух вспоминать радостные минуты, пережитые вместе, мы вновь пережили, увы, лишь на словах, все забавные приключения во время наших совместных поездок, вспоминали, кто что когда сказал. Глаза у всех заблестели, сердца разогрелись, мы пожимали друг другу руки и чокались. Часы пролетали незаметно, и мы с растущим волнением понимали, что близится час прощания. Тогда по знаку своей жены барон вынул из кармана кольцо с опалом и, протянув его мне, произнес тост:
– Прими этот скромный дар, дорогой друг, в знак благодарности за твое дружеское к нам расположение. Пусть удача сопутствует тебе во всем, я молю об этом судьбу, потому что люблю тебя как брата и уважаю как человека чести! Счастливого пути! Я говорю тебе не прощай, а до свидания.
Человек чести! Значит, он меня разгадал! Он постиг нашу тайну! Однако не до конца. И в отборных выражениях барон обрушил изрядную порцию брани на голову бедной Сельмы, которая, как он уверял, не послушалась зова сердца и продалась человеку, не испытывая к нему никаких чувств. А этот жалкий субъект, ее супруг, всецело обязан своим счастьем человеку чести.
Человек чести – это я! Мне стало стыдно, но, увлеченный искренностью этого открытого, простого сердца, я вообразил себя очень несчастным, безутешным, и ложь пробрала меня, как мороз, до мозга костей и приняла образ правды.
Баронесса, сбитая с толку моими ловкими увертками и той холодностью, которую я всегда проявлял по отношению к ней, казалось, верила всему и с нежностью старой матушки пыталась меня приободрить.
– Хватит страдать по девицам! Их на свете хоть отбавляй, да куда лучших, чем эта особа. Не сомневайтесь, дитя мое, она немногого стоит, раз не хотела вас ждать. К тому же – теперь я могу вам в этом признаться – я там такого про нее наслушалась, что мне было просто неловко посвящать вас в эти сплетни.
И уже с нескрываемым удовольствием баронесса стала развенчивать мое, как она полагала, божество:
– Она, представьте себе, пыталась даже соблазнить одного лейтенанта из высшего общеста… и к тому же она гораздо старше, чем выдает себя… настоящая кокетка, поверьте!
Заметив неодобрительное движение мужа, баронесса сообразила, что совершила оплошность, и, сжимая мне руку, таким нежным взглядом молила у меня прощения, что для меня это было просто пыткой.
Барон, опьянев от выпитого вина, пустился в сентиментальные разглагольствования, изливал душу, признавался мне в братской любви, произносил множество весьма расплывчатых тостов и витал в каких-то высших сферах.
Его одутловатое лицо излучало доброжелательность, он ласкал меня своими печальными глазами, и у меня не оставалось сомнений в надежности его привязанности. Воистину это был большой добрый ребенок, безупречный в своей прямоте, и я поклялся быть ему верным даже ценой собственной гибели. Мы встали из-за стола, чтобы расстаться – быть может, навсегда. Баронесса разрыдалась и обняла мужа, чтобы спрятать мокрое от слез лицо.
– Я совсем с ума сошла! – воскликнула она. – Я так привязалась к этому человечку, что его отъезд приводит меня в отчаяние.
И в порыве любви, чистой и нечистой, бескорыстной или заинтересованной, бешеной, но замаскированной под ангельскую нежность, она поцеловала меня на глазах мужа и, перекрестив, сказала мне прощай.
Старая служанка, стоящая у дверей, вытирала глаза, а мы все трое плакали. Это была торжественная, незабываемая минута. Жертва была свершена.
Я лег около часу ночи, но заснуть не смог. Страх опоздать на пароход не давал мне сомкнуть глаз. Вконец измученный проводами, которые длились уже целую неделю, в крайнем нервном возбуждении из-за ежедневных попоек, выбитый из колеи вынужденным бездельем, раздраженный все новыми отсрочками дня отъезда и, главное, обессиленный от пережитых накануне волнений, я вертелся в постели до рассвета. Зная свое слабоволие и крайнее отвращение к поезду, я решил свершить это путешествие на пароходе, чтобы отрезать себе все пути к отступлению. Пароход отчаливал в шесть утра, экипаж должен был заехать за мной в пять. Один я отправился в путь. Октябрьское утро было ветреным, туманным и очень холодным, деревья белели от изморози. Когда мы доехали до Северного моста, я решил, что у меня начинается галлюцинация: я увидел барона, он шел в том же направлении, в котором ехал мой экипаж. Но это и в самом деле был барон: пренебрегая всеми светскими условностями, он, оказывается, встал в такую рань, чтобы еще раз со мной попрощаться. До глубины души тронутый таким неожиданным проявлением дружбы,– я почувствовал себя недостойным его привязанности, и меня стали мучить жестокие угрызения совести за все мои дурные мысли на его счет. Он не только проводил меня до причала, но и поднялся на борт корабля, посетил мою каюту, представился капитану и попросил его отнестись ко мне с особым вниманием. Короче, он вел себя как старший брат, как преданнейший друг, а когда мы обнялись, у нас у обоих были слезы на глазах.
– Береги себя, старина, – попросил он меня, – мне кажется, ты нездоров.
И в самом деле, мне было как-то не по себе, и все же я держался, пока пароход не отчалил. Но вдруг меня охватил ужас перед этим долгим путешествием, которое я предпринимал безо всякой разумной цели, такой ужас, что мне до безумия захотелось броситься в воду и поплыть к берегу. Однако у меня ни на что не было сил, я в нерешительности топтался на палубе и махал платком в ответ на приветствия моего друга, которого я вскоре потерял из виду, так как на рейде стояло много кораблей.
Пароход, на котором я плыл, был транспортным и вез большой груз. У него имелась всего лишь одна каюта, расположенная под нижней палубой. Я добрался до своей койки, повалился на матрас и с головой зарылся в одеяло, намереваясь проспать первые сутки, чтобы отсечь всякую надежду на побег. И в самом деле, я как провалился, но не прошло и получаса, как я внезапно проснулся, словно меня ударило электрическим током – обычное последствие бессонницы и злоупотребления алкоголем.
И я сразу же осознал свое отчаянное положение. Я вышел на палубу и стал ходить по ней взад-вперед. Мы проплывали мимо бурых голых берегов, листья с деревьев уже пооблетели, луга были серо-желтыми, а в расщелинах скал лежал снег. Сероватая вода с пятнами сепии, темное, зловещее небо, грязная палуба, брань матросов, вонь, доносящаяся до меня из кухни, – все это объединилось воедино, чтобы ввергнуть меня в отчаяние. Я испытывал неодолимую потребность с кем-то поделиться своими переживаниями, но не видел пассажиров. Я поднялся на мостик в надежде поговорить с капитаном. Но это был настоящий медведь, к такому не подступишься. Итак, я на десять дней оказался как в тюрьме, совсем один, в обществе людей, с которыми и словом не обмолвишься, начисто лишенных сердца. Это было настоящей пыткой.
И я снова стал прогуливаться по палубе, вперед-назад, словно от этого должно было скорее пройти время. Моя пылающая голова работала с небывалым напряжением, гудела от мыслей, рождавшихся тысячами ежеминутно, я гнал прочь воспоминания, но они тут же вновь всплывали и теснили друг друга в моем бедном мозгу, и среди всей этой душевной сумятицы меня еще терзала непроходящая боль, подобная зубной, но при этом я не понимал, что именно у меня болит, не знал названия этого страдания. Чем дальше отплывал пароход от берега, приближаясь к открытому морю, тем больше нарастало во мне это напряжение. Словно пуповина, которая связывала меня с родной землей, с родиной, с семьей – с ней, должна была вот-вот разорваться. Болтаясь где-то между небом и землей на крутых волнах, я чувствовал, что буквально теряю почву под ногами, что все меня покинули, и от этого сознания своего одиночества в душе моей рождался смутный страх – я стал бояться всего и всех. Должно быть, во мне есть эта врожденная ущербность, потому что я помню, как давным-давно во время увеселительной прогулки я горько рыдал от разлуки с мамой, хотя тогда мне шел уже двенадцатый год и по физическому развитию я намного опережал своих сверстников. Может, это объясняется тем, что я родился недоношенным, может, все дело в том, что я появился на свет, несмотря на предпринятые попытки избавиться от меня, что весьма часто случалось в многодетных семьях. Так или иначе, но у меня развилось странное малодушие, которое проявлялось всякий раз, когда я собирался изменить место жительства. Так и теперь, вырванный из своей привычной среды, я вдруг испытал панический безотчетный страх перед будущим, перед той незнакомой страной, куда направлялся, перед командой парохода. Впечатлительный, с обнаженными нервами, как, наверное, всякий едва не ставший жертвой аборта ребенок, я был подобен раку во время линьки, когда он без панциря ищет прибежища под камнями и чувствует малейшее колебание барометра, я бродил по пароходу, надеясь встретить человека с более мужественной душой, чем моя. Да, мне не хватало крепкого рукопожатия, теплоты человеческого тела, взгляда дружеских глаз. Я кружился, как заводная кукла, по передней палубе, между капитанским мостиком и надстройкой, и мысленно представлял себе, в каких страданиях я проведу все десять дней пути. А ведь прошел всего час, как мы отвалили от причала. Час, равный вечности, и не было никакой надежды прервать это проклятое путешествие, решительно никакой! Как я ни уговаривал себя, ни взывал к разуму, все во мне восставало. «Что тебя заставляет уехать? Кто имеет право осудить тебя, если ты решишь вернуться?»
Никто. И все же… Стыд, страх стать посмешищем, дело чести! Нет, надо оставить всякую надежду! Да к тому же этот пароход до Гавра не имеет стоянок. Итак, вперед, мужайся! Но мужество основано на физических и психических силах, а в данный момент я не располагал ни тем, ни другим. Гонимый черными мыслями, которые меня преследовали, я решил теперь гулять по задней палубе, поскольку переднюю я, так сказать, уже выучил наизусть, и релинги, и такелаж, и оснастку я знал, как содержание только что прочитанной книги. Выйдя на заднюю палубу через застекленную дверь, я чуть не толкнул даму, которая примостилась за каютой. Это была старая женщина с грустным выражением лица, одетая во все черное.
Она внимательно, с симпатией посмотрела на меня, так что я счел возможным с ней заговорить. Она ответила мне по-французски, и наше знакомство состоялось.
Обменявшись сперва несколькими незначительными фразами, мы тут же рассказали друг другу о целях нашего путешествия. Ее история была не из веселых. Она оказалась вдовой коммерсанта, торговавшего древесиной, и сейчас ехала из Стокгольма, где гостила У родных, в Гавр, чтобы ухаживать за сыном, который заболел психическим расстройством и помещен там в сумасшедший дом. Рассказ этой, дамы, душераздирающий при всей своей краткости и простоте, произвел на меня безмерное впечатление, и вполне вероятно, что именно он, засев в моем свихнувшемся мозгу, и явился толчком для того, что затем последовало.