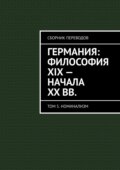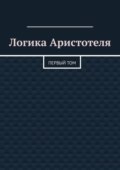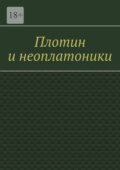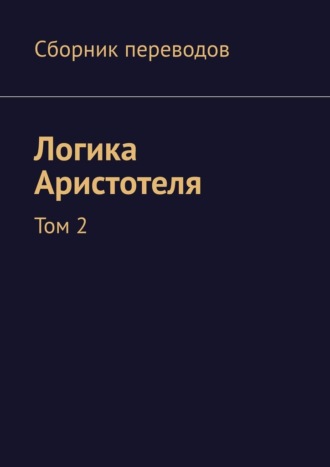
Валерий Алексеевич Антонов
Логика Аристотеля. Том 2
2a3
Примерами обладания являются ношение обуви и вооружение.
Поскольку иметь противоположно тому, чтобы иметь, некоторые задаются вопросом, почему Аристотель говорит, что существует категория только иметь, но не категория быть имеющим, как это имеет место в случае с воздействием, которое противоположно деланию и из которого он сделал категорию – я имею в виду <категорию> воздействия. Наш ответ таков: быть имеющим можно подвести под <категорию> быть устроенным, но иметь нельзя <подвести> ни под одну из других. Вот почему он должен был определить для него категорию.
Теперь некоторые люди говорят, что не все сущности могут быть подведены под десять категорий. Под какую категорию мы должны подвести точку или привилегию! Что касается точек, то мы ответим, что Аристотель здесь рассуждает о вещах, известных посредством восприятия, и о «многих». Но точка не является независимо существующей вещью; она – принцип (arkhe) вещей вообще. Подобным образом можно было бы озадачиться вопросом о материи и форме, но, как мы объясним58, речь идет не о простой субстанции, которая превосходит составную, и не о простой субстанции, которая уступает составной, а о составной субстанции. Что касается лишения, то некоторые говорят, что оно относится к той же категории, что и обладание, поскольку противоположности относятся к одной и той же категории. Но мы говорим, что оно не должно быть подведено ни под одну из категорий. Ибо они – категории сущностей, тогда как привация – это не сущность, а привация сущности.
2a4
Каждая из вышеупомянутых вещей [сказанная сама по себе, не является утверждением].
Поскольку он хочет сообщить нам, что не предлагает здесь различать утверждения и отрицания, Аристотель говорит, что каждая из категорий сама по себе не обозначает ничего истинного или ложного. Ведь если я говорю «Сократ ходит», то, если он действительно ходит, я сказал истинно, а если нет, то ложно; то же самое и с отрицаниями. Но если я десять тысяч раз скажу «человек», я не скажу ни истинно, ни ложно; то же самое относится и к «ходит».
Однако кто-то может возразить, что тот, кто говорит « (я) хожу», говорит либо истинно, либо ложно. Ведь если он действительно ходит, то говорит истинно, а если нет, то ложно. Мы ответим, что тот, кто говорит « (я) хожу» (peripatо), фактически включает в себя Т (ego), как если бы он сказал «я хожу» (peripato ego). Таким образом, местоимение снова было включено в глагол, чтобы произвести истину или ложь, поскольку одна категория сама по себе не может этого сделать. Ведь очевидно, что ни одна из категорий сама по себе не является ни одна из категорий сама по себе не является ни утверждением, ни отрицанием, но они сочетаются друг с другом, чтобы сделать это. Например, в категории «человек ходит» утверждение возникает из субстанции и действия. А вставив в середину отрицательную частицу, мы получаем отрицание, например «человек не ходит».
2a5
[Каждая из упомянутых вещей, сказанная сама по себе] не является утверждением.
В большинстве манускриптов (библий), которые, по-видимому, имеют правильное толкование, нет слов «или отрицания». Ведь если ни одна категория не означает утверждения, то, конечно, ни одна не означает и отрицания. Ибо для этого нужна отрицательная частица, и можно предположить, что действие обозначает скорее утверждение, чем отрицание.
2a7
Ибо кажется, что всякое утверждение или отрицание [либо истинно, либо ложно].
Слово «кажется» относится к тому, что не всегда утверждение истинно и не всегда отрицание ложно, например, если кто-то скажет «я бегу» или «я не бегу». Поэтому, поскольку в этих случаях может подразумеваться «я», либо <это причина>, либо <это> потому, что «кажется» избыточно, либо потому, что это ошибка переписчика, либо потому, что он имеет в виду, что это и так очевидно для всех.
О cубстанции
2a11
Субстанция – это то, что наиболее часто и преимущественно упоминается.
Субстанция занимает первое место среди категорий, и по этой причине она поставлена впереди других: она участвует в других категориях, но другие категории не участвуют в ней; она объединяется с ними, но не объединяется ими, потому что она самосущая, и в ней другие категории имеют свое бытие. Ибо когда субстанция существует, нет необходимости, чтобы остальные категории принадлежали к ней; когда же она не существует, невозможно, чтобы остальные были. Есть два вида субстанции: одна – простая, другая – составная, и среди простых одна лучше составной, а другая хуже. Составная субстанция – это человек и подобные ему сущности, а простая, которая лучше составной, – это божественная субстанция; простая хуже составной, или материя, которая первична, и форма; они рассматриваются по отношению к составным. Однако те, которые поглощаются чем-то другим, всегда уступают тому, чем они поглощаются. Так, мы говорим, что в искусстве уздечка уступает всадничеству. Это происходит потому, что всадничество используется как инструмент для достижения результатов уздечки, а уздечка – это то, ради чего существует всадничество. То же самое относится и к другим случаям. Здесь Аристотель обсуждает не простое и лучшее из составного (ибо это относится к теологии), не простое и худшее из составного (ибо это относится к физиологии), но составное и относительное, как это и обозначается. Он утверждает, что из этой субстанции одна первична, а другая вторична, причем первичное – это конкретное благо, а вторичное – всеобщее. Таким образом, мы утверждаем, что вещи, которые предшествуют нам по природе, вторичны по отношению к нам, а те, которые предшествуют нам, вторичны по природе, как, например, целое и вид; затем, общие элементы предшествуют нам по природе. Из них мы выводим семя и кровь, а затем и то, что называется «человек», – ведь мы признаем «человека» предшествующим, а затем, как следствия этого, возникают упомянутые ранее аспекты. Поскольку речь идет о тех, кого он представляет, соответствующие моменты формулируются более четко для тех, кого он представляет. Разумно, что он сначала упомянул часть, поскольку мы восходим от частей к целому. Поэтому, чтобы не угодить ему, он не сказал «прежде всего», а, скорее, констатировал. Важно понять, как Аристотель выражает это, ибо, как мы уже отметили, он называет конкретную субстанцию первой; он утверждает, что это сказано не относительно какого-либо предмета: ведь истинно первая субстанция, которая есть целое, относится к какому-либо предмету. Таким образом, говорится, что она не относится ни к какому предмету. И поскольку он признает, что ни первая, ни вторая субстанции не существуют в субъекте, он говорит «оно есть»: однако оно не существует ни в ком в пределах субъекта. Поэтому здесь добавлено «есть», так как это ему тоже понравилось.
p. 2a12
Говорят, что она ничему не подвержена.
И некоторые спрашивают, что же действительно было определено как самое почетное через посредство определений, если они действительно более неблагопристойные, чем утверждения. Мы утверждаем, что нет ничего неблагоразумного; ведь мы, желая обозначить божественное, ничего не утверждаем о нем, как утверждает Платон, но обращаемся к определениям. Некоторые недоумевают, утверждая, что, возможно, даже истинно первая и божественная сущность не согласуется с данным определением сущности и порционной души; ведь о Боге не сказано, что он чему-то подчиняется или находится в субъекте, и все же он – душа. Поэтому мы утверждаем, что это определение не применимо ни к тому, ни к другому; ибо относительно божественной сущности совершенно глупо представлять себе такое определение; ведь понятие неподвластности утверждается в противоположность тем вещам, которые находятся в подлежащем, и оно имеет некоторое отношение к подлежащему, но божественное совершенно не связано и совершенно отлично как от подлежащего, так и от неподлежащего, тогда как контингентные существа подвластны тем, которые имеют место. Что же касается души, то, если взять отчетливое определение, оно не подойдет по той же причине (ибо, имея в себе причины и знание, она не связана и отлична), но если взять порционное, то, возможно, оно применимо и к ней; ибо, впав в связь и будучи охвачена памятью, она затем становится подвластной временами грамматике, временами медицине и подобным образом другим искусствам.
И нет ничего удивительного в том, что душа иногда применяет определение, а иногда нет; ведь она имеет средний порядок относительно всего, что удалено от материи, и всего, что воплощено. Когда душа отделена от тел, определение к ней не применимо; но когда она попадает в целое, она забывает, и тогда оно применяется, и ничто не кажется неуместным.
p.2a14
Вторые субстанции называются таковыми.
Следует выяснить, каким способом делятся субстанции; ведь среди делимых одни делятся как род на виды, другие – как целое на части, третьи – как одноименный голос на различные обозначения. Мы утверждаем, что, во-первых, не как род на виды, потому что никогда один из разделенных видов не содержит другого; например, о животном, разумном и неразумном, нельзя сказать, что оно «животное, неразумное и лошадь», поскольку второе содержится в первом. Таким образом, первая субстанция содержится во второй. Однако она также не делится как целое на части; ведь нельзя сказать о целом: «Одно есть рука, а другое – палец» (поскольку палец точно так же содержится в руке), но, скорее, о целом: «Одно есть рука, а другое – нога». Но, действительно, даже не по той же причине омонимичный термин обозначает разные значения; ведь даже среди разделенных мы находим, что омонимичный термин обозначает разные значения, содержа одно от другого, например, термин «лить» приписывается звездному, философу и земной собаке, но ни одно из них не содержится в другом. Более того, в разделенном, поскольку омонимичный термин обозначает различные значения, обнаруживается только омонимия, но не общность определения; однако в отношении первой и второй субстанций существует только общность имени, но также и определения. Ведь Сократ называет первую из этих субстанций именем второй, то есть именем человека, и определение того же самого имеет как Сократ, так и любой человек: ведь точно так же и животное называется живой, чувствительной субстанцией, и животное тоже называется. Поэтому мы говорим, что оно обеспечивает порядок его, но не деление.
p. 2a14
В каких видах говорится о первых субстанциях.
Почему он не сказал «вторые субстанции называются родами и видами»? Но скорее «в каких видах»; мы говорим, что это очень надежно; ведь если бы он сказал «роды и виды», то, поскольку в других категориях есть роды и виды (например, у поэта род – цвет, виды – белый и черный), мы должны были бы предположить, что вторые субстанции также находятся в случайных; поэтому он не сказал случайные виды, а скорее «в каких видах находятся первые субстанции».
p.2a15
Эти вещи и виды этих форм.
Здесь философ собирает то, что уже было им сказано, и обозначает этим высказыванием первую субстанцию, а упомянув также виды форм, обозначает вторую субстанцию.
p. 2a16
Например, что такое человек.
Он берет пример первой субстанции. Из этого примера видно, что первая субстанция включена во вторую: ведь то, чем является человек, существует в форме человека, но род этой формы – животное, ибо животное включает в себя всего человека. Весь человек содержит в себе определенного человека, а то, чем является человек, есть первая субстанция; таким образом, весь человек и животное называются вторыми субстанциями.
p. 2a17
Поэтому они называются вторыми субстанциями.
Справедливо говорят, что они так называются, поскольку по природе своей это первые субстанции.
p. 2a20
Необходимо, чтобы и имя, и определение были приписаны предмету.
Здесь Аристотель делает вывод: «Все, что говорится о чем-то как относящемся к предмету, разделяет с ним и имя, и определение (ведь Сократа называют и человеком, и разумным, смертным животным); однако все, что существует в предмете, никогда не разделяет определение, но иногда разделяет имя. Ведь белизна существует в теле, и она участвует в определении, частью которого является (ведь мы не скажем, что тело – это цвет, отдельный от зрения), но она участвует в имени» – ведь мы говорим «белое тело»: следует понимать, что так бывает не всегда. Ибо подумай, что ни в имени, ни в определении добродетель не разделяет с субъектом» – ведь не говорят, что человек, обладающий добродетелью, добродетелен, но скорее серьезен.
p. 2a34
Что касается всего остального.
Он точно изложил то, о чем говорится снова, ибо для этого не требуется, чтобы все первые субстанции, то есть части, были составлены, а нужно, чтобы они были выражены в соответствии с ними.
p.2a35
«Или же оно находится в тех, которые подлежат».
Хорошо, что здесь также присутствует «быть»; ведь события, произошедшие в конкретных субстанциях, обладают бытием. Поэтому говорится, что это энкомий первой субстанции, поскольку она делится на три категории: универсальные субстанции, конкретные субстанции и случайности. Необходимо, утверждает он, чтобы каждая из первых субстанций: одна – поддерживалась (ибо в них события обладают бытием), а другая – классифицировалась (чем классифицируется всеобщее или частное?). Когда первые субстанции устраняются, устраняются и случайности, поскольку они не нуждаются ни в какой поддержке; точно так же и всеобщее не нуждается в том, чтобы быть указанным по отношению к чему-либо предметному. Всеобщее относится не к тому, что предшествует множеству, а к тому, что существует внутри множества. По этой причине к сказанному во «Введении» Порфирием добавляется то, что при устранении гипотез возможно существование всех видов вещей: там он рассуждал об умопостигаемых видах и формах, которые предшествуют многим, а здесь – о разумных видах и формах, то есть тех, что находятся среди многих.
p. 2b5
«Или же она находится в тех, которые подлежат».
Это указывает на то, что всеобщие субстанции упоминаются по отношению к частным, где случайности обладают бытием в конкретных субстанциях; таким образом, поскольку эти первые субстанции не являются ни всеобщими, ни случайными, то говорят, что конкретные субстанции являются первыми. Хорошо устроено, что во всеобщем – это констатация, а в происшествиях – это бытие.
p. 2b7
Вторые субстанции различаются.
Теперь проводится сравнение между вторыми субстанциями, как по виду, так и по роду, и на основании двух аргументов показывается, что сущность относится скорее к виду, чем к роду: один аргумент основан на отношении к первой субстанции, а именно на ее близости (ведь вид ближе к первой, то есть конкретной субстанции, чем к роду), а другой – на аналогии: как первая субстанция относится к виду, так и вид относится к роду.
p. 2b8
Ибо если бы кто-нибудь определил, что такое первая субстанция.
И если бы кто-нибудь определил, что такое Сократ, то он определил бы его надлежащим образом и как человека, и как животное, но более надлежащим образом как человека, чем как животное; ибо, говоря «животное», мы охватываем многое (поскольку оно обозначает и рациональное, и иррациональное), и мы не уточняем, рациональное оно или иррациональное, но, определяя его как человека, мы более точно передадим природу Сократа.
p. 3b12
Ибо конкретное более характерно для вещи.
Для Сократа более характерно быть человеком, чем быть животным, ибо это более распространено (и та же аналогия применима к деревьям и растениям).
p. 2b15
Более того, первичные субстанции.
И это вытекает из второго аргумента; он основан на аналогии. По этой причине он утверждает, что первичные субстанции называются первичными потому, что они также относятся к происшествиям в отношении существования и к универсалиям в отношении категорий. Подобно тому, как первичные субстанции относятся к происшествиям и универсалиям, так и виды относятся к родам: виды подпадают под роды в отношении категорий, но не наоборот; ведь роды классифицируются по видам (мы говорим «всякий человек есть животное», и хотя человек – это вид, термин «животное» классифицируется, то есть род), но виды не классифицируются по родам; ведь мы не можем сказать, что всякое животное есть человек, так же как мы говорим, что всякий человек есть животное. Поэтому, исходя из них, вид рода действительно более субстанционален.
p. 2b22
А из самих видов – столько, сколько не является родами».
Он справедливо добавил «столько же, сколько и не родов», чтобы вы не поняли неправильно термин «животное»; ведь животное – это действительно вид, но также и род. Поэтому нужно рассматривать не эти, то есть подчиненные, а только те, которые являются видами, в частности, самые конкретные, такие как человек и лошадь.
p. 2b24
Ибо нет ничего более привычного.
Рассмотрев глубину субстанции, то есть от атомов к форме и от формы к роду, он теперь хочет провести сравнение в ширину, то есть от формы к форме и от атома к атому. Поэтому он утверждает, что ни одна форма формы не будет отличаться от сущности второй, ни один атом атома не будет отличаться от сущности первой субстанции.
p. 2b25
Или относительно некоего верхового коня – именно коня.
Ибо человек имеет отношение к определенному человеку, и точно так же лошадь имеет отношение к Ксанфу: как о Сократе не было бы ничего более привычного, чем сказать о человеке, так и о Ксанфе – о лошади.
p. 2b29
Но, конечно, после первых субстанций.
Теперь он говорит о причине, по которой обозначаются роды и виды вторых субстанций, но он не утверждает, что случайности являются третьими субстанциями. Он выдвигает двоякое предположение, первое из которых вытекает из определения термина: ведь он говорит: если нас спросят «что такое Сократ?», мы ответим «человек» или «живое существо», что даст знакомый и узнаваемый ответ; если же мы скажем «белый», «бегущий» или что-то подобное, мы дадим незнакомый и неизвестный ответ. Таким образом, вполне разумно, что мы называем виды и роды вторыми субстанциями, но мы не утверждаем, что случайности – это субстанции вообще.
p. 2b37
Кроме того, первичные субстанции.
Этот второй аргумент, касающийся аналогии, гласит, что подобно тому, как первичные субстанции называются первичными, поскольку они подчиняются другим, так и виды и роды называются вторичными субстанциями, поскольку они сами подчиняются другим. Виды и роды действительно подчиняются случайностям, поэтому они называются вторичными субстанциями. Аналогичным образом это относится и к остальным.
p. 3a7
Общим для всех субстанций является то, что они не находятся внутри.
Проанализировав субстанции на первую и вторую категории и сравнив их друг с другом, [теперь он хочет дать определение субстанции. Поскольку субстанция является наиболее общим из родов, мы не можем дать определение наиболее общих, так как определения, как известно, выводятся из родов и существенных различий; он ищет частности субстанции, ибо это, по-видимому, как-то связано с определением, так же как определение существует исключительно и универсально там, где есть определение, и соответствует определяемому, так и частности существуют исключительно и универсально там, где есть частности, и они соответствуют друг другу. По этой причине он хочет дать конкретное по существу. Однако он не излагает прямо то, что ему приятно. Однако сначала он утверждает, что сущность отличительна в том, что она не существует в предмете, что универсально не только для этого, но и для различий; она должна существовать исключительно в особенном и во всем. Говоря это, он как бы противоречит сам себе: ведь если он намеревается приписать сущности отличительное, то как он может утверждать, что она является общей? Мы утверждаем, что к отличительному должны относиться по меньшей мере две вещи, а именно: одно и все; таким образом, говоря общее, он подразумевает целое. Приписываемая отличительная сущность очевидна как в первичных сущностях, так, очевидно, и во вторичных: ведь животное и то, что есть человек в конкретном человеке, – не как в субъекте, а как в конкретном субъекте.
p. 3a15
Более того, что касается тех, кто находится в субъекте, то это единое.
И через это он стремится показать, что вторичные сущности не присутствуют в конкретном человеке; ведь он утверждает, что вещи в субъекте принадлежат к имени, когда они общие с субъектом, но никогда не принадлежат к определению: ведь мы говорим белое тело, а белизна существует в субъекте, будучи отнесенной к субъекту, но не в определении: ведь мы не говорим, что тело – это цвет, отличительный для зрения. Однако вторичные сущности разделяют и имя, и определение; например, Сократ называется и человеком, и разумным смертным.