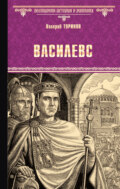Валерий Туринов
На краю государевой земли
В жарко натопленной избе было душно и тесно от кучно, вповалку лежавших людей. Давала себя знать усталость, но вонь и клопы мешали заснуть.
– Ты что, ямской? Слышь, аль нет!
– По летнему пути может и ходче, – нехотя отозвался из темноты проводник, по-вологодски окая. – Токмо на Чусовой яму нет…
– Да там же Строгановы, – подал голос Андрюшка. – Чего лучше для яму?
Тренька не удержался, захохотал, сразу разогнав остатки сна. За ним загоготали казаки и мужики.
– Строгановы подвод не дают, – сказал Пущин «литвину», – а летом – гребцов.
Андрюшка нравился ему, нравилась в нем та обстоятельность мысли и дела, которые он подмечал у ссыльных крестьян и посадских из порубежных литовских земель. И она, эта обстоятельность, на первый взгляд, походила на глупость, вызывала порой усмешку. В этой их недалекости, однако, как подметил Иван, проглядывала мудрость неторопливой природы, выносившей молчаливый приговор всем суетливым честолюбцам.
– Не выгодно яму быть.
– Вот – жила, – лениво процедил Тренька. – Князьком живет…
– Именитый, – съехидничал Пущин; ему тоже не нравился богатый хозяин Чусовой.
– А за что именитость?! – почему-то распаляясь на солепромышленника, крикнул Тренька. – Повезло!.. Попался на пути Тимофеичу, да со страха и спровадил его за Камень! Отделался! Решил, пускай там кладут казаки свои головушки! Снарядил, запасу дал, зелья под вогняной бой: только иди с Чусовой! А Тимофеич возьми и повоюй царство Сибирское!.. Повезло Строгановым: за дело Тимофеича грамотки получили, жалованные, от государя! Ан, он же, государь-то, травил Тимофеича воеводами!..
– Ну, ты это брось! Про государя-то такие речи! – одернул Пущин приятеля. – Не ведаешь, что за сиё бывает?!
– Добре, добре, Иван! – дружелюбно отозвался Тренька, зная, что он не выдаст, не донесет воеводам про эти их разговоры.
– Грозный величал Тимофеича князем! – парировал Пущин.
– Это когда было-то? – пробурчал Тренька. – После, как он согнал Кучума!
– Государь зря не жалует! Строгановы именитость получили за великие расходы! И нечего об этом говорить более! – твердо сказал Пущин.
Он вообще умилялся Тренькиной бесхребетностью. Еще недавно тот крестил на чем свет стоит Ермака, когда ходил стрелецким пятидесятником. А сейчас, получив атаманство, встал за него горой. Вот что тут поделаешь!..
Казаки и мужики притихли, настороженно прислушиваясь к их перебранке. Такие речи они слышали не часто. Они будоражили их, вызывая неосознанное чувство страха перед властью государя.
– Спать пора, – прервал их проводник. – Дорога завтра далеча.
Разговоры в становой избе иссякли.
Какое-то время из угла, где устроился Тренька, еще слышалось невнятное бормотание: «Именитые… Тоже мне… Острожков понастроили… Вольность дали! Промашка то, государь…»
Но и оно вскоре сменилось переливами здорового храпа.
Рядом с избой, в темном холодном сарае, мерно хрустели сеном лошади. Вокруг стана теснились высокие ели, было тихо и морозно. Крохотный ямской стан, занесенный сугробами, погрузился в сонное молчание долгой северной зимней ночи.
Рано утром, еще до рассвета, обоз двинулся дальше.
В безветренной и стылой тайге далеко окрест разносится ритмичный скрип саней и громкие голоса ездовых. Обоз сургутских потащился длинной вереницей саней сначала вдоль левого берега Ляли. Не доходя устья Разсохи, он повернул на речку Мостовую.
Здесь, как обычно, остановились, сделали привал, напоили и подкормили лошадей.
– Туда пошла Тура, – показал проводник на восток. – А нам на Калачик. Там недалече и городок.
– Летом здесь дорога, похоже, пропащая? – спросил Тренька его.
– Да-а, грязна, – согласился тот. – По Туре трижды возятся и дважды бродят. Осенью лошадей плавят, так сильно зябнут… Однако скорее надо бы: к стану до Кичигов[13] дойти бы.
Под заснеженными шапками елей снова послышался ритмичный скрип саней, глухой стук копыт. И над обозом, кудрявясь, повис легкий парок, вырываясь из заиндевелых ноздрей уставших лошадей.
Санный обоз пересек речку Калачик, и ямские охотники погнали лошадей, чтобы засветло добраться до жилья.
За долгую дорогу Тренька отоспался и, мучаясь от скуки, залез было в сани к Пущину. Но угрюмый вид того нагнал на него еще большую тоску, и он перебрался к Андрюшке, чтобы там почесать язык.
Разговоры с «литвином» всегда щекотали нервы атаману от острого ощущения недозволенного, когда словно ходишь по краю обрыва, зная, что туда можно и свалиться. На его удивление литвин свободно говорил о том, чего тот же сотник избегал касаться, а если говорил, то как будто рубил топором: раз и отсек. От этого с Пущиным было невыносимо тошно. В санях же у Андрюшки он находил понимание, и оттуда порой слышался его громкий голос, срывающийся на крик. А кричал он на того же Андрюшку. Чаще же там подолгу стояла тишина: они о чем-то доверительно судачили, понизив голоса.
В молодости Андрюшка много повидал: был у донских казаков, затем его занесло в Запороги, в ватагу Северина Наливайко. Когда же того разбил гетман Жолкевский, Андрюшка бежал под Смоленск, но там попал в плен к московитам, «в языцах», и был выслан в Сибирь. Сначала он попал на поселение в Тобольск. Потом, как не пожелавшего принять православие, его перевели в Сургут, поверстали в конные казаки. Многие его друзья по несчастью, из «литвы и черкас», во времена Годунова вышли в боярские дети. Некоторых, кому повезло, оставили служить в подмосковных городках.
– Ну и дурень же ты, Андрюха, – сказал Тренька. – Ходил бы сейчас в сынах боярских. Это же 25 алтын[14] в разницу. Разумеешь, ядрена мать? Коли бы в десятники вышел, аль в атаманы, это же восемь рублей. Вон сколько стоит твоя матка бозка! – засмеялся он.
– Давай, иди отсюда – выкидывайся! – рассердился Андрюшка. – Влез в чужие сани и дуришь!
– Ну-ну, не буду! – миролюбиво сказал Тренька; ему ужасно не хотелось сидеть одному в холодных санях. – Знаешь сколько положили вашему Мартыну Боржевинскому, тому, что в Томской свели?
Андрюшка тяжело вздохнул, с сожалением посмотрел на него.
– Десять рублей! – поднял атаман вверх палец. – Чуешь? У меня же только восемь и шесть алтын, – с обидой в голосе добавил он.
Затем, не в состоянии долго думать об одном и том же, он засмеялся и толкнул в бок «литвина»:
– Ладно, Андрюха, споем! Что мы делим-то не свое!
Андрюшка пел охотно. Его не надо было упрашивать. Он откашлялся и затянул сначала тихо, потом все громче и громче. Набирая силу, над санями понеслась песня: «Во-первых-то санях атаманы сами! Во-вторых-то санях ясаулы сами!»
Тренька поддержал его, залихватски подсвистывая после каждого куплета.
– А в четвертых-то санях разбойники сами! А в пятых-то санях мошенники сами!
По всему обозу подхватили, и над заснеженной тайгой грянула по-кабацки безоглядная песня: «А в шестых-то санях Гришка с Маришкой!..»
Отзвенев, она внезапно оборвалась. Как будто слабая пташка из дальних теплых краев, на минуту выпущенная из клетки, она потрепетала на яром сибирском морозе и снова забилась под теплые шубы служилых. И там, свернувшись под сердцем, она затихла, чтобы дождаться своего очередного часа.
Но разошедшегося Андрюшку уже было не остановить.
– Гамалая по Скутаре по пеклу гуляе, сам хурдыгу разбивае, кайданы ломае: вылетайте, серы птахи, на базар до паю!
– Эй, Иван, слушай, это для тебя! – крикнул Тренька Пущину, подпевая Андрюшке: «На гору конь упирается, под гору конь разбегается, эй, эй! О калину расшибается!..»
Казаки и стрельцы громко захохотали. По тайге понеслось гулкое эхо: «Хо-хо-хо!»
– Стой! Тпр-рр! – вдруг закричал проводник, придерживая бег санного обоза перед замаячившей вдали крохотной деревушкой.
– Эй, ямской, чо там?
– Чо, чо!.. Ничо!
– Мужики, матерь вашу, чо там?.. Волки!
– Эка невидаль!
Впереди на дороге, в ранних зимних сумерках, виднелось что-то бесформенное, темное.
Присматриваясь, проводник подъехал ближе и увидел мужика; тот стоял как-то странно – на карачках…
«Пьян, что ли?» – подумал было он, но вспомнил, что сейчас крещенье и мужик гадает на урожай, приободрился и задорно закричал: «Эй, поберегись!»
Мужик резво вскочил, отпрыгнул в сторону и увяз в глубоком сугробе.
А мимо него вереницей понеслись сани, и путники, разгоняя кровь, завеселились.
– Штаны держи! – гаркнул Тренька.
– На хлебушек! – крикнул Пущин и бросил мужику охапку сена.
– Вот тебе и урожай!..
– Давай, давай, казаки!..
Деревушка мелькнула и осталась позади…
К Верхотурью они подъезжали уже поздно вечером.
Сначала показалось что-то темное, массивное и бесформенное. И это темное стало подниматься вверх, наползать на сумеречное вечернее небо, загораживать путникам горизонт…
Затем верхушка этой массы ощетинилась деревянной стеной, обозначились острожные наугольные башни, редкие острые пики елей.
А вон приземистые, букашками, едва различимые в темноте избенки…
«От царя и великого князя Федора Ивановича государя всея Русии в Пермь Великую, в Чердынь, Василию Петровичу Головину, да Ивану Васильевичу Воейкову. В нынешнем во 106-м году, октября в 3 день писал к нам из Перми Сарыч Шестаков, да прислал городовому и острожному делу роспись городище Неромкуру, а в росписи написано: от реки от Туры по берегу крутово камени-горы от воды вверх высотою сажен з 12 и больши, а саженьми не меряно, а та гора крута, утес, и тово места по Туре по реке по самому берегу 60 сажен больших, и по смете де тому месту городовая стена ненадобе, потому что то место добре крепко, никоторыми делы взлести не мошно, и по их бы смете по тому месту городовая стена не надобе, потому что то место и без городовые стены всякова города крепче, разве б по тому месту велети хоромы поставить в ряд, что город же, да избы поделать, и дворы б поставить постенно; а по углам города от реки от Туры поставить наугольные башни. И как к вам ся наша грамота придет, и вы б того места от реки от Туры по берегу разсмотрели, сколь то место крепко и мочно ль быти по тому месту от реки от Туры без городовые стены. И только будет то место крепко, и городовая стена не надобе, и вы б зделали нового города три стены, а с четвертую сторону от реки от Туры велели поставить хоромы в стену воеводские или которые иные хоромы поставить пригодятся, которым быти в городе пригоже, только бы было постенно, да избы поделать; а городовые стены не ставили, велели бы есте от реки поставить наугольные башни для очищения с тех башен стен и за реку. Писана на Москве лета 7106-го году октября в 12 день. Подлинная за закрепою дьяка Ивана Вахрамеева».
Головин и Воейков заложили острог, поставили воеводский двор, съезжую избу, дворы служилым и попу, возвели церковку Живоначальной Троицы.
На следующий год их сменил воевода Иван Вяземский с головой Гаврилой Салмановым. Салманов же отгрохал гостиный двор, размахнулся на четыре избы и двадцать амбаров. Да не поскупился он: отстроил еще татарский двор – остякам, вогулам и торговым, построил избу, амбар и конюшню, огородил и покрыл все навесом. Вслед за гостиным двором появился и государев кабак.
И уже через пять годков в остроге стало ужасно тесно. А занимал он всего лишь малую толику камня-горы. Оброс он по стенам и дворами посадских и пашенных крестьян. И они, остерегаясь набега инородцев, ударили челом государю, что-де быть бы им в остроге.
На это царица Мария Григорьевна, вдова Бориса Годунова, только-только что скончавшегося, и его малолетний сын, царь Федор Борисович, милостиво дали наказ с закрепой дьяка Казанского дворца Нечая Федорова.
И острог, по этой грамоте, расширили вдвое.
Возвращаясь с Москвы южным путем, служилые никогда не пропускали верхотурский кабак. Он был как сибирский порожек. Об него спотыкались все. И он всегда был переполнен промысловиками, купцами, служилыми и гулящими, искателями приключений. Их манили за Камень вольность, простор, загадочность и богатства только что открытой земли. Края же ее пока никто еще и не ведал.
В этом кабаке и Пущин прощался с московской землицей. По ту сторону Камня оставалась его родина. Хотя и Сибирь для него уже не была чужой. Он ехал к себе домой. Был Сургут, впереди маячил Томский острог…
«Лета 7112 марта 25 дня государь царь и великий князь Борис Федорович всея Русии велел быти голове Гавриле Ивановичу Писемскому да Василию Тыркову на своей государевой службе вверх по Оби реке на Томи в Томской волости, для того, что бил челом государю царю и великому князю Борису Федоровичу всея Русии из Сибири Томской волости Тоян князь, чтобы великому государю царю и великому князю Борису Федоровичу всея Русии его пожаловати, велети ему быти под его царскою высокою рукою и велети быти в вотчине его в Томи поставите город, а место де в Томи угоже и пашенных де людей устроите мочно, а ясачных де людей у него триста человек, и как де город поставят и те его ясачные люди будут под государевой царской великой рукою, ясак учнут платить, а которые де и будут около того города государевы непослушники, и он Тоян учнет про них сказывати, приводить их под государеву царскую высокую руку. А до Чат де и будет от того города ходу десять день, а до киргизского до князька до Номчи семь день, а людей у него тысяча человек, а до другого князька до Бинея до ближнего кочевья десять день, а до дальнего кочевья четыре недели, а людей у него десять тысяч человек, а до телеут дальнее кочевье пять дней, а князек в телеутах Беяк, а людей у него тысяча человек, а до умацкого князька до Читы дальнее кочевье четырнадцать день, а людей у него триста человек, а как де и в Томи город станет и тех де городков кочевыя волости все будут под государевой царской высокой рукою и ясак с них имать мочно, а которые люди живут на томской де вершине восьми волостей, и те люди учнут в государеву казну давать ясак, да в томской же де вершине живут двести человек кузнецов, а делати доспехи и железца стрельныя и котл выкавывают. А у них два князька, Босорок да Бейдара, а до мелесскаго до Исека князьца от Томи десять день… А велено служилым людям дать им денежное и хлебное жалованье, отпустить в Сургут тотчас, а Гаврилу и Василью дождаться в Сургуте из Тобольска, из Тюмени и из Березова, из Пелыми служилых людей и юртовских татар и березовских остяков, взять в Сургуте Федора Головина, сургутских служилых людей и сургутских остяков и хлебные запасы, которые посланы в Томской город на запас… А идти из Сургута Обью рекою в Томскую волость с великим береженьем и сторожи и караулы около себя росписать… И велели людям своим на городовое дело лес ронити и возити и город ставити… Лес ронити легкий, чтобы скорее город сделати и житницы на государевы запасы велети поставить… Поставить в городе храм во имя Живоначальной Троицы да придел страстотерпцы Христовы Бориса и Глеба, а другой Федора Стратилата…
Сибирские земли всякие люди, жили б в царском жалованье, в покое и в тишине без всякого сумления и промыслы всякими промышляли и государю и пр. служили и прямили во всем… А в которых людях начнет шатость и воровства, и они бы воров не укрывали и не таили… А кто на кого скажет какое воровство изменя, и сыщется до пряма, а государь тех людей велел пожаловать своим царским жалованьем и животы их и вотчины подать им, кто на кого какую измену и воровство доведет обьявя… А которые волости и городки подошли к Томскому городу ближе Сургутского города и Нарымскаго и Кетских острогов, и волости и городки и в них князьков и мурз и остяков велеть переписать и в дань их с судом и управою и ясаком в новом Томском городе и ясачные книги тем всем волостям для справки взято в Сургут… А как город поставят… и велеть отписку и чертеж отдати в Казанской и Мещерской дворцы дьяку Нечаю Федорову»…
Орудуя плечами, Тренька пробрался в дальний угол переполненного кабака. За ним протиснулись сотник и «литвин», совсем как в ледоход за белозёркой утлые шитики.
Атаман плюхнулся за стол рядом с двумя какими-то казаками.
– А ну потеснись, дай место!.. Эй, куриная башка, налей по чарке! – зычно гаркнул он целовальнику, перекрывая шум кабака.
Целовальник махнул рукой половому, и тот шустро юркнул куда-то за дверь.
Тренька положил на выскобленный до белизны деревянный стол большие сильные руки, дружелюбно улыбнулся казакам, сидевшим рядом.
– Ну, чем повеселите!
– Хе-хе, ишь ты какой прыткий: весели тебя! Чай, не девка… Сын боярской, небось? А может, сотник, аль атаман? – оценивая, оглядел его казак с окладистой черной бородой.
– Атаман, атаман! – самодовольно ворохнул плечами Тренька.
– То и заметно.
– А ты больно зрячий! Авось на наугольной стаивал!
– Бывало. И на приворотной[15] тоже. Ваш брат, если лютует, – прищурившись, посмотрел чернобородый на Треньку, – страсть какой прилипчивый.
– Над таким не полютуешь.
– И то верно – не дамся.
– Ты, казак, не знаешь нас, а уже ведешь напрасные речи. Это тутошные, должно, ваши десятники.
– Может быть, может. Вижу, по роже, с далека – вон как опалило.
– Ох, казаки, как вы дерзко тут-то, в кабаке! – возмущенно бросил Пущин, которого вывел из себя развязный тон соседей по столу.
– Не токмо, на походе тоже збойливы! – засмеялся чернобородый, смело глянув ему в лицо. – А ты, случаем, не сыщик?
– Ты, начальный, расспрос бы учинил сперва, что за служилые, – спокойно сказал атаману приятель чернобородого, широкоплечий казак с изъеденным оспой лицом.
За столом назревал скандал, но в этот момент половой принес чарки.
– А ну давай-ка еще пару! – велел ему Тренька. – Угощаю, служилые! – хитро подмигнул он казакам, заметил, как сразу подобрели они лицом.
Если Тренька хотел, то мог, вот так сразу, расположить к себе простецкие души служилых. Но боже упаси, если он озлобится. Хотя и в злобе он никогда не доходил до забывчивости. А лютовал он обычно на ясачных, казаков и стрельцов. В присутствии же воеводы или какого-нибудь дьяка он робел, замолкал и здорово потел, от страха…
Половой снова вынырнул откуда-то с чарками, ловко сунул их под нос казакам и опять исчез где-то в чаду набитого до отказа кабака.
– Ну, казаки, не хулите, если что было сказано в обиду! – хлопнул Тренька по спине рябого. – Не малые, не скукожитесь от слова крепкого!
– Да мы ничего… – дружелюбно отозвались казаки.
– Пей, казаки, пей, чтоб всем… на зло было! Отведем душу от зеленой тоски! Пусть она, грешная, попляшет, потешится!..
Казаки выпили, крякнули, потянулись к миске с капустой.
– Вот ты не поверишь, атаман, что мы испытали, когда ходили в послах у колмака! Что испытали!.. Это… За одно это оклад положить надо бы, аль однорядку[16]. А ведь мы шиш видали от воеводы! Все колмаку да киргизам!
– Ты, Миколка, сказывай про это, сказывай, и тебе полегчает, – обнял Тренька чернобородого и погладил его по голове, как маленького.
– Расскажи, расскажи, – поддакнул и рябой. – И сотник пускай послушает то ж…
– Ты думаешь, сотник не хаживал на иноземца! – сказал Тренька. – Не гляди, что он молчун. То у него сызмала… Вот только Дарья подпортила ему породу. Федька у него зубаст. Ох, зубаст! Во будет служба!
– Оставь Федьку, – исподлобья глянул Пущин на Деева. – То дело особое.
– Все, Иван, все! – качнулся Тренька к нему и приложил к губам палец: «То – молчок! Тс-сс!»
– Давай, Миколка, – повернулся и Пущин к казаку. – Скажи – как было дело.
– Я тебя зря угощал, что ли! Фи-ить! – присвистнул насмешливо Тренька над казаком.
– Ну, коли так – слушай… Было дело, послал нас воевода Иван Володимирович Мосальской к их тайшам. Проводили мы послов их, Арлая да Баучина, аж до самых юрт…
– Сколько вас хаживало-то? – перебил его Тренька.
– Ты дай рассказать! Что перешибашь! Слушай, коли просил!
– Давай, давай, не буду!
– Вот так-то оно лучше. Пошел Поспелка, да с ним мы, казаки, трое. Было то на третий день после Алексея теплого. И пришли к их тайшам – к Изенею и Баатырю. Пришли, а Изенея уже не стало. Вместо него жёнка. И владеет всеми улусными. Зовут ту жёнку Абай. Да с ней еще Кошевчей. Тоже тайша, большой тайша… Баба же та, Абай, злющая! И хороша! Редко у них жёнки такие, а эта ладная.
– Ну-у, не может быть! – вырвалось у рябого. – Я сколько пробовал, все дурны с лица. Не то что наши.
– Где ее, нашу-то, сыщешь тут?
– Хм, купи, ежели деньги есть, – хмыкнул чернобородый. – Вон, нынче с Тары служилый уехал на Москву по воеводской посылке. Ан возьми да продай женку, на отъезд. Ему прибыльно и она при деле. Двенадцать рублей взял.
– Такие деньги-то и мы найдем, – ухмыльнулся рябой. – На соболишек выменяю.
– Это ты зря! Здесь таможня. Враз отберут государю в казну. Без бабы останешься! Ха-ха-ха! – захохотал Тренька.
Казаки подозрительно покосились на него и Пущина.
– Люди мы государевы, а не сыщики, – перехватив их взгляды, дружески сказал им Андрюшка. – Вот о колмаке ты сказывал здорово. Это и нам в интерес. В Томск едем.
– Далеко же вам. Месяца с два будет… Киргизы там пошаливают. Князец их, Номча, два раза побивал наших. Скотинку многую отогнал.
– Черный колмак подошел и там близко.
– Так он же послов шлет!
– Хе-хе, гляди, какой ты! Мы чуть с голоду не померли у них. Корм не давали, платье отняли. Где это видано в послах-то? Полоняники в улусах сказывали: хитрит колмак. На Имаш-озеро собирается. Побить-де наших хотят!.. В Казацкой орде люди секутся про меж себя, и они-де идут на них войной. Улусных жёнок и детей хоронят близко наших земель. Вот и заговаривают. Послов шлют, а сами нападают на нас же!..
– Коварен степняк! – поддакнул Тренька чернобородому.
– Ясачных грабят, в ясырь гонят, – вступил в разговор рябой. – Кучугуты шалят, и браты, и маты тоже. Аринцы и саянцы непослушны. Кузнецкие татары не платят ясак. Грозят нашего брата, служилого, побивать.[17]
– Ну-ну! Мы им покажем, как побивать государевых служилых! – угрюмо пробурчал Пущин.
Казаки покосились на него, поняли, что этот не даст спуску инородцам. Но и сами они не пошли бы с ним в дальнюю землицу. С таким сотником или нос в табаке, или пропадешь со звоном.
– Что там, на Москве-то? Государь-то кто? Больно много слухов.
– Поляк, говорят, стоит у стен. Верно аль нет? – посыпались вопросы казаков.
– Да-а, – нехотя протянул Пущин.
– А Димитрий где, государь наш?
– Да какой он государь! Вор он!
– Ну-у! Ты гляди дела-то какие! И не поймешь ничего!
У входа в кабак послышались крики, вспыхнула какая-то возня.
Пущин приподнялся с лавки и глянул в ту сторону.
Там, у двери, двое гулящих избивали какого-то парнишку, завернув ему назад руки.
Возмущенный такой неправдой, Пущин встал из-за стола, подошел к ним, прикрикнул:
– А ну оставь мальца, кабацкие рожи!
И, не дожидаясь, когда те отпустят свою жертву, он схватил и отшвырнул в сторону одного, затем другого. Парнишка сообразил, что это его защита, и спрятался за ним. И вовремя, так как гулящие стали угрожающе заходить с двух сторон на Пущина. Глядя на них, зашевелилась и вся кабацкая голытьба, готовая по любому поводу ввязаться в общую свалку.
Пущин услышал рядом сопение Треньки. Тут же появился Андрюшка. Подошли казаки. И гулящие, боязливо глянув на них, исчезли из кабака.
– Ну что: пошли с нами! – положил Пущин руку на плечо мальцу и подтолкнул его к столу: «Садись, служба!.. Как зовут-то?»
– Васька Окулов, сын Захарьин. Отец с матьей Васяткой кличут.
– Откуда же ты появился здесь, Васятка?
– С Тюмени, с месяц уж.
– А-а! – многозначительно протянул Пущин.
– Откуда-то убежал, – сказал Андрюшка.
– Так ли оно? – строго спросил Пущин парнишку. – Только не ври. Соврешь – высеку. За правду – в стрельцы возьму.
– Негоже мне ходить в стрельцах, – шмыгнул носом Васятка и стал настороженно переводить взгляд с одного служилого на другого, пытаясь сообразить, шутят они или говорят всерьез. – Лучше я так, в гулящих буду.
– И помрешь с голоду. Или татары поймают, продадут в ясырь – бухарцам. Те оскопят и в евнухи. За их жёнками будешь доглядывать! Ха-ха-ха! – расхохотался Тренька над растерявшимся парнишкой. – Хочешь в бухарцы, а, малец?!
– Не-е, не хочу, – насупившись, пробормотал Васятка, вспомнив бухарцев.
Он видел их на торгах под Тюменью. Они очень не понравились ему. То были купцы, с сытыми флегматичными рожами и бабьими задницами. Даже летом они ходили в теплых халатах и тюбетейках, и от них всегда несло потом. И Васятка живо представил себе, какие у них жены: тоже, должно быть, такие же толстые и грязные. И они, жены бухарцев, будут приставать к нему, как приставала его хозяйка, вдова Варвара – рязанская торговка, которой на два года его определил в работники отец. Но у нее он не выдержал и года, убежал сюда, в Сибирь, прослышав о ней. Там, дома на рязаньщине, говорили, что здесь много татар. А еще больше, сказывали, свободной землицы, дескать, на всех хватит. Но не это тянуло его в Сибирь, а желание увидеть край, о котором так много говорят. Увидеть и иные разные дальние страны. Тянуло побродяжничать. Хотелось свободы, чтобы никто не помыкал, как батька или та же Варвара. Однако на воле оказалось опасно, холодно и голодно. И чтобы выжить, он пристал к этому хмельному кабацкому миру, выискивал здесь пропитание, как воробей, стерегущий в лютую стужу на зимней дороге конные обозы: свою единственную возможность дотянуть до весны.
– Тогда в стрельцы! Вот видишь, тебе некуда деваться, кроме как ехать со мной. В Томск поедем. Все, решено, я забираю тебя! – уверенно закончил Пущин, видя, что малец совсем сдался.
– Хм, запугал я его бухарцами! – усмехнулся Тренька.
– Ничего, обвыкнет. Хорошего стрельца из него сделаю, – сказал Пущин, окинул взглядом заполненный вольными людишками кабак и подумал: «Гнать их надо отсюда подальше в Сибирь. Правильно делает государь, что набирает здесь на службу гулящих и рассылает в дальние острожки. Мало там служилых: бегут, а куда – неизвестно, как в пропасть. Всех забирает Сибирь… А тут даже церковь есть. Но разве загонишь эту гулящую жилу в храм. Не пойдет она туда. Да-а, мало сибирский народишко ходит по церквам»…
Вспомнил он, что и сам заглядывает туда не часто. Что уж говорить о стрельцах и казаках: те не верят ни в бога, ни в черта. Вот разве что когда сволочная жизнь прижмет, тогда крестятся, и то больше от страха…
Под Васятку он выправил силком у ямщика, здесь, на Верхотурье, пару саней. Тот сначала уперся было, когда он сунул ему под нос царскую грамоту. Грамотка не взяла: до царя было далеко, до воеводы тоже не близко.
– Знаю я этого гуляку-стрельца, – хмуро сказал ямщик, отстраняя рукой грамоту. – Этот стрелец околачивается тут с осени. Не дам под него коней. Нет у тебя про это в грамотке-то, подорожной.
– Я тебе не дам! – вспылил Пущин. – Не дашь, паскуда, высеку! – сунул он плетку под нос ямщику и гаркнул: «Морда устюжская! Зажрались! Ах ты…!»
Он витиевато выругался, но ямщика не тронул, знал, что тот будет жаловаться самому воеводе. А воевода может стать за челобитчика: мало их, ямщиков, да и провожатых тоже, а государеву гоньбу вести надо. Следят за этим строго. Вот и платят им из государевой казны по 20 рублей. Хорошие деньги! И корм дают неплохой: по 12 четей ржи и овса… Он, сотник, не получает и половину этого за свою службишку…
– Разнесем, братцы, эту ядрёну… заставу по бревнышку! – подступили сургутские со всех сторон к ямщику.
Плетка и напористость служилых подействовали сильней грамотки.
– Все, Васятка, садись, поехали! – крикнул Пущин мальцу, крутанулся в тулуп и завалился в сани.
– Пошел! – послышался голос ямщика.
И сразу все ожило, зашевелилось, заскрипел под санями сухой от крещенских морозов снег.
Верховой проводник тронул коня и двинулся впереди обоза. Другой проводник, пропустив обоз, пристроился позади него. Подменяя впереди один другого, они повели его через промежуточные станы до следующего яма, до Тюмени.
Тюмень встретила сургутских колокольным перезвоном, под равномерные удары большого колокола на церкви Рождества. Ему вторили колокола на Никольской. Из острожка доносились голоса колоколов на звоннице церкви Всемилостивейшего Спаса.
Обоз пересек речку Тюменку, обогнул угол городской стены, завернул к проезжей башне. И сани друг за другом нырнули в темный проем ворот. Сургутские проскочили мимо двух караульных изб, приткнувшихся тут же к городской стене, и покатили к гостиному двору. Там они покидали на снег поклажу и отпустили проводников. Те развернули обоз и погнали лошадей в ямскую слободу, что раскинулась на другом берегу крохотной речушки Тюменки.
Здесь, в Тюмени, Пущин с Тренькой представились, как положено было им, государевым служилым, в съезжей избе первому воеводе боярину Матвею Годунову. Был в избе и второй воевода, Семен Волынский. Его родной брат, Степан Волынский, стоял в эту пору в Березове первым воеводой. А их двоюродный брат Федор Волынский был воеводой в Сургуте, начальным над ними, над Пущиным и Деевым.
«Однако не похож на того», – подумал Пущин, пожимая руку Волынскому; тот оказался много моложе его и обычной наружности.
Они передали воеводам грамоту с Москвы, их не стали ни о чем расспрашивать и отпустили.
В Тюмени Пущин всегда невольно подтягивался и веселел. Да как тут не веселеть-то? Это был шумный торговый городишко. Правда, на зиму он несколько затихал. Но все равно был полон людей, хотя постоянно в городке жило их не много. Кабака не было, а вот тюрьму построили сразу же. Так же как понаставили по городку служилые, татары, заезжие купцы и всякие инородцы лавок, прилавков, полок и амбаров. И столько, что не сыщешь в ином сибирском городишке. В Тюмени торговали все и всем…
От Тюмени до Тобольска они добрались быстро: всего за пять дней. На последнем стане, в Тарханском острожке, перед Тобольском, ямщик дал сургутским нового провожатого.
– Вот этот поведет вас дальше. Зубарев!
Проводник запоминался сразу же. Не походил он на обычного мужика, даже для вольной Сибири. Уж очень независимо взирали на белый свет, из-под низко надвинутого на лоб малахая, угольно черные, со странным блеском глаза… Мужик явно был с «лешим глазом».
«Такой и порешить может, – подумал Пущин. – Дорога дальняя, присматривать надо. Задремлешь, топориком тюкнет, ограбит и скроется. И никто не найдет его в этих краях»…
Проводник заметил, что он был всю дорогу начеку, и на прощание, уже в Тобольске, осклабился и крикнул ему: «А ты, сотник, пугливый!»
– Хе! Осторожливый! С таким, как ты, всегда надо быть на догляду!
– Пошто так?
– Дурной глаз у тебя!.. Зовут-то как?
– Ермошка.
– Ермак, значит.
– Не-е, Ермак был тут один! И потом, он-то не упустил бы тебя. Да и ты сам бы не захотел познаться с ним!
– Почему?!
– Ты опасливый, а он был смел… Ну, бывай, служилый!
Проводник наддал пятками по бокам коню, тот лениво тронулся с места, и он поскакал трусцой в Ямскую слободу.