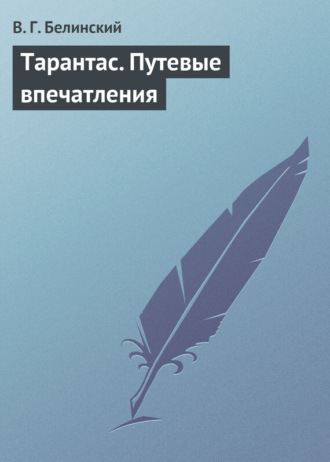
В. Г. Белинский
Тарантас. Путевые впечатления
Теперь пойдем за нашими героями в Москву, на Тверской бульвар и подслушаем некоторые отрывки из их разговора.
«– Откуда ты?
– Я был за границей.
– Вот-с! а где, коль смею спросить?
– В Париже шесть месяцев.
– Так-с.
– В Германии, в Италии…
– Да, да, да, да… Хорошо… а коли смею спросить, много деньжонок изволил порастрясти?
– Как-с?
– Много ли, брат, промотыжничал…
– Довольно-с.
– То-то… а батюшка-то твой, мой сосед, что скажет на это. Ведь старики-то не очень сговорчивы на детское мотовство… Да и годы-то плохие. Ты, чай, слышал, что у батюшки всю гречиху градом побило?
– Батюшка писал-с; я сам теперь к нему собираюсь.
– Хорошее дело старика утешить… А… смею спросить, какого чина?
– Так и есть! – подумал молодой человек. – 12 класса, – отвечал он, запинаясь…
– Гм… не важно… а уж в отставке, чай?
– В отставке.
– То-то же. Вы, молодые люди, вбили себе в голову, что надо пренебрегать службой. Умны слишком, изволите видеть, стали. – А теперь, коли смею спросить, что вы намерены делать-с… Ась?
– Да я хотел бы, Василий Иванович, посмотреть на Россию, познакомиться с ней.
– Как-с?
– Хотел бы изучить свою родину.
– Что, что, что…
– Я намерен изучить свою родину.
– Позвольте, я не понимаю… Вы хотите изучать?..
– Изучать мою родину… Изучать Россию.
– А как же это вы, батюшка, будете изучать Россию?..
– Да в двух видах… в отношении ее древности и в отношении её народности, что, впрочем, тесно связано между собой. Разбирая наши памятники, наши поверья и преданья, прислушиваясь ко всем отголоскам нашей старины, мне удастся… виноват, нам… мы, товарищи и я… мы дойдем до познания народного духа, нрава и требования, и будем знать, из какого источника должно возникать наше народное просвещение, пользуясь примером Европы, но не принимая его за образец.
– По-моему, – сказал Василий Иванович, – я нашел тебе самое лучшее средство изучать Россию – жениться. Брось пустые слова да поедем-ка, брат, в Казань. Чин у тебя небольшой, однако офицерский. Имение у вас дворянское. Партию ты легко найдешь. На невест у нас, слава богу, урожай… Женись-ка, право, да ступай жить с стариком. Пора и об нем подумать. – Эх, брат, право – ну! Ты ведь думаешь, в деревне скучно? Ничуть. Поутру в поле, а там закусить, да пообедать, да выспаться, а там к соседям… А именины-то, а псовая охота, а своя музыка, а ярмарка… А? Житье, брат… что твой Париж. Да главное, как заведутся у тебя ребятишки, да родится у тебя рожь сам-восём, да на гумне столько хлеба наберется, что не успеешь молотить, а в кармане столько целковых, что не сочтешь, так, по-моему, ты славно будешь знать Россию. А?..»{4}
Видите ли: не правы ли мы, сказав, что при этом миньятюрном дон-Кихоте, Иване Васильевиче, автор назначил Василию Ивановичу роль не Санчо-Пансы, а олицетворенного здравого смысла, который, впрочем, и не подозревает ни мало, что он – здравый смысл? – Мало этого: Василий Иванович, в отношении к Ивану Васильевичу, не только олицетворенный здравый смысл, но и олицетворенная ирония. Все, что ни говорил он ему, можно перевести так: знаем мы вас, голубчики! вы и модничаете, и умничаете, и ездите за границу, проматываетесь и дома и на чужбине, и подымаете нос кверху перед нами, степными медведями, – а ведь кончите же тем, что сами омедведитесь не лучше нашего, и в законном сожительстве с какою-нибудь Авдотьею Петровною, с кучею детей, разъевшись, разоспавшись и растолстев, от полноты сердца будете говорить: «В деревне скучно? Ничуть! Поутру в поле, а там закусить, да пообедать, да выспаться, а там к соседям… А именины-то, а псовая охота, а своя музыка, а ярмарка… А?.. Житье, брат… что твой Париж!» Если б Василий Иванович был хоть немного философски образован, он мог бы прибавить к этому: как ни заносись, мой милый, а действительность возьмет свое, – и быть тебе не рыцарем, не философом, не реформатором, а помещиком, да еще женатым на какой-нибудь Авдотье Петровне, которая смолоду болтала по-французски, а в летах будет держать девичью в страхе не хуже моей Авдотьи Петровны. Я же тебя знаю: ты боек только на словах, а натурка твоя жиденькая, и ты спасуешь перед прозою жизни, даже и не попытавшись побороться с нею!.. Конечно, Василий Иванович и не думал иронизировать, и сам не подозревал глубокого смысла своих слов; но ведь он – бессознательный, непосредственный здравый смысл; он умен, как действительность, как природа, которая никогда не ошибается, но которая сама не знает ни того, что она разумна, ни того, как она разумна, ни даже того, что она существует… Да и зачем Василию Ивановичу сознание? он силен и без него – большинство, толпа, словом, действительность за него; а на стороне Ивана Васильевича только слова и фразы. Если хотите, на лестнице нравственного совершенства последний стоит несравненно выше первого; но по особенному исключительному свойству действительности, среди которой оба они живут, – в сущности оба они сходят на нуль. Один, как медведь, мечтает, идя по Тверскому бульвару, о московских удовольствиях: «В самом деле, как подумаешь, Английский клуб, Немецкий клуб, Коммерческий клуб, и все столы с картами, к которым можно присесть, чтоб посмотреть, как люди играют большую и малую игру. А там лото, за которым сидят помещики, и бильярд с усатыми игроками и шутливыми маркёрами. Что за раздолье!.. а цыгане-то, а комедии-то, а медвежья травля меделянскими мордашками у Рогожской заставы, а гулянья за городом, а театр-то, театр, где пляшут такие красавицы, и ногами такие вензеля выделывают, что просто глазам не веришь…» Другой, как попугай, мечтает о парижских удовольствиях: «Господи, боже мой, как жаль, что так мало здесь движения и жизни… Nel furor!.. то ли дело Париж… della tempesta[5]. Ах, Париж! Париж! Где твои гризетки, твои театры и балы Мюзера… Nel furor. Как вспомнишь: Лаблаш, Гризи, Фанни Эльслер, а здесь только что спрашивают, какой у тебя чин. Скажешь: губернский секретарь – никто на тебя и смотреть не хочет… della tempesta!» – Что за странная пустота, что за странное ничтожество в чувствах этих двух представителей двух веков!..
Мы не будем распространяться о дивном экипаже, по имени которого названо новое сочинение графа Соллогуба, о сундуках, сундучках, коробках, коробочках, бочонках, которыми этот экипаж загроможден и увязан снаружи, о перинах, тюфяках, подушках, которыми он завален снутри: скажем только, что талант автора неподражаем в отношении всех этих подробностей. Тарантас готов двинуться: наконец явился и Иван Васильевич.
«Воротник его макинтоша был поднят выше ушей; подмышкой был у него небольшой чемоданчик, а в руках держал он шелковый зонтик, дорожный мешок с стальным замочком и прекрасно переплетенную в коричневый сафьян книгу со стальными застежками и тонко очинённым карандашом.
– А, Иван Васильевич! – сказал Василий Иванович. – Пора, батюшка. Да где же кладь твоя?
– У меня ничего нет больше с собой.
– Эва! да ты, брат, эдак в мешке-то своем замерзнешь. Хорошо, что у меня есть лишний тулупчик на заячьем меху. Да-бишь, скажи, пожалуйста, что под тебя подложить, перину или тюфяк?
– Как? – с ужасом спросил Иван Васильевич.
– Я у тебя спрашиваю, что ты больше дюбишь, тюфяк или перину?
Иван Васильевич готов был бежать и с отчаянием поглядывал со стороны на сторону. Ему казалось, что вся Европа увидит его в тулупе, в перине и в тарантасе» (стр. 20).
Да, было от чего в отчаянье притти! И вот в чем состоит европеизм господ вроде Ивана Васильевича. Этим людям и в голову не входит, что если в Европе все стремятся к опоэтизированию своего быта, – зато никто, при недостатке, при перевороте обстоятельств, при случае, не постыдится, ни сесть в какой угодно тарантас, ни вычистить себе при нужде сапоги. Этого рода европейцев, в отличие от истинных европейцев, не худо бы называть европейцами-татарами…
Ивану Васильевичу было грустно, но делать нечего. Он промотался по-русски и нашел случай доплестись до дому, притом же дорогою он может изучать Россию и вести свои записки… Все бы хорошо. «Но эта неблагородная перина, но эти ситцевые подушки, но этот ужасный тарантас!..»
В самом деле ужасно!..
«– Василий Иванович?
– Что, батюшка?
– Знаете ли, о чем я думаю.
– Нет, батюшка, не знаю.
– Я думаю, что так как мы собираемся теперь путешествовать…
– Что, что, батюшка… какое путешествие?
– Да ведь мы теперь путешествуем.
– Нет, Иван Васильевич, совсем нет. Мы просто едем из Москвы в Мордасы, через Казань.
– Ну, да ведь это тоже путешествие.
– Какое, батюшка, путешествие. Путешествуют там, за границей, в Немечине; а мы что за путешественники? Просто – дворяне, едем себе в деревню».{5}
О Василий Иванович! О великий практический философ, отроду не философствовавший! Как, с своею безграмотностью, как умнее ты этого полуграмотного фертика! Потому умнее, что как бы ни были грубы твои понятия, их корень в действительности, а не в книге, и, верный степовому началу своей жизни, ты знаешь, что в степях ездят по делам и по нужде, а не из любопытства, не для изучения! Ты называешь все вещи их настоящими именами, месяц называешь просто месяцем, а не воздушною или небесною ночною лампадою! Ах, если бы знал ты, как умен твой глупый ответ: «Мы не путешествуем, а едем из Москвы в Мордасы; мы не путешественники, а просто дворяне, едем себе в деревню»!..







