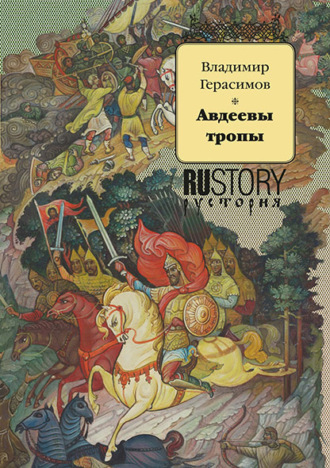
Владимир Герасимов
Авдеевы тропы
– Урусы! Урусы!
Это выкрикивалось монголами коротко со страхом, и Владимир понял, что где-то близко наши. Сердце бешено заколотилось. Хотелось прыгать, кричать от радости. Но от костров к нему уже бежали монголы, и первым Джубе. Сжал княжич горячую Настёнкину руку и прокричал ей: «Беги!» Он подтолкнул её за юрту, а сам побежал в другую сторону. Все силы, которые накопились в нём за время выздоровления, отдавал он этому бегу. Он слышал, как сзади тревожно визжали монголы. Ему казалось, что он бежал очень долго и быстро. Слышал своё прерывистое дыхание и ещё тихий голос погибшего воеводы Филиппа Нянки, который заклинал: «Возмоги, княже, возмоги». И ему казалось, ещё немного и…
И тут будто небо обрушилось ему на голову. Страшная сила остановила княжича и повалила его наземь. Горло сдавило так, что он задохнулся. Ему хотелось избавиться от этого удушья, но пальцы нащупали на шее безжалостную твёрдую петлю аркана. В сознании мелькнуло, что теперь всё бесполезно, и мир вокруг померк.
Харитинья
Избушка Харитиньи притулилась к крутому валу у Волжских ворот Владимира. Сама она, подобно Харитинье, старенькая, невидная. Крышу летом проливает, а зимой холодный ветер пробивает её насквозь. Люди удивляются, как до сих пор избёнка не развалилась. Но некому у Харитиньи поправить её. Был когда-то муж, охранял Волжские ворота. Шальная стрела унесла его на тот свет. Были и дитятки, которые младенцами примёрли. Один сынок до отрочества дожил. Уж она его любила, лелеяла, да не сберегла. Вышел как-то за ворота крепостные гулять, к Клязьме, да так и не вернулся. Искали его, искали – всё тщетно. То ли утонул, то ли лихие люди забрали, бог ведает. Долго Харитинья с мужем горевали и не знали, то ли за здравие, то ли за упокой молиться. После смерти мужа Харитинья уже всех за упокой поминает. И себя она приготовила к скорому отходу в мир иной. Да и что держало её на этом свете? По нужде, для прокорма, она сажала около дома репу, морковь… Держала козу, но вот только тяжело стало даже сено запасать. Ноги болели. По осени да в первозимье кормила козу яблоками, которые росли у дома видимо-невидимо. Запасала их впрок и хранила, подкармливала козёнку. А там уж приходил черёд и сенца. Ну а сколько радости было у них, когда по весне первая травка высыпала! Тут радовалась Харитинья и солнышку, и теплу.
Давно уж подумывала Харитинья взять на постой кого-нибудь и для помощи, и для того, чтобы, если придёт смерть в одночасье, похоронили её. Да никто не шёл в её развалюшку. И вот как-то перед Рождеством постучались двое: мужик да бабёнка. Молодые. У мужика в глазах печаль, а бабёнка какая-то чудненькая. То ревёт, то хохочет взаходы, то начинает что-то непонятное бормотать и махать руками. Мужик просится на постой. Уж не знает Харитинья, что и сказать. И надо бы постояльцев, и боязно чего-то.
– Жёнка-то не порченая? – решила она спросить напрямик.
– Нет, – наклонил голову мужик, и желваки у него заходили, – умом тронулась малость моя Марфуша. Да горе-то у нас такое, что дивлюсь, как сам я головой не повредился. Украли у нас басурмане дочку единственную. Да что говорить! – махнул мужик рукой. – Никак не выплачем мы это горе.
– Охти, батюшки! – вскрикнула Харитинья. Как же похоже всё это на её судьбу. Дрогнуло сердце, вспомнив вроде уже затянувшуюся рану, забилось часто-часто.
– Да ты, бабушка, не бойся. Марфа моя тихая. Просто переживает тоже: ведь второй день ходим, никуда не приткнёмся. Жалеют люди, да у каждого припасены разговоры про свои невзгоды. Никто не берёт к себе.
– Никто не берёт, а я возьму! – решительно и твёрдо ответила Харитинья, вся неуверенность её пропала.
Мужика аж оторопь взяла от такого неожиданного поворота дела. Он уже готов был уходить. А тут инда задрожал от радости:
– Бабушка, да я для тебя всё сделаю. Маменькой буду считать тебя. Да и Марфа не в тягость тебе будет: что скажешь, она сделает. Она всё порой понимает, только совладать с собой не может.
– Да мне многого не надо, – всхлипывала Харитинья и вытирала ладонью слёзы. На козу летом сенца запасти да избёнку поправить. А я уж за твоей женой пригляжу.
Уж не первый месяц живут Авдей и Марфа у Харитиньи, и рада она радёшенька, что бог ей послал хороших постояльцев. Первое время ходил Авдей ставить силки в ближнем леске за крепостными стенами. Было у них мясцо свежее. А потом опасно стало ходить. Наезжали монгольские отряды, постреливали. Пошёл Авдей в городе работу подыскивать. И нашёл-таки: тушки свежевать и шкурки выделывать. В этом деле он был горазд.
Забыла Харитинья, что недавно к смерти себя готовила. Надо было к приходу Авдея обед сварить да и постирать. Помогала ей и Марфа. Любила она и порядок в избе наводить. Когда спокойная, она вроде всё понимает, всё разумеет. А уж когда разволнуется, как будто в туман уходит. Как-то привёл Авдей брата её, Иванку. Тот её целовать, обнимать, разглядывать. А она закрывается руками от него, убегает, визжит. Посмотрел Иванка на всё это, встал на колени, начал рвать свои седые волосы:
– За что, Господи, за что? – а у самого из глаз слёзы. Да неужто нет у Бога милости? Сколько же злодейств должны совершить поганые, чтобы земля разверзлась под ними? Неужто не переполнилась чаша Господня?
Разве могла тут сдержаться Харитинья от слёз. Она так близко принимала горе этих людей, что стала считать их своими детьми. Да и Авдей называл её маменькой.
Посмурнел Авдей, когда всё больше и больше стали ходить по городу разговоры, что монголы ходят окрест, не боясь, и ставят вокруг города свои палатки.
– Не могу я, маменька, заниматься шкурками. Сердце у меня стонет, и рука зудит на поганых. Ведь я стрелок хороший. Оружие в руки хочется взять.
Рассказал Авдей про своё томление Иванке.
– Тебе надо бы к нам в дружину, мужик ты крепкий и на стрельбу привычный.
– Да примут ли меня? – засомневался Авдей. – Ведь я не владимирский, а это всё-таки княжеская дружина.
– Я пойду к воеводе, расскажу о твоей судьбине, вымолю, – ответил решительно Иванка. – Время теперь тяжёлое, вот-вот татаровье полезет на приступ. Да в дружине не только владимирские. Есть и юрьевские, и муромские, и яропольские.
– С Ярополча? – обрадовался Авдей. – Я ведь сам оттуда взят. Там живёт дядька и браточады[8]. Кто таков ярополец-то?
– Да больно-то я не ведаю, – ответил Иванка, – увидишь, так спросишь.
После этого разговора Авдей стал ждать вестей от Иванки о решении его судьбы. А Харитинья одобряла это Авдеево решение идти в дружину, но на сердце у неё было тяжело. Привыкла она к Авдею, сроднилась с ним, а ратное дело – опасное. Дурная стрела – и всё. Что они с Марфой делать будут: одна ногами, другая разумом слаба? Останется тоже погибать. Конечно, есть добрые люди, но сейчас всем до себя. Враги не смогут ворваться во Владимир, но, коли осадят они надолго крепость, трудные времена придут. Кто-то и не доживёт до того времени, как приедет великий князь Юрий Всеволодович с войском и развеет поганую нечисть.
Сказал Авдей о своём желании идти в дружину и Марфе. Та разволновалась, хмурила брови, топала ногами, как будто давила какую-то гадину, и потом обнимала Авдея, и они с Харитиньей решили, что Марфа одобрила его желание.
Как-то зашёл в избу весёлый Иванка с вестью, что был он у воеводы, тот свёл его с княгиней, и та твёрдо обещала, что Авдея примут в дружину. Посулила она обрядить их.
Авдей от радости аж подскочил на лавке и больно ударился о притолоку. Сграбастал он Иванку, и заходили они в обнимку по избе. Но тут на шум из кухоньки выглянула Марфа. Увидела, что они братаются, подскочила к Иванке и замолотила его кулаками по спине с криком:
– Тать! Рязанец! Убирайся!
Все удивились тому, что Марфа неожиданно заговорила, впервые с того вечера в деревне, как узнала, что Настёнка украдена. Авдей подбежал к ней:
– Марфа, Марфа! Ты выздоровела?
Посмотрела жена на него как бы прозревшим взглядом и заплакала. Кинулся к сестре Иванка. Но она отпрянула от него.
– Это он украл нашу Настёнку! Он, проклятый рязанец!
Харитинья:
– Марфа, это твой брат Иванка!
Жена удивлённо посмотрела на Авдея, как будто на сумасшедшего:
– Какой же это Иванка? Иванка маленьким был.
– Марфинька, я вырос! Вот он я какой стал, – потянулся Иванка к Марфе со слезами на глазах.
Отпрыгнула Марфа от него и закричала с отчаяньем:
– Авдей! Он убьёт меня! Он убил моего братца, дочку нашу! Выгони его!
Видя, как взволновалась Марфа, и что она никак не может успокоиться, Иванка накинул шубёнку и молча вышел из избы.
Авдей и Харитинья не знали, что и делать. Радость оттого, что Марфа заговорила, омрачилась, и на душе было тошно и пусто.
А Марфа подошла к двери, послушала и облегчённо выдохнула:
– Слава богу, этот злодей ушёл.
Сколько раз потом Харитинья пыталась говорить с Марфой про Иванку! Она оживлялась, рассказывала, как они с братом в детстве играли, что она любила котят, а Иванка щенков. Харитинья пыталась спрашивать, где теперь Иванка. Марфа хмурилась и резко отвечала:
– Спроси у рязанца, что приходил. Он братца убил.
В остальном Марфа казалась здоровой – и в разговорах, и в делах, и в поступках. Не нападает на неё неожиданный смех. И плачет только, когда пригорюнится, вспоминая дочку. Но лишь стоит показаться Иванке, как опять крик, руки дрожат, глаза навыкат.
Не стал Иванка больше входить в избу, чтобы не расстраивать сестру. А сам переживает – не высказать.
Как-то привёл Авдей плечистого бородатого дружинника. Оказалось, что это его браточад Светозар, меньшой сын дядьки. Дядька уже давно умер. Другие Светозаровы братья обзавелись семьями: кто хлебопашествует, кто в крепости служит. А сам Светозар решил постранствовать подобно Авдею, вот так и во Владимир попал.
Марфа приняла Светозара радушно. Расцеловалась, посадила за стол, выслушала все его речи, рассказала про себя, но ни разу не упомянула про рязанца.
Когда Светозар ушёл, Харитинья спросила Марфу:
– А если бы Иванка вырос и пришёл к тебе?
Марфа задумалась и пожала плечами:
– Ах, если бы Бог сделал это.
– А если бы ты его не узнала? – допытывалась Харитинья, как бы между прочим, похлёбывая щи.
Марфа напряжённо морщила лоб и молчала.
Воевода Пётр Ослядюкович
Вот уже вторые сутки ни поспать, ни помолиться, ни поесть как следует ему не удаётся. В глазах то чёрные круги, то красные всполохи. Даже засыпается на ходу. Встряхиваешь головой и не поймёшь: что наяву, а что привиделось. Вся жизнь как перевернулась. Кажется, нет разницы между днём и ночью. Беготня, заботы, тревоги. Сумерек и в помине нет. Всюду трещат светочи: и на крепости, и по улицам. Всюду в городе перестук кузнечных молотов. Да и спят-то не по избам, как положено, а прямо на снегу, не боясь ни морозов, ни простуды. Идут по делам и вдруг опускаются наземь, и вот уж храп. Но не долог сон. Вскакивают и бегут дальше. И никого это не удивляет, как будто так и надо. Это как провалы сознания во время тяжкой болезни. Живёшь и не ведаешь, что неправильно всё.
Невесть откуда налетели бесчисленные отряды поганых. Бывает летом, в ненастье, опустятся серые тучи и крапает дождь день, неделю, две недели. И кажется, что уж и солнце вообще больше на землю не придёт. Так и тут: вначале думалось, что постоят незваные гости денёк-другой перед закрытыми воротами да и уберутся восвояси. Первое время и страху-то не было. Ходили горожане на крепость смотреть тьму-тьмущую и дивоваться. А те и не обращали внимания на любопытных, редко-редко стрела просвистит. По-хозяйски устраивались, раскидывали свои войлочные избы, окружали город. А потом начали вокруг Владимира тын возводить. Валили в лесу деревья и тащили лошадьми к подножью крепости. Перед каждыми воротами ставили невиданные сооружения. Вот эта паучья деловитость начинала пугать. Поняли владимирцы, что для пришельцев не диво их мощные стены. Копошились они внизу, как муравьи, но дело своё знали. Тут-то и пошёл по городу переполох, бабьи вопли, беготня, несуразица. Каких только страстей не услышишь! Прибегали заполошные, кричали, что у Серебряных ворот, мол, чёрная стая галок налетела, а как на землю опустилась, то превратилась во вражеских воинов. Бегают они, размахивают кривыми мечами и всех убивают. Тут приходилось всё бросать, прыгать в возок и мчаться на другой конец города… Конечно же, ничего подобного не случалось, но пущенный слух, как огонь по сухой траве, полз, поджигая всё вокруг, не затопчешь его. Пять ворот во Владимире, и отовсюду тревожные слухи, как холодные ветра, продувают душу.
Сидит Пётр Ослядюкович в думной гриднице. В тусклые окошки уже еле пробивается свет. Дело к вечеру. В углах сгустилась темнота. Дал воевода своему грузному уставшему старому телу покой, короткий, случайный. Сейчас прибегут, позовут, и снова забота какая-нибудь захлестнёт. Ох, тяжко, тяжко! Не молод и на ногу не скор. Хворости одолевают: то сердце защемит, то одышка остановит. Тут уж, коли не присядешь, то падай замертво. Куда уж с шестым-то десятком разворачиваться! А всё один, даже не с кем посоветоваться. В мирное-то время думная гридница всегда была полна бояр, сидят на скамьях, толкаются, не зная, зачем. Жара, духота, брань, крики. Каждый своё кричит, да стараются друг друга переорать. А нынче кто успел – удрал из Владимира, а кто остался – в теремах своих попрятались. На совет на аркане не затащишь. Мол, ты, воевода, отдувайся один. Ну, ладно, оборону он организовал вроде, как всегда. За врагом следят – не обманет. Но только вот такой осады, как сейчас, никогда не было. Обкладывают так, чтоб наверняка. И что за племя такое бесовское! Прислонился воевода седой головой к стене, прикрыл глаза, и провалилось сознание в тёмное забытьё.
…Огоньки, огоньки мигают, и всё ближе они и ближе. И вдруг огромная чёрная птица прямо на него опускается. Вместо перьев острые мечи в крыльях. Машет она крыльями по воздуху, и свист от мечей всё громче и страшней. Клюв её превращается в узкую бородку. Над ней открытый кроваво-красный рот, клыки, а глазища пронизывают насквозь. Вот она налетает, толкает. Сейчас мечи вонзятся в тело и всё…
Дёрнувшись, с выкриком воевода открывает глаза. Голова раскалывается от боли. Во всём теле тяжесть пудовая. А перед глазами всё, как в дымке… Слышен чей-то голос, а кто говорит и что – никак не различить. Встряхнул головой Пётр Ослядюкович, провёл ладонью по глазам, будто снимая пелену, и увидел перед собой княжича Мстислава, возбуждённого, с пылающими глазами.
– Что сидим, чего ждём? – ломающимся полумальчишеским, полумужским голосом повторяет он. Недавно, наверное, с год, играл ещё со своим племянником и вот уж жаждет настоящей битвы, гневается.
– Княжич, охолонись, – только и может ответить, придя в себя, воевода. – Бог даст мудрого решения.
Но Мстислав ещё больше взвивается:
– Богу-то молельщиков много, а каков прок! Я сейчас от брата Всеволода. Обезумел брат. Хочет в монахи постричься. Я говорю, что поганые у самых стен, а он – на коленях перед иконами. Не тронусь, – молвит, – отсюда никуда. Не враги это, – говорит, – а испытание Господне. Коли они возьмут град, то значит, так Господу угодно.
Да, странное случилось с Всеволодом. Возвратился он с дружиной из-под Коломны, и будто подменили его. Нигде не показывается, а на военном совете сидит, будто и нет его. И это сейчас, когда опасность у ворот. Он – опытный воин. Ходил с дружиной. Были поражения, но были и победы. Дружинники в него верят и уважают за храбрость и мужество. И вот он, Всеволод, в тяжкую для города пору забыл обо всём и молится, спасая свою душу. Да, надо просить Бога о победе и спасении. Но если тебе дано держать в руках меч, то и держи. Вот Мстислав ещё мальчишка, а понимает это, князь же Всеволод забыл о своём предназначении. Ведь за ним ответ перед великим князем Юрием. Выстоит град Владимир или сгинет – на совести Всеволодовой. Уехал великий князь на Волгу собирать войско для отпора нехристям. Встревожило его поражение коломенское. Уж больно удачливы враги. Город за городом падает под их ударами. И нет силы, которая бы надолго остановила их. Пора этой силе быть. За Владимир Юрий не тревожится. Крепость могучая. Никто ещё не гулял по его улицам.
– Не можно так, чего мы ждём? – снова взялся за своё Мстислав.
– Княже, – тихо молвил воевода, – взойди на крепость, поганых тьма-тьмущая, дай бог, отсидимся, иного не дано.
– Я не хочу, подобно мыши, прятаться в норе! – гневно крикнул княжич. И его голос был похож на крик молодого петушка, неокрепший, срывающийся. – Надобно послать за ворота отряд!
– Пошто идти на смерть?! – воеводу стало уже злить упрямство и безрассудство княжонка.
– Я сам пойду со товарищи. Надо показать поганым, что мы их не страшимся.
– А мне потом ответ держать за вас перед великим князем? – попробовал последний довод Пётр Ослядюкович. – Вам красивая смерть, а мне гнить до скончания лет в порубе по приказу великокняжескому?
– Я сам себе господин, я княжеского роду! Что хочу, то и буду делать, – в голосе Мстислава слышалась надменность и опять-таки петушиный надрыв.
Не видно было в темноте лица и осанки Мстиславовой, но представлял воевода, что и похож тот сейчас на петушка.
– Охолонись, Мстислав… – только и смог ответить воевода.
Конечно, он понимал княжича. Для него это первая возможность показать себя. Молод, горяч. В его воспалённой голове только обряженные лошади, снаряжение, стук мечей, собственная неуязвимость и паническое бегство врага.
Не он ли, воевода, возбудил в юноше любовь к ратному делу? Ещё дитятей ходил Мстислав за Петром Ослядюковичем следом, и сажал тот его к себе на коня и приказал выковать для княжича маленький меч. Мальчишка очень гордился своим оружием, всюду ходил с ним. Играл с боярскими детьми в битвы. Пугал дворню, когда с гиком и присвистами нападали они на развешанное сушиться бельё. Мечом рубил верёвки и топтал упавшие наземь мокрые порты и рубахи, представлял, будто это поверженные враги. Не его ли, Мстислава, воевода учил, что надо не ожидать, когда враг нападёт, а нужно застать его врасплох? И вот теперь, когда и сила у княжича в руках, и враг, вон он, за воротами – теперь говорит совсем иное. Но разве всё на свете предугадаешь? Что сказать? Как оправдаться? Но не будет слушать Мстислав никаких оправданий. Стремительно повернулся, обиженный, и выскочил за дверь.
Душно и тошно. Вышел Пётр Ослядюкович вслед за Мстиславом. В сенях опахнуло холодным воздухом. Дремота ушла, как и не бывало. Только вот ноги тяжелы. Да из души сквознячок не выветрил предчувствие беды. А она как будто и ожидала помина. Наверху, на крепостной стене, как будто разом все ахнули, и вслед за этим последовали бабий крик, стоны рыдания. За последнее время Пётр Ослядюкович привык ко всему этому, но то, что случилось сейчас, наверное, очень страшно. Он остановил бежавшую навстречу девку, княгинину служанку:
– Что?! Что там?!
А служанка рыдала и не могла слова вымолвить, закрывая ладонями скривившийся рот. Воевода тряхнул её и гневно выкрикнул:
– Что содеялось? Говори!
– Там… там… – девка задыхалась и хватала ртом воздух, – там княжич Владимир…
Пётр Ослядюкович не верил своим ушам. Сейчас всяко может случиться, ко всему надо быть готовым. Но причём тут княжич Владимир? Он был в Москве. А уж Москва давно пала. Как княжич за столько вёрст может оказаться в столице? А если он появился, чего ж тут реветь?
Он отпустил девку и побежал к Золотым воротам. Ни сердца не чуял, ни одышки. Уж как, не знает, одним духом одолел винтовую лестницу и оказался наверху, на стене. Все, кто здесь был, затаив дыхание, замерли и смотрели вниз в поле, где скучились на конях татары. А между ними, спутанный верёвками, стоял юный княжич Владимир. Сверху не было ясно видно его лица, но обличье и стать были Владимировы. Он стоял босой. На нём не было ни шубы, ни шапки. Только рубаха и белые порты. Он стоял и, подняв голову, смотрел на владимирские стены, на осаждённых, на Золотые ворота – на всё это родное и любимое. Смотрел и улыбался. А татары что-то кричали, указывая плётками то на него, то на осаждённых. Сколько времени прошло, уж и не чуял воевода. Он только не мог отвести глаза от этого зрелища. Затем татары подъезжали и избивали княжича плётками. А он всё равно стоял и смотрел на родной город. Потом повернулся к Золотым воротам, опустился на колени и перекрестился, глядя на крест надвратной церкви. Тут татары завизжали, у кого-то из них в руках сверкнула сабля, и… голова княжича упала на снег, который тотчас же покраснел от крови. Безголовое тело качнулось и рухнуло. Всё это произошло так быстро, что казалось неправдоподобным.
Всё кругом наполнилось ещё большим стоном и плачем. Казалось, что весь город оплакивает юного княжича. Как же это страшно! Мгновенье назад стоял он живой, окидывая взглядом родной город, а теперь его нет. Уж к чему-чему, а к этому воеводе вроде не привыкать. Видел много смертей, и самому приходилось убивать. Но это в схватке, в бою, когда не видишь ничего вокруг, не осознаёшь. Только сверкают мечи, и голова полна задора. А тут… Тяжело смотреть на Агафью Всеволодовну. Ведь в мыслях давно, может быть, похоронила сына, почти смирилась, и вдруг увидела, как бы воскресшим из мёртвых. Как в страшном сне всё. Но не плачет княгиня, смотрит на белый платочек в руке:
– Он же белый, смотрите, белый! Жив Володюшка! Жив!
Она растерянно оглядывает всех, плачущих и стенающих:
– Зачем вы так? Не умер княжич, не умер! Просто упал, споткнулся!
А воеводу толкает в бок запыхавшийся, растерянный дружинник:
– Мстислав с дружиной в поле выехали из Золотых ворот.
Воевода – к заборолу[9]. И точно. Скачет на коне в развевающемся красном княжеском плаще Мстислав с небольшим отрядом. Размахивают дружинники саблями, гикают. А у воеводы сердце захолонуло, дыхание остановилось. Ведь на гибель неминуемую спешат. Заглатывает их в себя огромная копошащаяся вражеская толпа. Вот проглотила, и как будто не было ни Мстислава, ни его товарищей. А на стене опять сумятица, плач. Последней каплей, что переполнила терпение Мстислава, была смерть брата перед воротами на глазах всего люда. Не выдержал княжич. И грех был бы его останавливать, подумал воевода… Да и было бы странным, если бы Мстислав равнодушно взирал на коварство поганых и если бы не распалилось его княжеское сердце. Одна кровь текла в жилах Владимира и Мстислава. И были почти ровесники, вот только разными стремлениями обуяны. Мало воевода знал Владимира, и не только оттого, что давно отвезли его в Москву, а оттого, что всегда сидел он за книгами и не влекло его, в отличие от Мстислава, военное искусство. Но вот уже обоих нет на белом свете. А Агафья Всеволодовна ещё не осознала этого до конца, всё комкает в руках белый платочек, но уже ничего не говорит. Застыла, будто бы в ожидании ещё чего-то.
Бог послал княгине страшные испытания. Третий её сын Всеволод оказался в чистом поле, беззащитным, вне стен города. Он неторопливо шёл в белой рубахе с крестом в вытянутой руке. Один-одинёшенек без надежды на спасение. Татары окружили его. Шли рядом, не решаясь рубить. Воевода слышал, что уважают они русского бога и священнослужителей с крестами не трогают. Боятся, что рассердится русский бог и покарает их за дерзость. Сверкал ярко-золотой крест в руках Всеволода и охранял его жизнь. Шёл молодой князь, не ведая куда и зачем. И всё-таки взял кто-то на свою душу грех, отпустил тугую тетиву… Пошатнулся Всеволод, выронил из рук крест, и больше владимирцы не видели князя.


