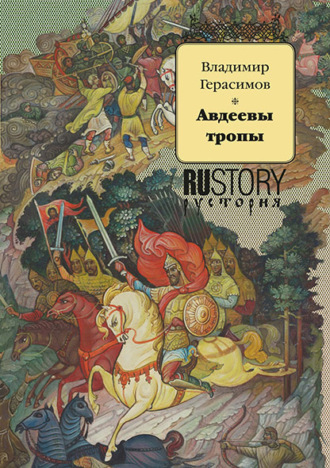
Владимир Герасимов
Авдеевы тропы
Авдей
Как так получилось, что он остался живым, не понимает Авдей. Кто упал, пронзённый вражьей стрелой, как Иванка, кто сгорел в храме, как княгиня. Да и самого города Владимира почти что нет. Зола летит вокруг вперемешку со снегом. Дома сгорели. Только высятся обожжённые почерневшие храмы, да Золотые ворота стоят непобеждённым великаном. Вместе со Светозаром лезли они во все опасные места.
Много горя навалилось в эти три дня на Авдея. И особенно тяжко было, когда прибежала, едва найдя его, растрёпанная, обезумевшая Харитинья в обгоревшей одежде и, бросившись к его ногам, завопила, что Марфа сгорела вместе с домом. Понял Авдей, что не для кого теперь жить и что надо умереть, побольше уложив мерзких врагов, которые разбили всю его спокойную размеренную жизнь, превратив её в непрерывную цепь потерь и страданий. Он не помнил себя, им овладела слепая охотничья жажда выискивать и убивать, и убивать. Если он не доставал мечом до жертвы, натягивал лук, и стрела точно ложилась в мишень. Он даже не метился. Он замечал краем глаз басурманина, руки молниеносно вкладывали стрелу и… Всё было отработано за много лет охотничьей жизни.
Рядом с Авдеем бился Светозар. Они старались быть вместе. Много раз Светозар спасал Авдея от вражеского удара, но сам не сохранился. Авдей очнулся от забытья боя, когда услышал, как вскрикнул и застонал браточад, навзничь падая на землю… Бросился Авдей к нему: неужто последняя родная душа покинула его! Нет, жив Светозар, но только парит на морозе большая рубленая рана на боку, и кровь вытекает, смешиваясь с грязным затоптанным снегом. Сбросил Авдей тулуп, сорвал с себя рубаху и даже не почувствовав холода, надел тулуп на голое тело. Разорвал рубаху, замотал рану, чтобы кровь не выходила, и поволок его в сторону, отбиваясь по пути от наседавших с саблями монголов. Хотелось ему, чтоб остался жив Светозар, чтоб не затоптали его вражеские сапоги, чтобы не издевались над ним, беспомощным, враги и чтоб, если бы ему и пришлось умереть, то скончался бы он тихо и спокойно. Затащил Авдей раненого за какой-то полусгоревший дом, присел рядом передохнуть. Закрыл на мгновение глаза: ведь он не спал уж трое суток, и сознание его провалилось в какую-то чёрную яму.
Когда он очнулся, кругом стояла тишина. Это его поразило. Сколько времени прошло, он не ведал. Было светло. Светило даже солнце, весёлое и слепящее. Авдей наклонился к браточаду. Светозар был мёртв. Рот его приоткрылся. Широко раскрытые глаза тусклы. Авдей встал на колени, перекрестился и хрипло произнёс: «Господи, упокой душу усопшего новопреставленного раба Твоего Светозара». От выступивших слёз свет преломился, и солнце разлетелось на тысячу маленьких солнц. Авдей зарыдал. Рыдания сотрясли его, как колотун. Он оплакивал всю свою разнесчастную судьбу, и ему всё яснее становилось, что оставаться теперь живым совершенно незачем. Он опёрся о свой меч, встал и поплёлся туда, где ждали его враги. Но как ни бродил он среди сгоревших домов, между крепостных руин, никто ему не повстречался. Авдей ничего не понимал. Что случилось за то время, когда он спал? Или, может быть, он сам умер и попал в царство мёртвых? Но почему же все мертвы, а он один живой? Почему ни одного живого человека, пусть даже врага, нет в этом мёртвом городе? Тихо и страшно. Неужто он так долго спал, что за это время кончился бой и враги ушли? Сколько он спал: день, два, три – как теперь узнаешь? Хотел он похоронить Светозара, но ходил и не смог найти тот полуразрушенный дом, за которым навек успокоился браточад. Всё кругом было порушено, и повсюду лежали тела убитых. Измучился Авдей, присел у какого-то пепелища, у тлеющих ещё углей. Из последних сил притащил он к пепелищу досок, сухих веток и разжёг костерок.
– Господи, помоги, не остави… – бормотал он, держа над костром руки, и чувствовал, как тепло пробирается во все члены. Какая-то чёрненькая собачонка, скуля и озираясь на него, подбиралась к костру.
– Иди, иди, погрейся, сердешная, не бойся.
Значит, не один день проспал он, если за это время всё успело сгореть, что даже собака не может найти себе огня в сгоревшем городе, чтобы погреться. Или, может быть, она ищет живых людей, не понимая того, почему кругом всё вымерло? Город, где было столько народа, столько домов, столько запахов, теперь пахнет острой гарью и смертью. Это собаке было непонятно. Да что собака? Непонятно было и Авдею, почему Бог допустил до такого разора. Хуже этого быть не может. Что это за племя такое монгольское? Быстрые и многочисленные, как муравьи, разорили и тут же пропали, как будто их и не бывало. Цветущий огромный город в несколько дней превратился в кладбище. Откуда же у них такая сила великая? И почему православный Бог не помешал разбою? Или, может быть, прав был князь Всеволод? Говорили, что он после того, как Авдей видел его молящимся в своей избе, приехавши во Владимир, отказался брать в руки оружие, говоря, что не надо противиться Божьему наказанию. Ведь истинно это вражеское нашествие – что-то сверхъестественное. Никогда ещё Авдей не видел, чтобы так можно всё разорить. Да солнце-то что же такое весёлое и яркое? Лучше бы снег пошёл и скрыл под собой всё это обгорелое, мёртвое.
Согрелся Авдей, и тоскливо ему стало, одному-одинёшенькому, и как вот этому бездомному псу, захотелось прибиться куда-то к живым людям. Не может же быть, чтобы все были мертвы. Вот ведь он живой, значит, ещё есть где-то уцелевшие. Может быть, прячутся, может, тоже ищут кого-нибудь? Он встал и тихонько побрёл. Собачонка тоже вскочила на ноги, встряхнулась и засеменила за Авдеем. Шёл Авдей и склонялся к мёртвым телам: вдруг среди них окажутся раненые. Но живых не было, и чем больше он ходил, тем тревожнее и тяжелее было на душе от чего-то необъяснимого. И догадка пришла, и от неё сердце заколотилось, и во рту стало сухо. Сколько он ни ходил – нигде не было ни одного вражеского трупа. Что такое? Ведь он сам, своими руками и мечом, уничтожил не один десяток монголов. Куда они девались? Растаяли, что ли? Ведь они были! Были! Это он точно знал. Упрямо шёл всё вперёд в надежде найти хоть одно вражье тело, но тщетно.
Вдруг он явственно услышал голоса. Встал, прислушался – сердце захолонуло от радости. Быстрее выскочил из переулка. Около обгоревшего дома возилось несколько человек: женщины, мужчины и подросток. Они лопатами рыли яму. Авдей, задыхаясь, добежал до них и стал обнимать каждого, приговаривая:
– Вы живые! Вы живые!
Они его тоже обнимали. Женщины причитали. Ни одного знакомого не было среди этих людей, и всё-таки они были ближе, чем самые близкие друзья. Все владимирцы-мужчины так же, как и Авдей, остались в живых после сражения, а женщины и дети вылезли из щелей, куда попрятались. Тех, кто не успел надёжно схорониться, монголы увели в полон. А всех мужчин добили. Своих же погибших они собрали и сожгли у стен крепости.
Как ни устали оставшиеся в живых владимирцы, но надо было предать земле тела павших. Это было святое дело. Авдей попросил себе лопату и тоже принялся за работу. Тела складывали в могилу рядами и засыпали землёй. Не осталось в живых ни одного батюшки, некому было даже отпеть умерших. Прежде чем засыпать, могильщики крестились и бормотали молитвы, кто какие знал. Если кто-то обнаруживал тела родственников, то он хоронил их отдельно, и женщины взахлёб причитали над свежими могилами. Авдей так и не нашёл ни Светозара, ни Иванку. Он хоронил чужих, а кто-то схоронил его близких.
А солнце продолжало так же ярко и весело светить, и это казалось кощунством, потому что над пепелищем и мёртвой землёй должен бы идти долгий серый снег с дождём, который бы оплакивал всех убитых, да и живых, потерявших все надежды на радость. Но ни одного облачка на голубом небе.
Хоронили до самых сумерек. Уставший, еле державшийся на ногах Авдей притулился рядом с другими у костра. Он был уже в полузабытье, когда кто-то его растолкал, и он услышал знакомый детский голосок, который бы узнал среди тысячи голосов. У него замерло сердце.
– Дядечка, похлебайте-ка щец.
Само собой в ответ на этот голос вырвалось:
– Спасибо, Настёнка.
Авдей ещё ничего не успел осознать, но сердце его уже почуяло великую радость и забилось бешено и сладко. Девчонка взвизгнула и, выронив посудину со щами, бросилась с воплем к Авдею:
– Тятенька, милый тятенька!
Она обняла его за шею и боялась отпустить, потому что вдруг всё пропадёт и окажется или сном, или видением. Авдей тоже крепко держал дочку и боялся того же самого. Но время текло, и они оба поняли, что случилось это наяву. Никуда не растает, не исчезнет. Когда они расстались, все беды для них только начались, а кончатся ли они теперь, бог его знает.
Часть 2
Овдотья
Овдотья днями и ночами слышала за окнами своей избёнки завывание ветра. За всю свою одинокую жизнь она привыкла слышать это завывание. Но теперь ещё горше и надсаднее отзывалось оно в сердце. После проезда через деревню разбитого князя Всеволода и после слухов о наступающих врагах все соседи потихоньку оставили избы, уехали под защиту стен Владимира. Больно уж страшны были рассказы о зверствах поганых. Впервые опустела деревня. Конечно, ей тоже боязно. Особенно оттого, что осталась одна-одинёшенька.
Каждый день бродила между брошенных изб, а их всё больше и больше засыпало снегом, и она чувствовала себя, как на кладбище.
А куда ехать? Кому она там во Владимире нужна? Шабров-то теперь, чай, и не отыщешь в огромном городе. Ни к кому не прибилась вовремя, чего уж теперь. А уж как Авдей упрашивал, умолял ехать с ними.
Всхлипнула Овдотья, горький ком подступил к горлу. Но это не оттого, что локотки кусать приходится. Вспомнила она Авдеевы глаза – горе застыло в них, да и не мудрено. Тот день, когда пропала Настёнка и Авдей пришёл из леса без неё, не может Овдотья вспоминать без слёз. Метался он по всей деревне, стоная и рыдая. Овдотья боялась: с ума бы мужик не сошёл. Отпаивала его успокоительными снадобьями, чтобы горе не так сильно терзало сердце. Да и Марфин приезд всё стерегла, чтобы не враз обрушилось на неё горе. Да не устерегла. Кто-то опередил, всё выложил. Вбежала она в Овдотьеву избу, простоволосая, с безумными глазами. Язык у ней отнялся. Мычала что-то, вытаращив зрачки, и руками размахивала. Никак не могла её Овдотья успокоить. Авдей с женой первыми ушли из деревни.
– Не могу в доме жить, всё о Настёнке напоминает!
Согласилась с ним Овдотья. Да и Марфа ни днём, ни ночью не спит, а всё ходит по дому, ищет дочку. Рвётся из избы идти, тоже вроде искать.
Да что толку в поисках? Несколько раз ходил Авдей с мужиками в лес. Коли бы она заблудилась, был бы прок в поисках, а ведь в полон враги увели.
– Пойдём во Владимир с нами, – умолял Авдей Овдотью. – Иванку там найдём, он поможет.
Но не пошла Овдотья, хотя всё-таки надо было идти. Вот и осталась одна. А ведь они, Марфа и Авдей, были как родные. Другие-то соседи уж не приглашали с собой, хотя все любили её и уважали, но шли-то сами в неизвестность. Кому старуха в обузу нужна?
Так потихоньку и дожила, когда последняя семья погрузила на повозку свои пожитки и тоже отправилась в путь. Зашли к Овдотье попрощаться и тоже советовали уезжать. Ничего им не сказала она, только обняла со слезами да перекрестила. На чём ей ехать-то? Лошади у ней нет. Да и какая разница, где помирать. Годков-то в избытке. Немного, поди, теперь-то отмерено. А коль пожить ещё нужно, проживёт до весны. А потом до лета. Много ей не надо. Лепёшечку с водицей на день и хватит.
Да потом и попривыкла. Потянулись дни и ночи, друг на друга похожие. Не успеет развиднеться, глядь, а уж вскоре и смеркается. А ночи зимние долгие, конца-края не видать. Уж больно одиночество-то томило. Раньше к Марфе сходит и побает да на дочку её полюбуется, и сердце отмякнет. Вот ведь за всю жизнь не пришлось Овдотье семьёй обзавестись. И прошла жизнь, как день красный, наступили сумерки, и осталась она перед ночью тёмной одна-одинёшенька. Вот ведь помрёт, и некому обмыть тело, некому во гроб будет по-христиански положить. Вот ведь до чего дожить пришлось.
А метель всё воет и воет за окнами. Прилегла старуха на лавку, подоткнула под голову шобонья. Уснуть бы, да вот сон-то не идёт. Думка всё одна в голове, и воспоминания всё те же. Порой они плавно переходят в сон. Тогда глаза затуманиваются, и образы принимают почти что явственные черты, кажется, будто разговариваешь с кем-то. И живой человеческий голос радует сердце. И как будто бы всё, как раньше…
Уж сколько всяких вражьих набегов пережито за целую-то жизнь! Но поболят-поболят раны да и затягиваются. А тут…
Но вот однажды показались ей среди воя вечерней пурги вроде человечьи голоса да конское ржание. Вначале отмахнулась: что ни причудится в одиночестве-то. А сама всё же прислушивалась, уж больно хотелось, чтобы и впрямь кто-то посетил её, забытую и заброшенную. Чтобы поговорить с кем-либо. А ведь и точно кто-то по деревне разъезжает. Набросила Овдотья зипунишко да и в дверь выглянула. На воле-то пурга уж приутихла, и видит, от избы к избе пяток всадников катят. Да уж от её избы-то отъехали. Собралась она с силушкой и крикнула:
– Эй, люди добрые-е!
Если бы пурга не кончилась, потонул бы в круговерти её слабый голос. А тут крайний всадник оглянулся и что-то крикнул передним, и они быстро повернули назад, покрикивая и взвизгивая. Вот ближе и ближе они в ещё незагустелых сумерках, и поняла тут Овдотья, что дала маху. Не наши это были всадники, не русские. Захлопнула было старуха дверь, заметалась по избе. А куда схоронишься, найдут всё равно.
Дверь нараспашку, и с клубами пара ввалились в избу, принеся с собой какой-то чужой запах, пришлые. Один подскочил к ней, захохотал, приседая и передразнивая её: «Эй!» Но это у него тоже выходило по-чужому гортанно. Другой подошёл сзади, содрал с Овдотьи зипун, плат с головы и стал внимательно рассматривать всё это. Остальные уже шарили по углам. Овдотья с места не могла сдвинуться от страха и только бормотала:
– Господи Боже, спаси, помоги…
Тому, кто стоял перед ней, видимо, безразличны были вещи. Ему нравилось потешаться над старухой. Он приседал, хлопал руками по своим ляжкам и продолжал передразнивать:
– Паси, паси, моги, моги…
Набравши незамысловатого Овдотьиного барахла, они начали тараторить на своём языке, показывая на старуху, видимо, решая её судьбу. А тот, что дразнил Овдотью, с хохотом проводил ладонью по горлу, давая понять Овдотье, что они её убьют.
Ну что ж, подумала она, прими, Господи, душу мою, может быть, это и к лучшему. Но тут один из монголов обнаружил кладовку, где у Овдотьи хранились травы, снадобья, настойки, показал всё это своим товарищам, и они ещё громче залопотали. Травы пробовали на зуб, открывали посудины и нюхали содержимое. Потом всё это бережно собрали в мешочек. Тот, что потешался над старухой, велел ей вместе с ними выходить из избы.
Наверное, на улице убивать будут, подумала Овдотья, а уж лучше бы здесь. И она решительно села на лавку, мол, тут кончайте.
Тот, кто дразнил, взвизгнул уже от ярости, вытащил из-за голенища плётку, ударил Овдотью несколько раз по лицу и, крича, начал выталкивать её на улицу. Задохнувшись от боли, она выполнила его требование и поплелась. А он орал и толкал её коленкой и руками в спину.
Они затащили Овдотью на лошадиную холку и прикрутили её ремнями. Овдотьины ноги свешивались с одной стороны, а голова с другой. Монгол запрыгнул на эту лошадь, огрел её плеткой, и она потряслась, вскидывая Овдотью вверх-вниз. От этой тряски резкая боль вступила в спинной хребет, и Овдотья лишилась памяти. Уж невзвидела она, сколько времени прошло. Очнулась оттого, что кто-то хлестал её по щекам. Пахло дымом, и всё кругом было в каком-то сизом мареве. Напротив неё сидела на корточках узкоглазая бабёнка, растрёпанная, красная. Она-то и била усердно Овдотью и ещё брызгала на неё водой. Овдотья поняла, что находится в каком-то жилище, а вот в каком, никак разглядеть не могла. Увидев, что русская очнулась, узкоглазая баба перестала хлестать её по щекам, а взвизгнула и закричала, будто кого-то подзывая:
– Жебэ! Жебэ!
Тут же рядом с ней оказался мужик, вроде не так уж и старый, но лицо жёлтое, морщинистое. Он, вытаращив глаза, уставился на Овдотью. Ломая язык, заговорил на каком-то подобии русской речи:
– Ты долзен благодарно Бату, любит Бату и говорит правда.
Овдотья не понимала, что этот похожий на жёлтую жабу человек хочет от неё. Спина её всё ещё болела, щёки горели от пощёчин. Что за любовь требуют от неё, что за правду? Она было прикрыла глаза, но жаба стал бить её по лицу.
– Отвяжись от меня, окаянный! – разозлилась Овдотья и оттолкнула его. Монгол завизжал и начал плёткой охаживать русскую.
– Чего тебе от меня надо, сыть ты поганая?! – закричала Овдотья, закрываясь рукой от плётки.
– Ты любит Бату! Служит Бату!
– Стара я для любви-то! Да и не нужен ты мне, лягушка ненавистная!
– Я Джубе! Бату велел сказать, кто ты такой. Ты умей колдовать, заговаривать? Да!
Тут Овдотья решила его напугать, чтобы отвязался. Она свела брови, сжала губы и со зловещим лицом протянула руку к монголу:
– Могу колдовать! Могу! Захочу и заколдую тебя, превращу в лягушку!
Монгол в страхе взвизгнул, отпрянул от неё.
– Вот визглячее племя. Чуть что, визжат, – пробормотала она.
Монгол оправился от первого страха и тоже захотел напугать русскую:
– Бату велик! Он царь всех колдунов. Бату захотел, и ты селовал его туфель.
– Да наплевала! – Овдотья подумала, что не надо им поддаваться. – Провались ты со своим патом[10]!
– Бату сделай тебе вжик-вжик! – монгол быстро провёл ладонью по горлу. – И сталух ушла в сарство тени.
– Уж один хотел убить, да не вышло! – Овдотья остервенело плюнула. – Провались ты на месте, ирод.
Плевок этот попал монголу на туфлю. Тот опять взвизгнул, как-то отчаянно и дребезжаще, скинул обувь с ноги и бросил прямо в костёр, горевший посередине этого странного жилища. Овдотья усмехнулась – струсил пакостник – и почувствовала себя легко и спокойно.
А монгол уже боялся снова пускать в ход плеть… Испуганно жалась к костру и узкоглазая баба. Он вдруг изменился. Лицо стало приторным, глаза превратилась совсем в щёлочки.
– Джубе не хотел селдить сталух, Джубе хотел говолить. У Бату много колдунов и шаманов. Сталух мозет быть главной колдуньей у туфли Бату.
– Да насрала я на его туфлю! – Овдотья решила не отступать, хотя страх до конца не ушёл из её сердца.
– Сталух – плохой колдунья! – закричал опять монгол, выпучив от гнева глаза, но в то же время опасливо отодвигаясь от Овдотьи. – Бату сделай свободно сталух, если помозес. Бату холосый!
Лицо Джубе снова стало приторным.
Овдотья поняла, что Бату их начальник, и ему что-то нужно от неё. Хотя что она могла сделать, пока трудно понять.
– Коли у твоего пата много колдунов, пошто я-то надобна? – спросила она.
Джубе, видя, что старуха больше не сердится, снова пододвинулся к ней:
– Бату самый великий царь и колдун.
– Ну, так тем боле.
– Бату пока непослусны луские духи, но он их поколит, ты долзен помось.
Хотела Овдотья сказать, что никаких духов не знает и что один Господь только властен над всеми, но подумала пока переждать с таким признанием и только с загадочной улыбкой молчала. А монгол продолжал её уговаривать:
– Ты сталый сталух. Бату сделает тебя молодой, и кто-нибудь возьмёт тебя в жёны. Бату всё мозет.
Овдотья рассмеялась, ей даже захотелось пошутить:
– А уж не ты ли возьмёшь меня в жёны, сморчок поганый!
Последних слов Джубе не понял и гордо взглянул на Овдотью:
– У Джубе будет много всяких богатств: и коней, и рабов, и жён, и много воинов. Джубе тоже станет коназом!
Его тощая шея выглядывала из-под сального грязного халата. Ему очень хотелось верить, что всё это у него будет. Долгое время после того, как московский княжич Владимир чуть не сбежал из-под пригляда Джубе, и за то, что не выведал у мальчишки тайный ход в ульдемирскую крепость, Бату не пускал старика под свои светлые очи. Да и сам Джубе прятался: ему не хотелось, чтобы хан вспоминал о нём, потому что ничего доброго его не ожидало. Но, слава богу Сульдэ, Ульдемир взят, и много-много богатств пополнило ханскую казну. Только вот не по душе было Бату, что ульдемирский князь Юрий улизнул от плена.
Много русских воевод и бояр пытал Бату. Джубе тоже пытал, и вот один толстый боярин из военного Юрьева совета, не выдержав боли, признался ему, что великий князь уехал ещё раньше в Ярославль и там будет собирать войско на помощь Ульдемиру. Обрадовался Джубе таким сведениям и понял, что его солнце опять вернулось на небо. Он притащил боярина к хану и бросил к его ногам.
Смилостивился Бату к Джубе и дал ему задание. Поведали хану его шаманы, что есть среди русских такие сильные колдуны, которые могут даже на далёкое расстояние заколдовать кого-либо и заставить его сделать всё что захочешь. Только для этого надо иметь вещь, которую постоянно носил тот человек, и рад был этому Бату и разгневался одновременно, почему раньше не сказали шаманы до осады Ульдемира: где теперь найти вещи князя. Вся добыча ульдемирская смешалась. Где тут княжеские вещи, разве разберёшь. В гневе казнил Бату для острастки пару шаманов. А Джубе хан велел найти такого колдуна или колдунью из русских, чтобы можно было заставить князя покорно прийти в плен без войска и сдаться. А для того, чтобы разыскать какую-нибудь княжескую вещь, допустил его в походное хранилище добычи. Это Джубе очень понравилось. Много попрятал всякой мелочи по карманам, пригодится.
В одном мече пленник-боярин признал княжескую вещь. Правда, Джубе не совсем ему поверил, слишком уж торопливо (лишь бы не пытали) показал он на этот меч, в страхе прикрыв глаза. Принёс Джубе этот меч великому хану. Тот осмотрел его, поцокал языком и сказал, что если этот меч не поможет приворожить князя Юрия, то Бату собственноручно отрубит им голову Джубе.
Теперь нужно было искать или колдуна, или колдунью. Джубе велел всем разведчикам высматривать в русских селениях таких людей. А узнать их можно по снадобьям и травам, которые у них хранятся. И вот вчера приволокли ему эту старуху. Растрёпанная, тощая, страшная. Джубе сразу понял, что это то, что надо. А увидев её непокорность, убедился в этом ещё более. А уж когда она плюнула на его туфлю, глаза её сверкали от ярости, он решил, что колдунья она очень сильная. И хорошо, что вовремя сжёг обувь, а то бы она его обязательно испортила. Злить её не надо, и в этом случае нужна не плётка, а ласка. Конечно, ей должно понравиться, что Бату сделает её молодой, ну а если она Джубе придётся по сердцу, отчего же не взять её в жёны, хотя иметь жену-колдунью дело опасное. И он снова взялся её уговаривать. Её помощь должна быть добровольной: ведь только тогда всё получится.
– Ты долзен послусна Бату. Пресветлый хан будет говорить с тобой. Ты будь покорна воли Бату.
– Пошто я надобна твоему пату? – недоумевала Овдотья.
– Пресветлый хан будет говолить, а ты будес отвечать много-много, – затараторил с ещё большей пылкостью Джубе, видя, что старуха успокоилась и не противится их разговору.
Джубе понимал, что сразу тащить колдунью к хану нельзя, пока она ещё озлоблена. Вдруг плюнет на хана, как на него, Джубе. Тогда конец и старухе, да и ему самому не поздоровится. Хан может в гневе отрубить и его голову. Поэтому злить её не следует. А надо и накормить её досыта, и пообещать хорошую жизнь, если она поможет хану приворожить князя Юрия. Сам говорить об этом старухе он пока не решился. Вдруг сразу откажется, а потом и заупрямится? Это у русских в крови. Но как только Бату взглянет на неё своими проницательными глазами, так сразу она окажется в его власти. Но на всякий случай по пути к ханской юрте её надо провести между двух костров. После этого она временно потеряет свою колдовскую силу. А это поможет пресветлому покорить её.
Овдотье было непонятно, для чего держат её у поганых. Она уже примирилась с тем, что жизнь подошла к краю и вот-вот выволокут её из этого пропахшего дымом и кожей странного жилища и убьют. Но вот прошло два дня, однако ничего плохого не происходит. Наоборот, узкоглазая баба улыбается ей, скаля зубы, кланяется, когда подаёт блюдо с едой. А на блюде всегда жирное духовитое мясо, какого она давно не едала. И ещё поят её каким-то странным молоком, вроде не коровьим и не козьим. Но оно вкусное. Когда она спросила у монгола Джубе, что это за молоко, и тот ответил, что кобылье, Овдотью чуть не вырвало. Про мясо спрашивать и не стала: вдруг тоже что-нибудь эдакое… А что-то ведь есть надо. Путной еды у этих нехристей, видимо, не имеется.
Однажды Джубе пришёл весёлый и даже приодетый. Вместо вонючей овчинной шубейки и лоснящегося от жира халата под ней на нём красовалась богатая шуба, чуть ли не княжеские сапоги и такая же шапка. Стащил где-нибудь в разорённом Владимире, с болью в сердце подумала Овдотья, а то и с убитого боярина снял. За Джубе с торжественным видом шествовала баба-монголка и несла какую-то одёжку. Джубе взял из рук бабы эту одёжку и протянул Овдотье:
– Ты долзен одетой! Ты долзен рада. Бату будет проверить твой колдовство. Пресветлый хосет милость тебе. Ты долзен селовать туфли Бату и быть покорна.
– Да что пату твоему надобно от меня, не уразумею я никак, скажи ты мне на милость.
Овдотья разглядывала одёжку. Всё было чистое из богатых тканей. И снова Овдотьино сердце сжалось. Тоже, поди, с кого-то сняли, вражины. А монгол продолжал напевать:
– Ты долзен одевать эта одезда и послусна быть голосу пресветлого хана. Бату хотел видеть твоё лицо. Ты долзен показать хану, что ты умей в колдовстве.
Овдотья усмехнулась:
– А твой пат не опасается, что я превращу его в лягушку?
У Джубе от гнева глаза чуть не выскочили из орбит. Он хватал ртом воздух. Выхватил свою плётку и несколько раз со свистом ударил по земляному полу. Бить старуху не решился: и боязно, да и жалко шубу, которую придётся сжигать, если вдруг эта дурная баба плюнет на неё.
– Я сказу Бату твой делзость. Бату не будет имел милость. Пресветлый хан велик. Твой колдоство не стластно ему. Ты сам сталух длозы и бойся. Бату – бог на земле. Только Сульдэ его сильнее.
Призакрыла Овдотья глаза. Что же ей делать? Идти или не идти к этому пату, которого так расхваливает монгол? Всё равно ведь силой притащат, если уж этот хан захотел. Да и не красна девица она, что ей опасаться. Всё равно, где умирать. Зато уж посмотрит этого пата да проклянёт его на прощание, для их же страха. Пусть думают, что она колдунья. И стала Овдотья одеваться, успокоив этим Джубе.
Когда она подходила к огромной белой юрте, поняла, что в ней и сидит их главный монгольский князь. Джубе и сопровождающие её два воина с мечами зачем-то заставили её пройти несколько раз между двух огромных костров и лишь тогда подвели к входу в белую юрту.
Наверху на шесте трепетал флаг с жёлтым змием. У входа стояли два воина с мечами наголо. Джубе нырнул внутрь юрты, приподняв полог двери. Вскоре он вынырнул назад и стал нашёптывать Овдотье:
– Самый светлый и великий из всех коназов приказал вводить тебя, сталух. Бату не любит нехолосых слов и плевков. Нукеры Бату будут изрубить тебя мелко-мелко и кидать собакам.
Входить в эту дверь было неудобно. Овдотья приподняла войлочный полог и на четвереньках пролезла в юрту. Тут было тепло и светло от большого костра и светочей. Все сидящие на больших коврах были богато одеты. Все их взоры были обращены к монголу, сидящему на красиво отделанной низкой скамейке, не старому, в огромных пузырчатых штанах, в красных туфлях. На голове у него была круглая шапочка ярко-жёлтого цвета. Бородёнка, как у всех монголов, реденькая, почти у подбородка сходящая на нет. Около него больше, чем у других, стояло воинов со щитами и мечами, готовых в любой миг прикрыть хозяина.
Наверное, это и есть тот самый пат, подумала Овдотья. Он что-то гортанно крикнул, указав на неё.
– Чего надоть? – спросила она, не поняв его и пытаясь приподняться на ноги. Но ей этого не дали. Наоборот, повалили на ковёр под ногами и прижали её лбом к полу. Продержав так немного, отпустили. И тут она над ухом услышала чистую русскую речь:
– Пресветлый спрашивает, кто ты такая, старуха?
Она приподняла голову и увидела тоже богато одетого мужчину без оружия, но ликом русского, с длинными волосами.
– Да Овдотьей кличут с рождения.
Русский перевёл ответ хану.
– Говорят, ты большая колдунья?
Овдотье не хотелось врать своему, и она простодушно ответила:
– Да кака колдунья? Лекарка я. Травы собирала, настойки от разных хворей делала, натирания всякие, шабров своих пользовала.
Переводчик был хмур, смотрел на неё без любопытства и участия.
– Ты должна говорить правду. Пресветлый хан не любит, когда ему лгут.
– Чего им надо-то, мил человек. Вот Жаба говорил, что этот пат сам колдун из колдунов, – Овдотья оглянулась, думая увидеть старика-монгола, но его не было в юрте. А русский переводчик вдруг упал на колени и приложился лбом к ковру:
– Да, великий Бату всё может. Он бог на земле, величайший из величайших!
Это поразило Овдотью:
– Ты чего перед басурманином лоб-то бьёшь? Чай сам-то православный? Бог-то один в небесах. Чего поганина-то хвалишь?
Переводчик пересказал это хану. Тот взвизгнул и что-то прокричал, потрясая рукой. Русский опять отрешённо взглянул на Овдотью:
– Если ты будешь так говорить в присутствии величайшего, то тебя посадят задом на раскалённую сковороду.
– Ох ты, батюшки! – испуганно вскричала старуха. – Я же тебе это сказала не для передачи.
Но переводчик, как бы не слыша её, требовательно прокричал:
– Признавайся, ты колдунья?!
– Да чего я могу-то? Ну боль заговорить, ну сон нагнать, и всего-то.
Длинноволосый перевёл это. Хан оживился и что-то приказал стоящим с ним рядом слугам. Один из них принёс накрытый тканью поднос, на котором бугрилось что-то подобное нескольким тыквам. Переводчик снял с подноса ткань, и Овдотья закричала от ужаса. У неё аж в глазах потемнело. На подносе лежали три отрубленные мужские головы, а одна среди них юношеская, почти мальчишеская. Они были связаны просунутой сквозь уши верёвкой.
Переводчик без сострадания, спокойно продолжал говорить, как будто ударял по Овдотье палкой:
– Это сыновья владимирского князя Юрия Всеволод, Мстислав и Владимир. И в этом ожерелье не хватает главной головы, самого князя Юрия. Ты должна помочь и заставить князя Юрия прийти и сдаться без боя, заколдовав его на расстоянии. Вот тогда-то ожерелье будет полное…
И переводчик усмехнулся. Овдотью всю передёрнуло. Она плюнула длинноволосому прямо в лицо:


