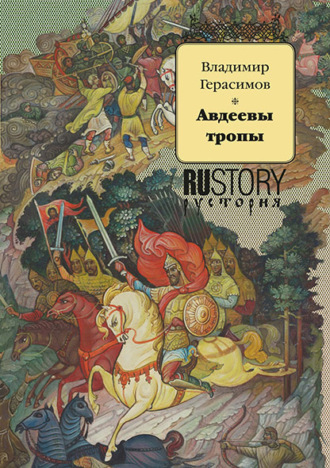
Владимир Герасимов
Авдеевы тропы
Иванка
Куда идти, он точно не знал. Места незнакомые, неизведанные.
Хотя зимой всё одинаково: куда ни пойди – везде снег и снег. По проезжим дорогам идти опасно. Уж и так несколько раз напарывался на татарских всадников. Где тут же прятался, а где, когда уж явно не скрыться, работал мечом своим одной рукой. Шуйцы не было, вместо неё обрубок выше бывшего локтя. Хорошо хоть цела десница. Крепко он ей держал меч. Да и помогала ему злость великая. Когда рубил, ничего вокруг не видел, только слышал кости у врагов: хрясь-хрясь, да предсмертные стоны, да ржанье лошадей. Порубает, страх на врагов наведёт да тут же уходит, уныривает в лес или в заросли. А иначе ему нельзя. Везёт Иванка письмо важное. От княгини Агафьи Всеволодовны её мужу Юрию Всеволодовичу, великому князю владимирскому. А где его искать, и сам не знает. Говорили люди, что он, видимо, в Ростове Великом находится, а кто-то баял, что нет его там. Как бы то ни было, держит путь Иванка в ростовскую сторону. А там видно будет. К холоду и к голоду привык мужик, главное – выполнить поручение. Уж той, кто послал письмо, в живых нет. Но душа, наверное, где-то рядом обретается да хранит Иванку от всяких бед и несчастий. Иначе давно бы сгиб – то ли от вражьего меча, то ли замёрз бы в чистом поле. Потому и не принадлежит он себе и не думает о своём животе. Только одно: идти да идти. А что ему о себе думать? Для кого жить? Всех его близких погубил татаровин. И в Рязани вся семья пала. Нашёл под Владимиром сестру свою Марфу с мужем Авдеем да с их дочкой Настёнкой. Настёнку враги украли, в плен увели. Авдей погиб на улицах Владимира во время сражений, сестра Марфинька сгорела в избе. Да сошедши с ума после пропажи дочери, не узнавала его, Ивана. Так и сгорела, не признавши брата. Вот какая судьба выпала Иванке. Так что ничего его уже не грело в этой жизни. Да уж и не знает, как после сечи владимирской, после приступа татарами крепости и жив-то остался. Истекал кровью, лежа среди таких же, как он, порубанных. Рядом кто-то уж и дух испустил, кто-то стонал, умоляя Господа прервать жизнь. Всё это он слышал между мгновениями забытья, которые длились, может быть, и часами. А видеть он ничего не видел – кровь залила глаза да и запеклась, видимо. Тогда же он думал, что и глаза вытекли вместе с кровью. Не чувствовал Иванка ни мороза, ни голода. И, наверное, так бы и погасла жизнь его, а она на волоске и висела. Да, видно, свет не без добрых людей, и не всё ещё Иванка сделал на белом свете, чтобы уходить. Почувствовал он, как-то придя в сознание, что несут его куда-то, и слова слышал русские. А когда в следующий раз очнулся, и свет в глазах увидел, и над собой знакомое лицо. Ба, да это Харитинья, у которой жили Марфа с Авдеем.
– Где я? – заморгал Иванка часто-часто глазами, как бы проверяя, не сон ли это.
– Лежи, лежи, Ванюша, – погладила его по голове, как маленького, Харитинья, а сама всхлипнула от радости и вытерла тыльной стороной ладони слёзы. – Главное дело – живой. Мово сына тоже Ванюшкой звали. Такой же вот нынче был бы…
Хотел Иванка улыбнуться да не смог, сказал только:
– А у меня вот мамоньки давно уж нет. Будь ею, Харитинья!
Всхлипнула ещё раз старуха, кивнула головой и вздохнула:
– Вот и Авдей, царство ему небесное, тоже маменькой просил быть. Да больно уж быстро вы меня, сыночки, покидаете, не поспеешь привыкнуть.
– Ну, уж я надолго.
– Гоже было бы так-то.
Обрадовался Иванка, что целы у него глаза, только вот рука усечена. Дёрнул на всякий случай ногами.
– Да на месте, на месте, – улыбнулась сквозь слёзы Харитинья, – а тут много и совсем безногих и безруких.
Приподнял Иванка, напрягшись, голову, покрутил ею туда-сюда, и силы оставили его, упала голова, как безжизненная. Какое-то подвальное помещение. Тусклые огоньки трещащих лучин. Вокруг слышны стоны раненых и женские тихие голоса.
– Уж я так была рада, что отыскала тебя. Боле никого не смогла, – опять вздохнула Харитинья.
Иванкино сердце резануло болью:
– Мне Авдей сказывал перед тем, как я его потерял, что Марфа…
Он не договорил, горло перехватило. Закрыла Харитинья руками своё лицо, покачала головою:
– Не уберегла я сердешную. Да и как уберечь было? Подпалили злодеи избёнку мою. Еле выскочила я. А Марфа там осталася. Одно, дай бы Бог, что долго не мучилась.
От слабости да от горести опять провалился Иванка куда-то в темноту да в немоту. А теперь, как ни просыпался он, перед ним стояло всегда заботливое морщинистое лицо Харитиньи.
– Когда же ты спишь, маменька? – изумлённо спрашивал он её.
– Ох, милок мой, уж за всю-то жисть, поди, и выспалась. Одна-то жила, спала да спала.
Но пришло время, когда почувствовал Иванка себя покрепче. Стал уж и вставать, и помогать как мог Харитинье ухаживать за ранеными. Она да ещё несколько женщин и подростков жили прямо здесь. Некуда было идти, у всех дома сгорели. А тут и вместе все, и дело божеское делают. Вначале не понимал Иванка: что же в подвале душном ютятся. А уж потом, как ходить стал, вышел на волю, а кругом одни пепелища да развалины. И над их подвалом такой же разрушенный дом: не то боярский, не то купеческий. Помогать-то Иванка помогал, но особо-то одной рукой не разделаешься. Просилась в любое дело несуществующая рука. А больше всего удивлялся он тому, что даже болела она в тех местах, где уже ничего не было: то ли в пясти, то ли в локте. Но всё равно и водицы принесёт, и дровец поколет, и тех, кто сам не может, поворачивать поможет: ведь десница-то сильная.
И вот однажды один раненый, за которым ухаживала Харитинья и про которого она говорила Иванке, что не жилец он на свете, позвал его к себе. Бледное измождённое лицо, глаза впалые, волосы на голове и в бороде слиплись от пота. Тяжело дыша и взяв слабой рукой Иванкову руку, он промолвил:
– Что, паря, ты делать-то думаешь теперча?
– Да сам ещё не ведаю.
– Знаю, что служил ты в княжьей дружине, послужить бы ещё надобно.
– Да где она, дружина-то? – горько выдохнул Иванка. – Всех порубили татаре.
– Ан не всех, ты-то жив. Последнюю службу надо послужить княгине Агафье Всеволодовне, царство ей небесное.
Слышал Иванка, что погибла княгиня лютой смертью. Как и сестра его Мapфa, погибла в огне со всей своей семьёй в Успенском соборе.
– Для княгини всё сделаю! – загорелись его глаза. – Добрая она ко мне была, щедрая!
Разве забудешь, как помогла Агафья Всеволодовна и Иванке и Авдею, как смотрела участливо на его рваную одёжку и как по её приказу выдали и ему и Авдею новую одёжку и обужку.
– Ну, так слушай, – произнёс, прикрыв глаза от слабости, больной. – Когда ворвались татаре в город и когда закрылась княгиня Агафья в соборе, написала она письмо великому князю Юрию и велела отвезти ему и поведать, что случилось со стольным градом. Ранили меня, и не смогу я выполнить её приказание. Чувствую, что дышит мне в лицо смертушка. Узнал я, Иванка, твою судьбу, знаю о твоих потерях. По твоим шрамам вижу, что закалённый ты воин и что можно на тебя положиться.
Последние слова раненый произнёс совсем тихо. Какое-то время молчал, собираясь с силами.
– Возьми у меня письмо… оно в сумке… Прошу, Богом молю, отнеси к князю. К Ростову Великому он поехал войска собирать…
Понял Иванка, что раздумывать тут долго нечего. Нашёл письмо, пожал раненому на прощание руку, расцеловал плачущую Харитинью, улыбнулся на её горькие слова:
– А баял, что надолго останешься.
* * *
Три ночи и два дня уже идёт Иванка в неведомое, а по пути ни одного целого городишки, ни одной деревеньки. Одни пепелища. И так же, как в Володимире-граде, копошились на пепелищах этих люди. Что-то ищут. Да разве огонь что оставляет? Всё сжирает до самой последней ниточки, до самой последней досочки. И всё равно не уходят люди с насиженных мест. Мечтают отстроиться, только бы уж поганые ушли, не мешали. А их полно шастает по дорогам. Потому-то и строиться боязно. Того гляди, самих-то в плен уведут. А это у татарей быстро делается. Свистнет аркан, и ты уже на своих ногах не устоишь, захлебнёшься, задохнёшься в собственном крике. Потому-то от каждого всадника и пешего прятались люди. Женщины, дети да старики боязливы стали, как дикие звери. И порой не у кого было у Иванки уточнить, правильным ли путём он идёт, не сбился ли?
Расположился он в третью ночь в какой-то безлюдной выжженной деревеньке. Крыши нигде не было. Спрятался от ветра за остов печки. Даже повезло выгрести из её чрева угольки. Видно, не так давно была сожжена деревня. Наломал он сухостоя и разжёг костерок, маленько хоть погреться. Рука-то уж зашлась от холода. Так-то одет Иванка тепло. Дала ему в дорогу Харитинья и полушубок, и штаны тёплые, и шапку по глаза, и сапоги – люди поделились. Но вот ни рукавицы, ни варежки для его десницы не нашлось. А заморозить последнюю руку нельзя ему было, она ему единственная надежда и помощь. Пожевал Иванка хлебца да пареной репы, что дала в котомке с собой Харитинья, подбросил в костерок ещё сухих веток да полуобгоревших досок, найденных на пожарище. Прислонился к печным кирпичам спиной, прикрыл глаза, сунул руку в шубу и погрузился в сладкое забытьё, которое нежило, кружило, рождало в голове какие-то странные видения. То вдруг казалось, что тяжёлые от усталости ноги стали лёгкими-лёгкими, и если дунет ветер, так и понесёт его по снежному полю. То вдруг перед глазами свистели мечи, много мечей. И главное, самих воинов не видно – наши ли, враги ли, не поймёшь. Одни мечи будто бы сами по себе бьют друг о друга, аж искры летят. И вдруг всё это пропало, и перед Иванкой появилось много-много детей и среди них его рязанские сгоревшие дочки и сынок, живые, но без тёплой одежды, в одних рубашонках. Но ведь сейчас зима, холодно – занялось Иванково сердце. Он затряс головой, чтобы не видеть этот ужас. Открыл глаза. Сердце билось часто-часто. Но перед ним потрескивал костерок, и то-то тёмный свернулся калачиком около огня. Иванка приподнялся и наклонился над незнакомцем. Тот был одет не в обычные одежды, а весь затянут какими-то тряпками. Нащупав в этих тряпках голову, Иванка приоткрыл его лицо. На него глянули жалобные огромные глазищи.
– Дяденька, не прогоняй меня… – послышался тихий мальчишеский голосок. – Дай погреться.
Иванке стало не по себе, горло сдавил какой-то комок.
– Да разве ты эдак согреешься? – едва смог выдавить из себя Иванка.
Он расстегнул шубу и велел мальчишонке лезть под неё. Как доверчивый кутёнок, залез тот Иванке на грудь и обнял его руками за шею под воротником. Иванка запахнул шубу, и они вместе закутались в неё. У Иванки сладко сжалось сердце: вот так когда-то и сынок любил спать у него на груди. И тут спохватился он, что забыл предложить мальчишке поесть. Но тот уже засопел носом. Видать, тепло сразу охватило его, и он, намёрзнувшись, впервые, может быть, за последнее время заснул спокойно и отрешённо. Ну, ладно, еда никуда не убежит, подумал Иванка перед тем, как его самого дрёма затянула в свой омут. Но теперь ничего ужасного ему не снилось.
Пробудился он, когда от снега, казалось, начал подниматься вверх белёсый свет. Потихоньку развиднелось. Если бы Иванка был один, уж давно бы поднялся и отправился в путь. Время-то не ждёт. Но мальчонка как забился под шубу, так всю ночь и не поворачивался, будто боясь потерять тепло. Распарился он, разморился под шубой да на тёплой Ивановой груди. А уж как жалко будить его – ну прямо сил нет. Но на что-то надо решаться. А вдруг этому парнишечке идти некуда и притулиться не к кому? Что же делать тогда? Разве сможет Иванка бросить сироту на произвол судьбы. Ведь уже в следующую ночь застынет тот навечно среди остывшего пепелища под этим ледяным зимним небом, и на всю жизнь это будет укором на совести мужика. А может быть, парень просто заблудился и нечаянно забрёл на огонёк, и надо только помочь ему найти дом? Что ж, в таком разе придётся задержаться. Уж верно, душа Агафьи Всеволодовны не прогневается на небольшую заминку в дороге, а, наоборот, благословит Иваново решение.
Погладил Иванка мальчонку по голове и почувствовал, что тот, проснувшись, напрягается всем телом, вцепившись в него. Подождал Иванка ещё немного, чтобы тот успокоился, и спросил:
– Ну что, паря, поесть-то хочешь?
Мальчонка сразу расслабился и выдохнул, ещё не веря себе:
– Да!
– Ну и гоже, – ласково потёрся о его голову мужик. Вынул из кармана тряпицу с хлебным караваем и репу, развернул и дал еду ребёнку. Тот схватил хлеб и ещё глубже зарылся на Иванковой груди. Почувствовал, как заходили ходуном мальчишеские щёки, и вздохнул Иванка горестно-горестно. Да, сплошное горе на Руси, и всё больше его и больше, как море разливанное.
– Как тебя звать-величать-то? – спросил Иванко, когда мальчишка поел.
– Корнюха я, – послышалось из-под шубы.
– Корней, значится. Где же дом-то твой, Корнюха?
– Да вот тутотка и дом, – голос Корнюхи задрожал. – Под печкой и сидим. Тут и изба была, и мамка с тятькой, и сестрёнки, а куда всё делось – неведомо.
Закусил до крови губу Иванка, чтобы не взреветь криком диким, не напугать мальчонку. Уж больно всё похоже на его судьбу. Справился он с комом в горле:
– Так, значит, я к тебе в гости пришёл. И угольки, которыми я разжёг костерок, твои.
Задрожал в беззвучном плаче на груди у Иванки Корнюха. Понял Иванка, что больше спрашивать не о чем. И так ясно, что сирота-сиротинушка встретился ему. И судьба нарочно свела их, чтобы соединить, а иначе и быть не может.
– Ну что же, Корнюха, поели-поспали, пора нам с тобой в путь, – буднично, будто бы как всегда, сказал Иванка.
Высунул мальчишка из-под шубы Иванковой мордочку и испытующе посмотрел огромными голубыми глазищами в глаза Иванки.
– Ты возьмёшь меня с собой?
– Ну не бросать же такого милягу на съедение волкам? – подмигнул Иванка. – Жалко.
Какое-то подобие улыбки тронули вытянутые в трубочку губы Корнюхи. Он вылез из-под Иванковой шубы и предстал во весь рост. А был он чуть повыше Иванкова пояса, коренастый, плечистенький. На вид лет одиннадцать-двенадцать. Но его одежда вызвала у Иванки горестный вздох. В таком одеянии далеко не уйдёшь, тем более, по морозу. И хотя обут Корнюха в кое-какие сапожонки, но одежда состояла из висящих балахонистых шобоньев. Надо было что-то придумывать. Иванка сбросил шубу, снял сермяжный зипун и, пока он тёплый, накинул на Корнюхины плечи. Быстро, пока в шубу не залез холод, оделся.
– Вдевай руки в рукава быстрей! – велел он мальчишке, и Корнюха охотно влез в мужицкий зипун, который висел у него ниже колен и даже так давал тепло.
– Пока гожe! – улыбнулся Иванка. – А там бог что-нибудь ниспошлёт.
Вот уже два дня и две ночи после того, как встретились Иванка с Корнюхой, бредут они по зимним дорогам, и по равнинам, и по лесам, больше, конечно, прячась в лес. Несколько раз лицом к лицу оказывались с погаными. Хорошо, что немногочисленны были разъезды татарские. Иванка орудовал мечом. Но Корнюха тоже не отставал. Найдя где-то по пути в лесу палку, похожую на дубинку, он бесстрашно кидался с нею на врагов, сопровождая это пронзительным визгом, от которого татарские кони шарахались, а всадники от этого не могли положить сабли в цель.
– Ты у меня прямо, как Соловей-разбойник! – одобрительно восклицал Иванка. Один из убитых татар был маленького роста и, одевшись в его одежду, Корнюха наконец-то сбросил своё тряпье.
Как будто всегда были знакомы Иванка с Корнюхой. Со стороны казалось, что идут отец и сын. Жался доверчиво мальчишка к Иванке, оттаивало его сердечко от тяжёлого горя потерь, что пережил он совсем недавно, и всё ещё не верится ему, что судьба не оставила его пропадать у пепелища отчего дома. У Иванки тоже стало светлее на душе. Этот голубоглазик взбудоражил душу и возродил желание жить. У них обоих не осталось никого близкого в этой жизни. Значит, надо держаться друг за друга.
– Дядя Иванка, а куда мы идём? – пытливо спросил Корнюха, хотя до этого не решался. – К тебе домой, да?
Иванка не знал, что и ответить:
– Пока у меня нет дома, но будет. Ведь каждый где-то живёт. Так и мы.
– Я тебе подмогну строить избу, я сильный.
– А без тебя мне и не справиться. Куда мне с одной-то рукой? – дёрнул культёй Иванка.
Они шли около берега по льду какой-то речонки. Берег поднимался, и на крутом яре Иванка заметил дома, не сгоревшие, а целёхонькие. Засыпанные до половины снегом, но из труб некоторых вились дымки. Знать, не тронутая татарами деревня.
– Ну, Корнюха, моли Бога, чтоб удалось нам нынче и поесть и поспать как следует.
Еле забрались они на крутой берег, до того устали и ослабли, и до ворот крайнего дома чуть ли не доползли. Наверно, там хозяева не легли ещё спать. Солнце только коснулось земли, облака около него покраснели, и снег окрасился. Стучать пришлось долго, пока за дверью что-то загремело, зашуршало, кто-то прислушался.
– Свои это, православные! – крикнул Иванка, чтобы не подумали, что враг у дверей. Хотя татаре бы тут же выбили дверные доски (разве это защита), а то и подожгли сразу же. Дверь приоткрылась, и высунулся старичок в накинутой на плечи шубёнке. Он, нахмурив свои кустистые брови, оглядел путников и, придерживая дверь, пригласил их в избу.
Пахнуло теплом и чем-то сытным. После белоснежной улицы в избе казалось темно. Чувствовалось, что старик живёт не один. В настороженной тишине он глуховатым голосом промолвил кому-то:
– Путники это: мужик да мальчишонка.
– Здравы будьте, люди добрые! – поприветствовал невидимых людей Иванка.
– Тебе того же! – наперебой ответили несколько голосов, среди них и женские, и мужские.
– Отколи путь держите и далёко ли? – спросил старик, когда гости в изнеможении опустились на лавку.
– Да из Владимира, – ответил Иванка. – И куда бог приведёт.
Не сразу захотел он открыть конечную точку своего пути, пооглядеться да обговориться надо.
– Чего ж в Володимире-то не жилось? – спросил снова старик.
– Порушили да пожгли стольный град поганые.
– Господи, пресвятая Богородица! – воскликнули женские голоса.
– У вас-то лихих гостей не было? – спросил Иванка.
– Пока бог миловал, – ответил старик, а женщины завздыхали. – Правда, баяли шабры, что видели у околицы чудных каких-то всадников, но мало их было, в деревню не заезжали.
– А вы про великого князя Юрия Всеволодовича не слыхали? – решился-таки спросить Иванка.
– Опять-таки шабры баяли, что на том берегу в деревнях много войска русского собралось, и какой-то набольший князь там есть, а уж кто, не ведаем.
Легко стало на душе у Иванки. Кажется, всё-таки дошёл он наконец до великого князя, теперь можно подумать и о еде.
– А не найдётся ли у вас для моего мальчонки горячих щец похлебать, сколько уж времени горячего в рот не брали.
– Ох-то, болезные мои! – захлопотала женщина. – Давайте к столу-то подвигайтесь! – и она загремела печной заслонкой. – Щи заячьи как раз есть. Дед нынче из лесу зайчишку принёс.
От мясного духа Иванка задохнулся. Глаза уже попривыкли к темноте избы, и они вместе с Корнюхой подвинулись к столу. Женщина бухнула на столешник большое блюдо, положила выщербленные деревянные ложки, и Иванка с Корнюхой, забыв обо всём, хлебали щи, густые и горячие. По всему телу разливалась истома, и горячие щи согревали всё тело, доходя до самых дальних его закоулков. От щедрости хозяйки попадались в ложку и куски мясца. Неудивительно, что через некоторое время чувство голода, которое мучило все эти дни, нудное его завывание, было потушено. И когда все щи были дохлёбаны, тело оцепенело от наслаждения. И только тут Иванка вспомнил, что даже не перекрестился перед едой, так заколдовал его мясной дух. Он повернулся в красный угол к иконам:
– Господи, прости и помилуй мя, грешного…
Оказывается, и старик заметил эту его промашку и недовольным голосом промолвил:
– Я уж подумал, а православные ли вы? Вот и мальчонка уж больно чудно одет, не по-нашенски.
Иванко рассказал, каким образом он нашёл Корнюху, а затем приодел. Женщина всхлипнула:
– Пресвятая Богородица, спаси нас и сохрани!
Старик горько вздохнул:
– Может, и нас такая же судьба ожидает. Пожгут всё супостаты, а всех поубивают.
Эти слова вызвали у женщин ещё больший испуг – переживания уже не за чью-то горькую долю, а за собственную судьбу. Но у Иванки не было мочи утешать их, да и что проку… После щей голова затуманилась. Он прислонился к стене, а Корнюха пристроился головой на его колени, и оба утонули в сонном забытье.
Утром выспавшийся и бодрый Иванка в предвкушении конца пути собирался быстро и весело. Корнюха тоже радовался, глядя на эдакое его настроение. Хозяйка избы, морщинистая седая старуха, умилённая вчерашним рассказом, увидя утром культю Иванки и его испещрённое шрамами лицо, опять вдоволь накормила их. И, глядя, как жадно они едят, всё качала головой и вздыхала. Осторожно спросила Иванку, а в глазах отражались горькие думы:
– Нешто и к нам придут вороги сюда?
Что сказать доброй хозяйке в ответ? Оттого, что он скажет правду, вряд ли ей полегчает. Предчувствовал Иванка по своему опыту, что здесь, тем более недалече от стана князя, и развернётся самая жестокая сеча и что эти дни у его щедрых хозяев последние в их мирном быте. А выживут ли они в другой, пока неведомой им жизни, лишь один бог ведает. Но ничего этого не стал говорить Иванка. Пусть подольше продлится их неведенье:
– Ну, у вас же целое войско под боком, нескоро сюда супостаты сунутся.
Тревога малость поубавилась в женских глазах, а во взгляде старика Иванка уловил благодарность. Он-то, чувствуется, человек бывалый, а самая его потаённая забота – успокоить жену, дочку и внучат, хотя бы на время.
Не очень-то скоро дошли Иванка с Корнюхой к великому князю. За рекой, на другом берегу от приютившей их на ночлег избушки, стояла не великокняжеская дружина. Но всё одно это уже был конец пути. Теперь их не преследовали ни холод, ни голод, ни дикие враги. От стана к стану, от дружины к дружине пришли они наконец-то к избе Юрия Всеволодовича.
У самого великокняжеского крыльца он увидел такое, что дыхание Иванкино перехватило. Как когда-то в деревне под Владимиром, по пути из Коломны, в дружине князя Всеволода Юрьевича, изумился он, увидев в избушке свою маленькую сестру Марфу, которая оказалась её дочкой Настёнкой. Так и сейчас. Но один раз увидев её, разве теперь спутает! Но как она оказалась здесь? Эти родные глаза, этот с самого детства знакомый изгиб губ: что маленькая Марфинька, что теперешняя Настёнка – не отличишь. Так и застыл перед ней Иванка, с места тронуться не может. Она-то, конечно, его не знает, не помнит. Ведь что такое увидеть один раз да в тёмной избе, да причём она была заспанной. И, помнится, больше тогда не отводила глаз от князя, удивлялась ему…
Девочка вопрошающе смотрела на Иванку:
– Дядечка, ты что?
– Ты Настёнка, так ли тебя величают? – всё ещё боясь ошибиться, но твёрдо веря, что ошибки нет, выдохнул Иванка.
– Да-а! – моргала недоумённо глазами девочка. – А ты-то кто будешь?
– Я братик твоей мамы Марфы.
Настёнка, распахнув широко глаза и открыв рот в полувозгласе, кинулась было к нему да приостановилась:
– Так ведь… дядя Иванка сгиб в Володимире, мне тятя от этом сказывал.
Взволнованный, не вникнув до конца в слова Настёнки об отце, он ответил, тряхнув пустым рукавом:
– Вот рука осталась в Володимире, а я, слава богу, выбрался.
Тут уж Настёнка с радостным визгом бросилась обнимать своего дядю. Успокоившись, она покосилась на Корнюху, стоявшего поодаль и смотревшего на них каким-то непонятно тревожным взглядом:
– Кто это, дядя Иванка? – спросила Настёнка.
– А это сыночек мой, новоявленный.
Иванка шагнул к Корнюхе и тоже прижал его к себе. И Настёнка всё поняла без всяких слов и объяснений. Отдышавшись и успокоившись, Иванка спросил:
– Настёна, а кого ты тут ждёшь-ожидаешь?
И тут девочка опять вернулась в свою горькую действительность, и слёзы выступили у неё на глазах:
– Так ведь князь обещал, что возвернёт моего тятеньку, да вот нет его. Каждый день хожу сюда.
Опять пришло время удивляться Иванке:
– Да разве жив Авдей?
– Жив! Жив мой тятенька, жив! – затараторила она и рассказала обо всём: как с отцом встретилась, как искали они князя, и как Авдей пошёл к нему, и до сих пор его нет.
Выслушал всё Иванка, нащупал рукой княгинино письмо и, погладив Настёнку по голове, твёрдо сказал, ступив на крыльцо княжеского дома:
– Подождите меня немного, вскорости мы с Авдеем придём.


