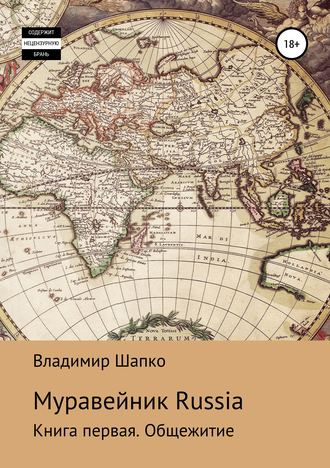
Владимир Мкарович Шапко
Муравейник Russia. Книга первая. Общежитие
Потом его выводили. Он путался в коридоре. Опять вышел не туда. В чью-то спальню. С уже раскрытой постелью. Он пошёл было к ней, но его повернули, направили. Он оказался в кухне, откуда был выход во двор и дальше, к воротам. Не узнавая кухни, поворачивался, озирался. В подтверждение себе,что это он, Серов, вдруг крепко поцеловал дядю Гришу. Сильно примяв его длинную щеку. Стоял, похлопывал кукурузную лысину. Вот, ветеран. Праздник. Со слезами на глазах. Нужно было говорить какие-то слова прощания. А он в забывчивости всё ощупывал лысину. Гороху вроде бы под кожей было много. «Но почему, почему он не всходит?! Почему не произрастает?! Почему наверх нейдёт?! Дядя Гриша?!» – «Ну-ну! – смущался дядя Гриша. – Будет, будет! Надевай-ка лучше обувь свою». Тут же терпеливо стояли и две молчаливые женщины с загнутыми ресничками. Были они в обширных прозрачных блузонах дымчатого цвета, из-под которых выглядывали новые ядовито-синие джинсы… Серов и к ним полез целоваться. Повис на одной из сестёр. Женщина была очень мягкой и помещала его всего. Отпрянул. Пригнувшись, занялся шнурками на туфлях. Конфигурацией походил на верблюда, лезущего через игольное ушко. Потом чётко отчеканивал, оскаливая зубы, как бы делал улыбку: «Благодарю! Тронут! Благодарю!»Никульковой посоветовали проводить его. Хотя бы до остановки. Но та стояла глухо и отчуждённо, как стенка. Серов успокаивал. Серов хотел мира: «Дядя Гриша – не бойся! Прорвёмся!» Оставлял пожелания: «Тетя Каля, пора бросать баню! На колокольни смотреть – хватит! Девочки – жизнь не кончена. Мужики вам будут! Женька, я в порядке! Ты знаешь! Как всегда!» Только что надетые востроносые туфли его носками смотрели в разные стороны. Как у Чарли. По-балетному. Но это ничего. Это дисциплинировало. Не давало упасть. Да. Был рад. Познакомились. Бесконечно. В следующий раз – непременно.«Да. Всё. Всем привет! Провожать – ни-ни! Ни в коем! Я – пошёл! То есть я – вышел!..» Что-то громко прогремело в сенях и словно бы беззвучно отделилось, отпало от дома. Стало тихо. Две женщины, вздыхая, холили кисточками перед зеркальцами длинные свои реснички. Так холят пчёлы в голубых цветках загнутые пестики.
…Серов разом проснулся. По картине на стене сразу понял, где находится. Место узнал. Он был в комнате аспиранта Дружинина и сантехника Колова. На кровати Колова. В общаге. На Малышева. Будильник на столе походил на богдыхана. Сейчас ударится, заверещит, зайдётся. Но давно отгремел, отпрыгался. Одиннадцать. Двенадцатый. Лекциям конец. Побоку лекции. Серов упал обратно на подушку, закинул руки за голову. Наблюдалась свободная миграция тараканов по стенам. Из комнаты в кухню и обратно. Туда бежали гурьбой и обратно гурьбой. Шли выборы. Серов тараканам не мешал. Не до того. Подкинувшись на локоть, уже с испугом вспоминал вчерашнее…
Через пять минут он звонил из автомата возле общаги. Поздоровавшись и назвавшись, сразу спросил про конспекты. Не оставил ли он у них в доме, в столовой? Весёлый женский голосок (не Евгении! где ей быть! на лекциях она! давно!) ответил, что конспекты ему были всунуты в карман. В карман пиджака. Во внутренний. Он не брал их, отбивался, но ему затолкали их всё-таки. С трудом, значит. Можно сказать, с дракой. А уж что и как было потом— это… Разом Серов вспомнил, как, идя по Исетскому мосту, отрывал от тетрадей длинные полосы… и яростно раскидывал направо и налево прохожим. Отрывал и раскидывал. Как забузивший весь в лентах телетайп!.. Расшвырял— и всё, и дальше провал, дальше ночь!.. Смеющийся голосок всё захлёбывался в трубке, рассказывая ему в подробностях – как засовывали ему за пазуху эти конспекты. Как он брыкался. Потеха! А он чувствовал уже, плохо понимая что ему говорят, как тяжело, жестоко краснеет. Но ко всему прочему его уже называли на «ты». После, так сказать, Вчерашнего. Как не раз уже бывало с ним. В других случаях После Вчерашнего. С другими людьми. И всё это – уже с посмеивающимся превосходством трезвых людей, которые не позволят себе такого свинства. Все эти «ты» говорились уже с легоньким презреньицем в голосе. С пьедестала он слетел. Он, так сказать, не опасен. С ним, Серовым, всё понятно. Он уже свой. В доску. Клоун. Петрушка. Напившийся и нёсший чёрт знает что. Он был для них потешник, теряющий к тому же конспекты. С ним можно уже запросто, без церемоний. Хих-хих-хих-хих-хих!.. Он спросил, с кем говорит. Говорила та самая приживалка, Нюра, что каждый раз долбала рюмку с красным как дождевого червяка. А уж кто-кто,а приживалы знают точно, что-почём. Котировку выдают мгновенно. На любого вахлака. Этих на мякине не проведёшь. Шалишь. У этих без ошибки.Птицу видно по полету, добра молодца по соплям. Вот так-то, милок! Голосок в трубке всё посмеивался, всё давал советы, где искать ему эти конспекты. До смерти теперь будет этот голосок помнить про них. Серов извинился, повесил трубку. Да, всё правильно. Всё это правда. Всё это он – Серов… Но отчего, отчего ж тогда так саднит душу! Почему задевает всё это так!..
Из будки вышел. Сильный ветер хватал лицо. Шумел в ушах, как в двух разломанных погремушках.
43. «Григорий! Гри-ишка!»
Соглядатаем подходил на изломе ночи и затаивался у окна чёрный свет. Смрадно дышал, бесконечно веял. Так проходило полчаса, час. Силкина не выдерживала. Дёрнутый за шнурок, ночник вспухал как сыч. Женщина тянулась к стакану, к соде. Отрешённо намешивала ложечкой. С послабевшим, павшим белым мешочком лицом. Залпом выпивала. К врачу, к вра-ачу. Сегодня же. Преступное легкомыслие. Да. К своему здоровью. Преступное. Откинувшись на подушку, на ощупь ставила стакан на блюдце.
Лежала. Разбросанно, плоско. Как лежит пустая одежда. В успокоение себе, в награду, взглядом тянулась к трюмо слева от тахты. К красной пухленькой книжице на полированной поверхности тумбочки трюмо. Книжица стояла как раскрытая икона-складничек, из которой светилась она, Вера Фёдоровна Силкина. Густозавитая на фотокарточке, неузнаваемая, но она! она!Вера Федоровна! Силкина! Потому что кто же устоит в такой день перед фотографом, перед его категоричностью: «Только с причёской, милейшая! Только с причёской! В крайнем случае – с париком!» И пришлось потом бежать домой, срочно искать этот чёртов парик, густой, лохматый, насаживать его на голову, как целого болона какого-то, мчаться на такси назад, скорей под объектив, под свет, сидеть несколько легкомысленной, даже глуповатой от счастья, но… но кто же устоит? В такой день? В такой момент! Кто?!
Закрыв глаза, Вера Фёдоровна гладила уложенный на бок складничек,пальчиком водила по шершаво-скользкой поверхности его. Теперь будет покоиться он милой книжицей весь день у её сердца, а на ночь снова встанет,снова засветится у изголовья на полированном месте, опять как образок-складничек. И так будет каждую ночь, бесконечно, сладостно. Было в этом что-то от давно умершего, похороненного, но… но всё время воскресающего. Как от святости. Каждый день, каждый час, каждую минуту воскресающей. Чувственная сладостная святость. Любовь. Половой акт. Умирание – и воскрешение. К Вере Фёдоровне прихлынуло что-то заполняющее её, горячее. Долго не отпускало… Но опять приходил к двери, постукивая когтями по паркету, Джога. Начинал вынюхивать внизу, в щели, скулить. «Кожин! Кожин! – как англичанину, втолковывала ему Силкина одним словом. – Кожин!» Деликатно Джога уходил. Вера Фёдоровна опять ложилась, закрывала глаза…
Утром под холодным душем тело становилось натянутым, молодым.Закинув слепнущую голову, сжав ягодицы, вставала на носочки и тянулась к чему-то. Вся – как стрела в светящемся зыбком оперенье… С удовольствием вытирала тело сухим махровым полотенцем.
Красивая японская кофемолка походила на спиленный ствол дымчатого дерева, овитого чеёрной лозой. Застенала, завыла однако как советская.Кухня наполнилась стойким терпким ароматом. Вера Фёдоровна положила ложечкой в кофейник порцию, поставила на газ. Махровый длинный халат с откинутым капюшоном ладно облегал её попку, хорошо разводил, утяжелял её груди. Желудок больше не болел, изжоги не было. Но только с молоком!Только с молоком сегодня. Вера Фёдоровна, налив кофе в чашку, чуть-чуть подбелила его молочком. Так. Теперь холодильник. Ветчину – решительно! Буженину – сегодня побоку тоже. Колбасу варёную? Свежая ли? Нет, не надо.Пожалуй – сыр. Масло. Хлеб. И сверху – икорки. Баклажанной, разумеется.Вот так! Вера Фёдоровна умело, быстро делала бутерброды. Откусывала затем, запивала кофе. Подойдя к окну, смотрела во двор. Утренний, подмороженный, пустой. Только с Кожиным и Джогой.
У Джоги шёл обычный ритуал. Бульдог подходил и задирал лапу на столбы. Или надолго зависал на искривлённых передних. Точно никак не решался дать вверх стойку. Рядом Кожин терпеливо курил, ёжился в задрипанном плаще. Непокрытая стариковская голова его сверху походила на шершавую дыню, поставленную на попа.
Потом они шли со двора. Вроде как гулять. Бульдог у хозяйской ноги двигался как толстая слюнявая пиявка.
Но возвращались назад через минуту. Шли теперь к подъезду. Всё так же будто связанные кроваво-чёрными слюнями пса, неразделимые. Косились оба на окно на третьем этаже. На кухонное. Но Силкина, опаздывая, уже торопилась. Уже металась в своей комнате. Не хотел отстать, верблюдом кидался за ней халат. Да господи! Быстро передвигалась от шкафа к трюмо, прикладывая платья к груди. Упруго втыкались ножки в капроне и в туфлях на высоком каблуке. Подпрыгивала схваченная белыми трусиками ловкая попка. Сегодня Вера Фёдоровна выбрала деловой костюм. Элегантно-строгий. Костюмчик.
Уже на улице, во дворе, очень чистоплотно бросала в бак газетный свёрточек. С отходами. И небольшой, но гордый колокол плаща словно сам плыл к воротам, к арке.
В кабинете на время Вера Фёдоровна убирала всё со стола и ставила раскрытое удостоверение впереди себя на гладкую полировку. Сидела, как прилежная школьница, сложив на столе ручки. Только она – и вот это удостоверение будто бы на полированном поставце. Впереди. Словно фонарик, пронизывающий тьму жизни. Словно бы маленький проектор, светящий из её, Веры Фёдоровны, души. Можно сказать и так: Лучик Света В Тёмном Царстве. В зеркале у двери всё хорошо отражалось. Зеркало было заполнено солнечными попугаями и в них – улыбается она, Вера Федоровна. И удостоверение в зеркале видно. И она выдвигает его ещё дальше, вперёд по столу, чтобы оно ещё ярче светило…
Вера Фёдоровна вставала и начинала ходить у стола, как всегда выказывая себе прямые, ходкие, как пружинки, ножки. Поглядывала на светящуюся книжечку. Нет, привыкнуть к ней невозможно! Привычка здесь – преступление! Что̀ пришлось пережить! Какой пришлось пройти путь, чтобы вновь получить её. Чтобы вот она сейчас стояла на этом столе. Прошло пять лет со страшной той сессии. Тогда, уже в вестибюле, Кожин, отрешённо снимая шляпу, сдирая кашне, сказал ей, кивнув на кучкующихся и поглядывающих на него депутатов: «Вон, смотри. Слетелись. Со всей Москвы. Как старухи на похороны… Чуют покойничка. За версту чуют, гады…» Посмотрел на неё странно. Не в глаза, а как-то по всему лицу. Как обнюхал. Точно впервые узнал её по-настоящему. «Учти: сшибут меня – полетишь и ты… Так что знай…» – «Да что ты, Григорий Фёдорович! Типун тебе на язык! Возьми себя в руки!» Не верилось. Никак не верилось в плохой исход… Но что было на сессии! Боже мой, что творилось потом в самом зале! Какая была разнузданная свистопляска критиканства! Сколько было вылито помоев! Смешивали с грязью! Всё бюро! Секретариат! Больше всех избивали Кожина! Какой организовали помойный хор против него!.. Силкину не трогали. Про неё вроде бы забыли. Может, пронесёт? Но в перерыве, опятьв вестибюле, на робкое приветствие Веры Фёдоровны, на робкий её кивок Куимов… Куимов задрал голову и прошёл мимо. И фыркнул ещё возмущенно, точно призывая всех в свидетели: какова!
Вера Фёдоровна разом покрылась липким потом. Вспотели лицо, плечи, спина. Вспотели во всю длину в чулках ноги. Чулки точно разом утратили упругость. Как чехлы, стали елозящими, подвижными на ногах. Вера Федоровна по инерции продвигалась меж делегатов. Уже неуверенная, испуганная. Ей казалось, что она голая среди них, мужчин. Совершенно голая. Только в одних этих елозящих чулках и сбившихся трусиках. Толстая кромка которых въехала в промежность. И резала там. Зазубренно, тупо. Ржавым ножом…
В туалете её страшно рвало в раковину. Рвало одной желчью. И она, в коротких промежутках, хватая в себя воздух, чтобы жить, чтобы не умереть, отмахивала руками какой-то женщине, испуганно мечущейся тут же, пытающейся помочь: не мешайте! не мешайте! я сама! я сейчас! сейчас! Она не узнавала себя в зеркале. Выкатившиеся глаза её быликак жемчуг в разинутых раковинах! Готовый скатиться, упасть!.. Когда её вели в медпункт, она глубоко, точно лошадь, икала, методично кивая головой встречным, точно здоровалась с ними, точно всё успокаивала и их, и саму себя: сейчас! сейчас пройдёт! сейчас! ничего! Будто всё ещё обнажённая – зажимала грудь руками. Где соски замёрзли как земляника…
А потом были пять лет страданий и унижений. Пять лет вшивой этой общаги, этого директорства. За что?! Как это забыть?! Вера Федоровна запрокидывала голову, натягивалась вся, вцепившись позади себя в край стола.Зажмуривалась, глотала слезы. Ничего, ничего. Сейчас пройдёт. Ничего.Сейчас. Всё позади. В ящике стола нашаривала пачку. Длинную выдёргивала сигаретину. Нервно поигрывала ею меж пальцев, точно ждала, что ей поднесут огня. Сама нашла коробок. Неумело зажгла спичку. Прикурила как от обжигающего флага, хватая потом пальцами мочку уха. Ничего, ничего.Сейчас станет легче. Ничего. Коротко, мелко затягивалась, делая рот гузкой. Прислушивалась к себе. Ничего, ничего. Только не вспоминать. Забыть. Забыть навек. Ничего. Всё будет хорошо. Скоро её призовут. На настоящую работу. Её не забыли. Её выдвинули опять. Да. Её провели через всю кампанию. Через встречи. Через ящики. Голоса нашли, насчитали. Ей опять стали доверять. И сам Куимов, и Десятникова. И это надо помнить, с благодарностью помнить. А прежнее забыть, навек забыть!..
Между тем дверь кабинета уже дёргали. Удивляясь, что закрыто. Потом – деликатно стучали. Силкина говорила громко «сейчас!». Тушила сигарету в пепельнице на столе, депутатскую книжечку осторожно клала во внутренний карманчик пиджачка. Шла, открывала запертую на ключ дверь.
Уже по тому, как таинственно входила Нырова, предстояло увидеть нечто забавное, повторяющееся каждый раз одинаково.
Ныровакхекала, потирала руки как мужик перед выпивкой, чуть ли не подмигивала, движения её были размашисты, угловато-резки. Она словно играла в плохой самодеятельности роль этого мужика. Вдобавок переодетого в женское. Она как бы говорила Силкиной с его застенчивым добродушием подвыпившего: да ладно тебе! чего уж там! давай раздевайся-ка! раз пришёл!драть тебя буду! чего уж! Руки её ходили ходуном. Она могла что угодно задеть, опрокинуть, разбить…
Силкина прерывала пантомиму:
– Ну?
Тогда откуда-то мгновенно появлялся конверт. Нырова его со вкусом— двумя расставленными пальцами – продвинула по столу. К Силкиной, значит. К Вере Фёдоровне.
– Вот, Вера Фёдоровна, – сколько вы сказали. Точно.
Силкина брала конверт. В раздумьи поматывала им у плеча. Точно не знала, что с ним делать. Или, может быть, прикидывала вес…
– Так сколько же?..
– За двоих, Вера Фёдоровна, за двоих. Две. Две тысячи. Как вы сказали. Муж и жена. Из Абхазии. Я проверяла. Заплатили сразу. Они ещё и Шахову, понятно. В милицию. Но нам – без всяких! – Неожиданно забулькала смехом: – Хочешь жить в Москве – плати!..
Вера Фёдоровна всё продолжала поматывать рукой с конвертом. Потом раскрыла его. Привычно. Как раскрывают свое портмоне. Сбросила Ныровой несколько купюр. Лицо Ныровой после короткого бурного превращения стало походить на кота. Изготовившегося прыгнуть. На беспечную стайку птичек… Не в силах сдержаться – цапнула деньги. Поблагодарила. Почему-то по-деревенски. Не совсем уверенным «спасибочки». Вырвалось вдруг. Далёкое, давнее, девчоночье ещё. Сама удивилась. Но чтобы не заподозрили в чём – повторила ещё раз – определённо, твёрдо:
– Спасибочки!
Жёстко, зачем-то в несколько раз сворачивала хрустящие деньги. Как фокусник. Из той же самодеятельности. С расставленными ногами и локтями рук. Бумажки будто втирались ею в руки. А потом, собственно, исчезли. А куда – неизвестно. Силкина прятала улыбку.
– Пришлите ко мне паспортистку.
Нырова не слышала. Освободившиеся руки её оглаживали бёдра.Слегка отряхивались. Точно не могли прийти в себя. После такого-то номера!
– Я говорю: паспортистку пришлите!.. Оглохли?..
– А?.. Хорошо, хорошо, Вера Фёдоровна. – Нырова уже суетливо выметалась из кабинета. Тихо прикрыла за собой дверь.
Силкина кинула увесистый конверт в стол. Ящик стола от её руки передёрнулся быстро, коротко. Как пасть. Это вам не коты с птичками. Это посерьёзней зверёк. С удовольствием продолжила ходьбу на прямых пружинных своих ножках. Столу доверяла полностью. Так хороший дрессировщик доверяет коню. Тигру за спиной на тумбе. Да. Это вам не коты и птички!
В сумерках на тяжёлых коврах спальни густо прорастала тишина. Ковры казались тайными, живыми. Как трясины. Силкина лежала под ними на тахте распластанно, бестелесно. Бездумная, выжатая. Лежала по часу, по два… Заставляла себя, наконец, включить ночник, взять книгу. «Антонов-Овсеенко». Серия – «Жизнь замечательных людей». Пыталась сосредоточиться.
Под дверь приходили Кожин и Джога. Долго молчали, словно оба вынюхивали понизу. По-стариковски Кожин клянчил, домогался: «Верончик,открой… Веро-ончик!» – «Я убью тебя, Кожин», – спокойно говорила Силкина. Ждала с раскрытой книгой в руках. И старик и собака уходили, уносили тихие матерки Кожина. Вера Фёдоровна круто откидывалась на подушку. Перевёрнутые вытаращенные глаза её становились маленькими, дикими. Смотрели в стену, в ковёр. Отсветы от ночника пробили по ковру дыры. Дыры светились. И так же, дырами, в черноте желудка уже просвечивала изжога. Уже подкатывала, уже лезла наверх. Возгорающаяся, непереносимая. И никуда от неё, никуда! Господи, что делать с желудком? Что с ним? Неужели… рак?!
Силкина холодела. Резко садилась. Прислушивалась к себе. И скорым ответом ейначинал ныть низ живота. Быстро намешивала соду. Подставляла стакан к свету ночника. Поспешно пила. Клейкий раствор болтался в длинном стакане, как красный зародыш цыплёнка!.. И… как будто отпускало…Но… но что делать?! И ещё гад этот! Гад этот Кожин!
Страдание было полным, глубоким.
Однако на другой день с утра опять светило солнце, опять чирикали птички, и Вера Федоровна выходила в своём костюмчике подтянутая, после душа и кофе – бодрая, полная деловой решимости.
Она бросала очередной газетный сверточек в мусорный бак. Бросала по-кошачьи. Быстро. Как-то очень чистоплотно. Словно тайно подкидывала его кому-то. Как гадость. И непременные какие-нибудь две женщины с пустыми вёдрами, состукнувшисьВот Только На Минутку, разом умолкали, увидев эту процедуру. В растерянности смотрели вслед Силкиной, которая подпрыгивающей походкой уже шла к воротам… «Ишь чистоплотная! С ведром никогда не выйдет! Замараться боится…»
И на другой день не с ведром, а со свёрточком выйдет Вера Фёдоровна. А то и с двумя. Которые раз! раз! – и подкинет! И пойдёт, брезгливо отряхивая лапки, не имея к ним, свёрточкам, никакого отношения. «Вот эгоистка-а…» – вытаращатся друг на дружку две женщины с пустыми вёдрами. Забыв даже о своем разговоре. Одна выкажет аналитичность: «Привыкла к домработницам. А домработниц-то сейчас у них нету – фьють!» Другая скажет, что отец вытащит. С собакой. Ведро-то. Такая заставит.
– Да не отец он ей!
– А кто?
– Вроде… дядя…
– …Да ты по трупам пойдёшь, по трупам! Дай тебе волю! Ты-ы! Овсеенко-Антон!..
Тут же с треском захлопывалась форточка. Шипели слова:
– Заткнись, мерзавец! Не тебе говорить, не тебе!
– А-а! Боишься! Услышат! Огласка! Потому и терпишь меня, мерзавка! Ждёшь – сдохнет! Сам сдохнет! Ещё и всплакнёшь на похоронах. Платочек приложишь, мерзавка… Так не дождёшься! Я сплю спокойно. На персоналке. На выпить, закусить хватает. Мне обирать чуреков не надо! Мне…
– Заткнись, паразит!
Всё сметал рёв большого приёмника. Но мужской голос выкарабкивался наверх, болтался – изумлённый:
– Кто – я – паразит?! Я-а?! Да тут же всё моё! Всё! До ложки, вилки!
– Ну, это в суде разберутся. Разделят. Всё – пополам, милейший!
– Что-о?! Ты – пойдёшь – в суд – разводиться?! Делить всё?! Ты – карьеристик в юбке! Запятнаешь – себя?..
– Заткнись! заткнись! заткнись! Падаль, маразматик! паразит!
– А-а, проняло, стерва, проняло! А-а!
– Заткнись! заткнись! заткнись! Развратник! развратник! развратник!
Кулачок бил в кулачок не переставая.
– Кто-о?! Я – развратник?! Я-а?! И это – ты – говоришь мне-е?!
– Заткнись! заткнись! заткнись! Хам! хам! хам!
– Я-а— хам! А ты – не-ет?! Да семечки свои погрызи! Полузгай! Семечки! Ты-ы! Дунька из Кудеевки!
Большой приёмник загремел. Как битва. Но поверх всего, как будто тоненькие изнемогающие два копьеца, долго еще выкидывались, сшибались,падали и вновь вздёргивались пронзительные два голоска…
– Заткнись! заткнись! заткнись!..
– А-а, стерва, а-а!..
В скандале были упомянуты семечки. Он мазнул её по лицу Семечками. Её слабостью. Дурной привычкой. Ну что ж, отлично! Именно сейчас и нужно достать их. Заветный мешочек. С жареными, так сказать, с калёными.Купленными как раз сегодня. На Тишинке. Стаканчиками. Купленными словно бы для него, Кожина.«Для деда. Ха-ха. Из деревни, знаете ли, дед. С приветом, с деревенскими причудами. Вот – семечек потребовал. Каков!» Вера Фёдоровна посмеивалась всегдашней своей уловке, которую подкидывала на рынке продавцам семечек. «Дед, знаете ли. Деревенский». Узнал бы «дед» – на стену б полез. Гадость эта – маленькая, тайная – радовала. Бодрила. Как наркоман, на письменном столе уже раскладывала Вера Фёдоровна кучки. Чёрные, блестящие, лоснящиеся. Шторами сдвинула, сдёрнула в тюль солнечный свет. (Солнечный свет сразу начал строить в сжатом тюле рожи.)Настольную включала лампу. Трепетно готовилась. И – приступала. Громко щёлкала. Пусть слышит. Дед. Паразит. Рука летала то к зубам, то к семечкам.То к зубам, то к семечкам. Мокрая шелуха громоздилась на газете. На ум постороннему человеку пришли бы, наверное, пчёлы, гибнущие в масле. Через какое-то время механистичной этой работы с лица Силкиной слетали все мысли. Лицо, попросту говоря, тупело. Лицо приобретало вид шерстобитного колтуна на прялке. Из которого дёргают шерстяную нить… Работа шла час, а то и два. Несколько раз Силкина останавливалась. Прекратить? Продолжить? Шла мучительная внутренняя борьба… Не выдерживала Вера Фёдоровна, вновь по семечкам ударяла. Начинали в зеркале перед ней появляться образцы мушкетёрских экспаньолок. Атос. Партос. Арамис. И даже д, Артаньян. Затем всех побивал Карабас Барабас с длинной бородой. Оторваться же невозможно! Ну – никак! Это же как… стыдно даже сказать что!
Наконец… заворачивала шелуху в газету. Всегдашним своим пакетиком. Свёрточком. Чтобы завтра бросить его в мусорный бак. Совершить, так сказать, свой гаденький бросочек. Вот и погрызла семечек. Хорошо! Как будто тайно в церковь сходила. Помолилась. И никто, слава богу, не видел. Не уследил. Теперь нужно почистить зубки. Чтоб никаких следов. Да. В ванной тщательно чистила зубы. Обильно пенила во рту щёткой пасту. Свиристела горлышком, полоща рот.
А ближе к вечеру, словно обновлённая, опять подтянутая, бодрая, гуляла с псом сама. В соседнем парке. Джога послушно-устало везся рядом,опять как опившись крови, чёрно-слюнявый, в стальном ошейнике, будто с ожерельем. Гуляющие люди оборачивались на женщину с тяжело везущейся собакой. На даму, можно сказать, с собачкой.
Раза два в месяц Кожин молодел. Кожин, что называется, расправлял плечи. На осолнечненной длинной шторе в кухне весь день трепался жёлто-шёлковый, прохладный, живительный свет, а по голым мосластым ногам в пятнистых трусах смело гулял сквозняк. Кожин наливал, запрокидывался,дёргал. Как положено – крепко наморщивался. Хватал половинки свежих огурцов. Толкал в рот редиску, перьевой лук. Джога уныло дежурил рядом.Будто старый мордастый карлик у королевских ног. Глухо ударяла в конце коридора входная дверь. «Джога— ноль внимания!» Кожин расставлял ноги в леопардовых трусах.
Силкина входила в кухню, видела воинственного старика, который вцепился сиреневыми пальцами в солоделое мясцо коленок, который отчаянно, весело принимал брезгливый взгляд её, готовый к схватке… коротко приказывала: «Джога— место!»Открывала холодильник, приспосабливая в него пакетик с молоком. «Сидеть, Джога!» – спокойно приказывал король. Выбирал в тарелке и навешивал псу большой аппетитнейший ласт сала с бурой плотной сердцевиной. Ветчину навешивал. «Наше место здесь. На кухне, у порога, в ванной, в кладовой… С-сидеть!» – «Кому сказала?!» – настаивала хозяйка.
В крови пса бушевал невроз. Сердце сдваивалось, сдвоенно дёргалось.Сердце мучительно осваивало вегетативно-сосудистую дистонию. Чтобы как-то покончить с ней, чтобы хоть какой-то наступил компромисс… широкой мокрой облизкойДжога смахнул в пасть сало. Как будто он – это не он. А сало – будто не сало. Просто сырая салфетка… «Мерзавец!» – с удовольствием говорила Вера Фёдоровна, отворачиваясь и уходя. «Молодец! – кричал Кожин, трепля пса за жирную шею. – Знай наших! Свое сало жрём!»
Хихикая, Кожин смотрел на сожительницу, пока она открывала ключом свою дверь… Эта не довольствовалась обыденным. Общепринятым. Не-ет. Этой подавай всё время новенькое, неизведанное… Ночами она резко выворачивалась из-под него. Потная и будто бы даже злая… Подумав в полумраке, она нависала над ним роковым образом. Демонически!.. От радости он орудовал под ней будто в пещере: скрючивался, суетился, хватался «по потолку». «Григорий!» – выдыхала она, как Аксинья, как Быстрицкая в фильме.С хохлацко-донским «г». «Гри-ишка!» – И рушилась на него. А он точно захлебывался ею, подкидываясь. Какой Григорий, какой Гришка? Хотя был Григорием, хотя был Гришкой…
В позе виноватой козы… она невыносимо тужилась, точно никак не могла родить. «Григорий! Гришка!» А он страшно работал. Словно хотел немедленно помочь ей. Помочь в родах. Пробить, освободить пути. Размахивал над ней ручонками, пропадал. Потом вцепившись в задок, зверски мял его,раскачивал и рушился с ним на бок – сражённый. «Гри-ишка!» – ревела она пожаркой на перекрестке…
Или встанет над ним после всего, победно расставит ноги – и смотрит большущими глазищами на содеянное ею… А он – счастливенький, пьяненький – только возится под ней распаренным червяком и стеснительно водит рукой перед глазами. Не верит глазам своим… А она – стоит. Руки в бока. И мокрый альбатрос точно в паху дышит… Ужас! Умереть на месте!..
Да-а, это было счастье, подарок судьбы, бальзам на израненную душу.Счастливый, посмеиваясь, Кожин спрашивал её, где же она все-таки научилась этому… «Григорию». Смерив его взглядом, Силкина хмыкала, ничего не отвечая. Она сидела уже на краю тахты, уже при полном свете, щёткой оглаживала модно обесцвеченные свои волосы, как будто короткий белый оборванный мех. Позвоночник был вставлен в неё, как градусник. Кожин не мог удержаться, чтобы не тронуть пампушку его, застрявшую меж ягодиц. Температура оказывалась подходящей. «Отстань!» – откидывали его руку.
А под утро опять был «Григорий», ещё один был «Гришка». И счастью, казалось, не будет конца…
Сейчас не верилось, что всё это было, казалось вымыслом, сном. Обо всём если вспомнить – страшно!.. «Григорий! Гришка!» Да-а. Зигзаг удачи.Кто бы сказал тогда, как будет сейчас – плюнул бы в рожу. Кожин тянулся к бутылке, наливалполную. «Григорий! Гришка!» И водит взглядом, как гибнущая где-то внутри себя коза. И нижняя губа дрожит, отвесилась… «Григорий! Гришка!» Разве это забыть?! Эх! Ну, будь, Джога! Заглатывал водку. Тылом ладони отирал брезгливые губы. Хрустел редиской, выгрызая её прямо из пучка. Подкидывал вслед соли. Ни ложек, ни вилок на столе не было. Ни к чему. Всё руками. Пальцами. Нож вот только. Чтоб пластать ветчину. Держи,Джога! Лопай!..
Закинув ногу на ногу, ссутулившись, задумчиво тянул табак из длинного мундштука. С губой – как улита. Пепел падал неряшливо на пол. Как мак обвенчивал редкие волоски по ноге, шлёпанец.
Уже перед уходом к себе зачем-то открыл холодильник. Смотрел в нереальный резкий свет его – как будто в законсервированную сказку. Наклонился, взял яблоко. Яблоко было свежо, прохладно. Как щека женщины с мороза… Положил, не тронув, обратно. Нагорбленный, смотрел в окно на пустой двор. Грудь в волосах походила на размазанное гнездо. Моргали, полнились слезами крокодильи стариковские глаза. Поглядывая на него, Джога нервно облизывался, взбалтывая брылы. Как будто незаметно от хозяина стирал их. В лохани. Потом деликатно переступал за ним, покачивающимся, по коридору. Косил назад цыганским глазом. На кухне всё было брошено на столе. Из бутылки не выпито и половины, не съеденной осталась ветчина на тарелке. Всё так и будет валяться, пропадать до утра. Хозяйка не уберёт, не дотронется ни до чего. Потому что очень брезгливая…
Ночью Джога таскал неприкаянные свои брылы по освещённому, не выключаемому на ночькоридору. Таскал, как всё то жегрязное белье из лохани. С которым не знал что делать, где достирать. Осторожно подходил к закрытым дверям. Поскуливал. Ждал ответа…
Снова принимался ходить. По сопливому паркету лапы стукали как маракасы.


