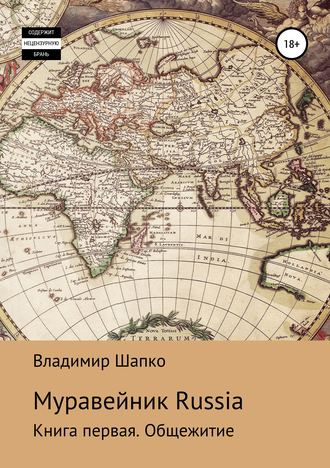
Владимир Мкарович Шапко
Муравейник Russia. Книга первая. Общежитие
47. Сорок лет спустя
Тогда, в начале лета, она сидела перед Кропиным в кухне вместе с внучкой, толстенькой девочкой лет восьми-девяти.
При виде её старого, какого-то желтовато-оплавленного недовольного лица, подожжённого склеротическими костерками, при виде высоко и необычайно чадливо взбитых волос… на ум Кропину приходила далёкая, дореволюционная ещё смолокурня. Теперь вот обретшая ноги, пришедшая к нему в квартиру откуда-то с Алтая. С заимки. Пришедшая с посохом. Со своей сермяжной правдой…
– …Вы слышите меня? – громко спрашивали у него как у охлороформленного в операционной. И он вздрагивал, говорил, что слышит. То есть слушает, конечно. Извините…
Ходила по кухне Чуша, игриво поглядывая на Кропина. Как, по меньшей мере, на алиментщика. Долго разыскиваемого и вот, наконец-то, пойманного. Кропин, как заяц, косил одним глазом. Однако боялся только одного – как бы не ушла на плите манная кашка. Не подгорела бы там, не уделала бы плиту. Вставал, помешивал длинной ложкой. Возвращался на стул.
Постепенно стало что-то проступать, проясняться. В далёкие тридцатые здесь, в Москве, в небезызвестном ему, Кропину, институте работали с ним следующие товарищи… Товарищи были названы. Все. Никто не забыт.Притом особо подчёркнуты были две последние фамилии: Левина и Калюжный…
– Улавливаете теперь суть?..
– Нет, – честно взбодрил глаза Кропин.
– Я её сестра…
– Кого?..
– Левиной… Родная… Елизавета Ивановна…
Та-ак. Она хочет, чтобы как в романе. «Сорок лет спустя». Но, собственно, что же должно изобразить тут? Руками всплеснуть? Вскочить? Не может быть! Невероятно!.. Однако задача…
Женщина ждала. Улыбчиво, требовательно…
– Ну, и что же она?.. Как?.. Вероника Фёдоровна, кажется?.. Если память не изменяет, конечно?..
– Маргарита Ивановна! – вскричала радостно женщина. – Как вам не стыдно забыть, Дмитрий Алексеевич!
Дождавшись, когда Чуша ушла к себе, сестра Левиной приступила к подробному объяснению причин своего с внучкой визита, столь странного для Кропина. («Вы должны всё мужественно выслушать, Дмитрий Алексеевич, и принять. Всё!»)
Через полчаса выяснилосьЭто Всё … А зачем, собственно. Но – ладно.
– А почему вы сами не привезли Эти Бумаги? Чего ведь проще!.. – удивился Кропин.
– Видите ли, Дмитрий Алексеевич. Тут было две причины. Во-первых,мы не знали… живы ли вы – уж извините, пожалуйста. Во-вторых, Маргарита сама хочет вас увидеть, сама, понимаете? Ей многое нужно вам сказать лично. С глазу на глаз. Понимаете? Она больна, неизлечимо больна, да, всё это так (и это ужасно!), но она борется, она дождётся вас, Дмитрий Алексеевич, дождётся. Этим только и живёт сейчас. Неужели вы ей откажете?..
На Кропина смотрели глаза собаки, молящие, готовые заплакать. Кропин смутился.
– Но ведь я работаю… А ехать… сами знаете… На Алтай, в Сибирь…
– В отпуск, в отпуск, Дмитрий Алексеевич. Мы обождём… Мы дождёмся вас, дождёмся. Вы не пожалеете! Мы встретим вас как… как царя!Как Главу Государства! Дмитрий Алексеевич!
– Ну, уж – «как Главу Государства», – совсем смутился Кропин. Покраснел даже. Однако сразу же поднялся, чтобы тащить два здоровенных чемодана в свою комнату. И, поднатужившись, потащил. Забытая кастрюлька с манной кашкой уже чадила. Женщина кинулась, выключила газ. Затем догнала с внучкой хозяина и деликатно, в ногу, шла с ним, как бы не мешая ему нести два тяжелых этих чемодана. Словно бы даже помогая ему в ответственном этом деле.
В комнате Кропина она удивилась её размерам: да тут десять раскладушек можно поставить, не то что одну для вас! А, Дмитрий Алексеевич?Кропин начал было, что лучше ему у Жогина, соседа, который уехал сейчас,или, на худой конец, в кухне хотя бы.
– Но мы же взрослые люди, Дмитрий Алексеевич! Да и ребёнок вот… – Игриво она обняла внучку: – Правда, Ёлочка? (Ничего себе «ёлочка», подумал Кропин, глядя на чересчур упитанного ребёнка.) – И подвела черту: – Намэ т осегодня, думаю, не грозит. Вы согласны со мной? Хи-хи-хи!
Через десять минут (так и не поужинав) Кропин лежал на раскладушке, вытянутый как покойник, укрытый одной только простынёй. Боялся шевельнуться. Скрипнуть.
Уже в ночном сером коробе гостья металась вокруг кропинской тахты: раскладывала одеяло, расправляла, разглаживала накинутую простыню, выказывая Кропину обветшалые ляжки старухи. Потом быстро раздевала внучку. Толстенькая девочка покачивалась от усталости – тельцем беленькая, как свечка, с красным, пылающим перед сном личиком. Приняла на себя ночную рубашку… Когда всё было сделано и внучка лежала у стены, – гостья с озабоченностью посмотрела по безбожным кропинским углам. Не найдя ничего, быстро приклонилась на колено к полу, как бы создала быстрый божий мирок, пошептала в нём что-то с закрытыми глазами, перекрестилась несколько раз и юркнула под одеяло, перед этим метнувшись и сдёрнув свет. В темноте сначала говорила о сестре, о Маргарите, о её положении в городе, о семье, о внезапной страшной болезни, рассказала вскользь и о себе – как попала на Алтай. Кропин уже задрёмывал, когда его вдруг спросили, почему он до сих пор не женат. Спросили строго, словно бы даже официально. Да, товарищ Кропин! Повисла пауза. Смягчая её, спросили ещё раз. Более душевно. Даже с некоторым кокетством. Почему бы вам, Дмитрий Алексеевич, не жениться? Его попросили включить свет. Чтобы видеть его лицо. Ёлочка спит. Кропин потянулся, включил настольную лампу, стоящую на стуле. Гостья хотела,видимо, Поговорить По Душам. Она даже приподнялась на локоть на тахте – из ночной рубашки, как из оперенья, словно бы торчал старый, но ещё довольно кокетливый беркут… «Видите ли, сударыня, – откашлявшись, почему-то глубоким басом начал Кропин. Как мастодонт-генерал из старого анекдота. – Для того чтобы жениться, нужно для начала… как бы это сказать?.. нужно для начала помешаться, что ли. Стать помешанным. Одуреть. И довольно-таки сильно. Основательно. И самому одуреть, и той, на ком ты собрался жениться. Ей тоже. Понимаете? А в нашем возрасте это сделать уже довольно трудно. Почти невозможно. Не получается уже… одуреть…»
Когда увидел, что в большом плёночном глазе женщины удивленно выгнулось целое мироздание… сразу заторопился: «Но я не хочу сказать, что женитьба – дурость. Нет, женитьба не дурость. Я не говорю, что женитьба – дурость. Никто не говорит, что женитьба… В общем, если вам показалось – из моих слов – что женитьба – дурость, то ни сном, ни духом, понимаете? Нет!..»
Она упала на подушку – ничего не поняла. «Нет, если вам показалось,что я хотел сказать, что женитьба… То поверьте!..»
Она полежала с минуту. Буркнув «спокойной ночи», отвернулась к внучке. А Кропин долго ещё не мог успокоиться… Нет, конечно, если это понимать так – то да-а. Но ведь совсем по-другому, поверьте! Полежав какое-то время, осторожно выключил свет.
…Все ждали, нетерпеливо ждали. Вытягивались, вертели головами,срываясь с бордюра на дорогу. Милиционеры снисходительно не замечали нарушений. Похаживали. Бодрили себя подскочным шагом и резкими подхлопами по сапогам палками.
Вдали, на горбу пустого проспекта, обрамлённого бесконечно вытянутой, волнующейся порослью людей, показались три легковые милицейские машины с мигалками. Мчались. Раскрашенные как попугаи. И за ними, наконец, всплыла на проспект широкая открытая машина, где и был установлен Глава Государства. Двумя рядками, плотнясь, терпеливо, как кобельки за сукой, трусили за ним на машинах кто пониже рангом. «Как хорошо всё! Как прекрасно! – шептал Кропин со слезами на глазах, забыто хлопая в ладоши. – Глава Государства и его народ! Какое единение! Какое это счастье!» Не удержавшись, скромно похвалился соседу, что и его, Кропина, тоже скоро будут встречать так же. Как Главу Государства. Глаза соседа завернуло восьмёркой. «Не верите? Вот увидите – она работает начальником торговли всего города. Всей области!» У соседа глаза встали на место. «Бывает», – сказал он.«А-а!» – торжествующе смеялся Кропин.
Между тем машина с Главой Государства приближалась. Была она настолько завалена цветами, что казалась – могилой. Богатой широкой движущейся могилой! В равных промежутках дороги, вложенные в схему движения кортежа точно, выбегали на прямых пружинных ногах на проезжую часть дороги девушки. Цветы летели более или менее точно – кашкой. Отбросавшись, девушки так же на пружинных ногах пригоняли свое смущение назад, в толпу, которая уже не видела их, которая восторженно ревела. «Как хорошо всё! Как прекрасно! Какой хороший сон! Какое счастье!» Кропина мяли со всех сторон, толкали. Он не чувствовал этого, хлопал в ладоши, тянулся навстречу машине, махал.
Как кукловоды, внезапно раскрытые всем, стелились по машине вокруг Главы какие-то люди. Точно не в силах оборвать представление. Точно продолжали и продолжали подталкивать правую руку его кверху (чтоб приветственно стояла она, не падала, не валилась). Снизу, снизу старались, как бы исподтишка. Рука держалась какое-то время. И рушилась. И люди эти снова стелились, мучительно прятались в машине, опять раскрытые всем, всему миру.
Вдруг руки Главы Государства замахались сами. Ветряной мельницей.Потешные крутящиеся извергая огни. Всё это трещало в красном дыму, хлопалось, стреляло мириадами огней и огоньков. Народ обезумел. Кукловоды и пиротехники заметались по машине, включали, дёргали какие-то рычаги, добились-таки своего: пустили главный какой-то механизм на ход, расшуровали его как следует – и, как безумный радостный аттракцион, Глава Государства летел и ещё яростнее махался, извергая крутящиеся мельницы огня.
Обезумевший Кропин не выдержал, кинулся. Догнал. «Ур-ра-а-а! товарищи-и!» Бежал, подпрыгивал рядом с машиной. Глава Государства перестал махаться, скосив дремучую бровь: «Отстань!» Кропин бежал. «Отвали!» Кропинподкозливал на бегу. Успел увидеть только резкий, тыквенный оскал зубов и тут же получил тупым резиновым кулаком в лицо. Отлетел к обочине.
Машина покатилась дальше. Улетая спиной вперёд, подобно китобою,выцеливал Главу аппаратурой с другой машины хроникёр. Вместе с укатывающимся рёвом, как отдрессированный дождь, сразу начинали хлестаться флажки по тротуарам.
Выбитый зуб Кропин разглядывал как чудную жемчужину. Озарённый ею, стоя на коленях. Хотел подарить зуб в трепетных ладонях людям… и увидел, как хроникёр на машине вдруг начал откручивать ручкой всё обратно, к началу. Поскакали назад люди, съедая, пряча флажки; машины, дёргаясь, пятились, приближались. И всё размазанно остановилось перед Кропиным… «Ну-ка, дай сюда!» Глава перегнулся с машины, выхватил у Кропина зуб. В нагрудный карман себе вложил. Рядом с густым золотым звездьём. Гулко стукнул себя по груди – «Алмазный фонд СССР!» И приказал: «Поехали!» И всё опять двинулось дальше, и полетел хроникёр, выцеливая, и – отдрессированные— захлестались флажки по тротуарам…
Кропина— как толкнули: разом проснулся. В комнате словно скворчал, жарился чёрный петух… Кропин деликатно – соловушкой – посвистел. Старуха оборвала храп, прислушалась. Повернулась на бок. Петух заскворчал внучке в голову и в стену.
Второй раз свистеть Кропин не решился. Повздыхал. Глаза его смежились. Рот распустился, забалабанил потихоньку губой тоже.
Чёрный петух вылез из глотки старухи. Спрыгнул на пол. Походил.Весь полуощипанный. С упавшим гребнем – как одноглазый пират. Вдруг больно клюнул Кропина в ногу. «О, господи!» – волной проколыхнулсяКропин— аж раскладушка защебетала. Старуха разом оборвала храп, вслушалась. Кропин затаился. Но пружины раскладушки предательски поскрипывали. Словно невероятным усилием воли Кропин заставил их замолчать. Старуха сразу захрапела. Кропин с облегчением расправил тело, принялся обдумывать всё. Пошёл, что называется, потусторонний нескончаемый курсив воспоминаний. И хорошего, и плохого. До утра времени было много…
…осколок ударил его по напружиненным ногам сбоку, вскользь. Но разом порвал подколенные сухожилия. Он должен был вымахнуть вместе со всеми на бруствер и бежать, бежать с синим воплем в темноту, в сверкание огня, в разрывы, в вой. И он уже закричал и выкинулся наверх – и его полоснуло по ногам. Он никогда не играл в теннис, но ощущение было такое, будто его, как теннисный мячик, подрезали острой железной ракеткой. Он слетел в окоп, вскакивал на ноги, и ноги его были как тряпки, он падал, снова вскакивал, потом только ползал, скулил от боли, беспомощности и какой-то мальчишеской обиды… Когда несолоно хлебавши взвод свалился обратно в окоп,его, обезноженного, везли-тащили на плащ-палатке по грязи, по хляби узкой траншеи, а он всё пытался сгибать и разгибать ноги, но у него ничего не получалось. И дёргалось, останавливалось и снова резко уходило назад чёрное безлунное октябрьское небо в серебряно-резкой парче звёзд…
…не снимая полушубка, прямо с вещмешком он прошёл в кухню родной своей коммуналки, где не был – как успел прикинуть – ровно два года. Тумбочка его и столик стояли на месте. Цела была даже керосинка. Вдобавок – заправленная. С непонятным волнением, с радостью даже он принялся тут же что-то готовить. Посуда забыла его, не слушалась. Он только посмеивался. Разбил тарелку, ещё что-то на пол ронял, веселясь от этого как пьяный, как дурачок… Потом пил чай с новыми соседями, пугающимися почему-то его.Мужем и женой. «Всё ваше цело!» – поминутно, наперебой повторяли они.«И в комнате вашей всё цело!.. Но вот ключ – он не оставил». (Имелся в виду новый жилец, которого временно поселили в комнате Кропина.) Предложили переночевать у них. Кропин сказал, что может и Валю Семёнову подождать.Ну а в крайнем случае, мог бы и здесь вот – в кухне. Что вы! что вы! – замахали они на него руками. Как можно! «В кухне»! А Валя придёт только утром. Она же в ночной. А, Дмитрий Алексеевич? Новый сосед уже просительно заглядывал Кропину в глаза. Был он бледен, измождён. Явно больной. Язвенник или туберкулезник. Кропин уводил взгляд. Кивнув, согласился…
…большая, почти пустая эта комната была словно из какого-то давнего сна его. Казалась нереальной, фантастической. Пустой стол с трёхлинейной горящей лампой посередине, две табуретки у стола. Странный, не вяжущийся с комнатой, – усохший рояль в углу. Серая голая стена над ним… Ему постелили на полу. Больше негде было. Молча приходил и смотрел на него сажный кот со стеклянными усами. Так же молча – уходил. Бесшумный, растворяющийся как дым. Исхудалые тени хозяев метались по стенам, словно любящие друг друга смерти в саванах. Ему было больно на них смотреть. Не переставая передвигаться, они ему говорили, чтобы утром, как встанет, обязательно разогрел жареную картошку и непременно поел, потому что их уже не будет, им в первую. Он узнал, что работают они с Валей Семёновой на одном заводе, только в разных цехах, что работать приходится по двенадцать-четырнадцать часов, поэтому если домой – то только отсыпаться, иначе не выдержишь. Что у мужа вторая группа, туберкулез, еще с финской. Что отсыпаться и отъедаться, как сам он со смехом поведал, будут после войны… Мужчина долго, как заклиная, смотрел на высохший свет лампы на столе. Потом на цыпочках протыкался к нему. Сдунул. И они с женой легли куда-то за рояль – и как пропали там. Словно их и не было никогда в этой комнате… Как будто расстроенные чёрненькие клавишки рояля – густо, истерично заработали сверчки. Глаза кота горели жёлто – пиратским золотом…
…приснился ему почему-то Качкин. Никогда раньше не снился. Профессор Качкин. Автомобилист Качкин. Всё происходило вроде бы во дворе института. Стояли возле его колымаги, и Афанасий Самсонович что-то рассказывал ему, посмеивался. (Что рассказывал? – пустота, звука не было, просто раскрывался-закрывался рот Качкина.) Потом привычно, не глядя даже под капот, привязал к мотору свои руки. Точно фокусник. Точно готовил в ящике голубя. Который сейчас вылетит. А неизменный друг его Щелков с метлойстоял рядом и в восхищении покручивал головой. Мол, вот даёт Самсоныч! И всё было хорошо: приблудный преданный кобель переломил ухо вопросом, солнце слепило, отскакивало от институтских окон, холод цветущей черёмухи – словно метлой Щелкова – был свален в углу двора… Но вдруг машина дёрнулась, затряслась, заработала. Сама. По своей словно воле. Руки Качкина рвануло, стало втягивать куда-то внутрь мотора. Лицо старика перекосилось от боли, он уже вскидывал голову, удерживал крики, стонал, боролся. Как будто руки его затягивало в молотилку, в барабан. Щелков метался вокруг, хватал, тянул, старался выдернуть, вырвать его из страшного механизма, но ничего не получалось – Качкин падал на капот, терял сознание,руки под капотом перемалывало, волнами сходила, скатывалась по лаку машины кровь. И Щелков, с белыми глазами, оборачиваясь, кричал: «Люди!Помоги-ите!» Кропин рванулся к ним, но кто-то крепко схватил его сзади,вывернул руки. Кропин пытался вырваться, но этот кто-то сразу начинал вывернутые руки дёргать вверх, и Кропин ломался к земле, от боли тоже теряясознание, задыхаясь… Приблудный кобель ослеп, скулил, полз в угол двора,под черёмуху…
…он открыл глаза, почувствовав сдерживаемое близкое дыхание. Тёмное, как закрытый медальон, лицо женщины овеивалось светящимися волосами. Глаза сияли радостью, и болью, и мольбой… «Митя… родной…» – еле слышно шептала женщина… И, может быть, впервые в мужской своей жизни он обнял, загрёб её голову крепкой рукой, припал, прижался своими губами к подавшимся женским губам. Припал мучительно, надолго. Как припадает измученный путник после долгой дороги к источнику, к вожделенной воде…
…потом они ели на кухне. Никаких баночек и кастрюлечек, которыми она до войны зимами запасливо забивала подоконник между стёклами кухонного окна… давно уже не было. Стояла там только одна-разъединственная кастрюлька с какой-то затирушкой, которую Валя и потянула было за верёвочку… но Кропин бросился, снял женщину с подоконника и как беспомощную, обезноженную отнёс и посадил на табуретку. Метался потом от керосинки к столу, вскрывал какие-то консервы, быстро резал хлеб, а она сидела – в сорочке, худенькая – смотрела возле себя, стеснительно поджимая оголённые ноги под табуретку, и слёзы скатывались по впалым её щекам… Она молча ела, виновато, трудно глотая, часто приклонялась к тарелке и досадливо откидывала лезущую к губам светлую прядь волос. А он смотрел на неё – на её провалившуюся шейку, на исхудалую грудь, походившую больше на выпуклый зонт, чем на грудь – и ему было больно…
…и опять в радостной муке стремился он к запрокинутому некрасивому, счастливому, плачущему лицу женщины. А она, стараясь не очень умело, уже как-то по-семейному, утвердительно-отмечающе спрашивала его:
– Так, милый?.. Так?.. Так?.. – Как будто падали коротко медленные утвердительные капли… И он, совсем теряя голову, пойманный, схваченный острым красным желанием, проваливаясь в него, как безумный, только твердил: – Да!.. Да!.. Да!..
– Так, милый?.. Так?.. Так?..
…переданное ему письмо было неожиданным, странным: «Дорогой Дмитрий Алексеевич! Пишет вам Маргарита Ивановна Левина, бывшая ваша сослуживица по институту. Соседка ваша, Валентина Семёнова (как она назвалась), сказала мне, что вы сейчас (а пишу я это письмо 3-го ноября) находитесь в госпитале в Куйбышеве. Что дела у вас идут на лад, на поправку (слава Богу! слава Богу!) и что, возможно, перед отбытием на фронт вы заедете на короткое время в Москву… Так вот, Дмитрий Алексеевич – я вас прошу, я вас заклинаю, молю зайти ко мне, когда вы будете в Москве! Дело касается всех нас, бывших сотрудников всей нашей бывшей кафедры в небезызвестном вам институте. Понимаете, О Чём я хочу вам рассказать?.. Извините, что поступаю опрометчиво, оставляя это письмо совершенно незнакомой мне женщине, но у меня… просто нет другого выхода. Итак, мой адрес:. . . . . . . . . . . . . . . . . .Жду вас, Дмитрий Алексеевич, с нетерпением жду. Левина».
Он прочёл письмо. Сворачивал снова в треугольник. Как было свёрнуто оно. Словно для фронта. Надписанное только одним словом: Кропину…
– Неприятное письмо, да, Митя? Нехорошее? Плохое?
– Да уже чего хорошего… – Складка над переносицей у него резко означилась, похудела, стала острой. Как у внезапно повзрослевшего подростка… Женщина прижалась к нему, обняла: – Не ходи туда! Не езди! Митя!..
Однако вечером он поехал по адресу из письма…
…дома с печными трубами среди пробелённых морозом деревьев были как уснувшие хохлы с едва курящимися люльками… Нужный дом среди них оказался двухэтажным. Финского типа. С двумя подъездами. Он вошёл наугад в левый. Тускло высвечивала площадку первого этажа лампочка с потолка. Дверь квартиры номер три была обычная – обтянутая дерматином. Он нажал кнопку звонка. За дверью прострельнула тишина. Он ещё раз надавил. Ещё. Не работает, что ли?.. За спиной хлопнула входная дверь. Он повернулся, чтобы спросить, но проходящая женщина остановилась, сама тихо сказала: «Уходите. Её нет. Увезли. Понимаете? Месяц назад. Уходите». Застучала ботами на второй этаж…
Он быстро шёл посередине проезжей части дороги. Бился под фонарями крупный снег. Будто спешно брошенные игровые лотереи. Ни души кругом, ни звука. Зачернённая луна вверху скалилась. Словно взнузданный, глодающий удила негр… Кропинпобежал. Всё быстрее, быстрее. Но застучала, забила по ногам боль. Прихрамывая, всё равно торопился. Не сворачивал на тротуар, в темноту. Тащил себя только мимо брошенных фонарей с бьющимся светлым снегом, только мимо них…
Опустошённый, Кропин забылся на рассвете, когда в комнате чуть посветлело, а храп старухи не казался уже таким уж страшным, обессилелся,просто тихо побулькивал. Однако спал, как показалось, всего несколько минут. Теперь его разбудили громкие голоса в коридоре. Кропин глянул на тахту – ни старухи, ни девчонки. С кряхтениями, но быстро выкарабкался из раскладушки и как был – в пижаме – вымахнул в коридор.
При виде перепуганного старика женщины (гостья и Чуша) разом замолчали. Перестали кричать. Словно пойманные на нехорошем, словно устыдившись. Забыв о ванной, о битве за неё. Старуха первая опомнилась – с внучкой юркнула за дверь, щёлкнула задвижкой. И сразу же там зашумела вода.
– Ну, Кропин! Ну, привёл ты бабу! – опахнули старика злые и в то же время изумлённые слова. В халате своем в птицах, с банным полотенцем, как громаднейший самбист с золотым поясом через плечо, получивший вдруг поражение от какого-то замухрышки (в данном случае – шмакодявки) – Чуша прошла к себе, саданув дверью.
Кропин пошёл на кухню ставить чайник. Кропин зло радовался. Уж он-то знал, как моется эта чёртова толстуха. Сколько ей нужно времени.Взгромоздясь в ванну, она мыла себя как целую дивизию толстух. Как целую армию. Наверное, отдельными полками, батальонами, ротами… И час, и полтора… Кропин не выдерживал, стучал. С полотенцем на руке, с бельём…«Успеешь», – розовый, довольный слышался из-за двери голос. Кропин уходил на кухню. Ждал. Полчаса. Возвращался, яростно барабанил. «У-уть,Кропин!» – слышалось из ванной уныривающее, и женщина дурашливо волохталась. Как на озере. Одна будто. И – голая… «Она что, соблазняет меня, что ли?» – испуганно думал первое время старик… «Это же чёрт знает что!..»
…С удовольствием, быстро готовил в кухне завтрак на свалившуюся семейку. Как привычная утренняя хозяйка с ловкими, шулерскими руками.Руки перекрещивались, распадались, открывали, прикрывали, ставили одно,убирали другое, смахивали третье. А сам повар всё посмеивался, покручивал головой в невольном восхищении перед этой приехавшей Елизаветой Ивановной: надо же! отбрила-таки! и кого – Чушу! Прожжённую Чушу! Вот женщина!
И даже когда после завтрака его повлекли в центр и стали таскать по цумам и гумам (а считалось, что это он сам, Кропин, водит, показывает, что он – гид), когда с одичалыми глазами и покупками она выходила из очередной секции и сбрасывала всё в его руки, как в кузов, не видя, не воспринимая его самого совершенно – Кропин и тогда только снисходительно улыбался. С тем всегдашним дурацким мужским превосходством во взоре: женщины…(А что, собственно, – женщины?Не люди?)
Но постепенно что-то стало раздражать его в этой хваткой старухе.Даже злить. Флегматичная внучка, всегда оставляемая с ним, не очень-то смотрела по сторонам – она всё время жевала. То очередную шоколадку, то печенье. Зато бабушка её преподобная – носилась. По секциям. Выпучив глаза. И Кропин стоял и уже кипел, нагруженный как мул.
…Возле перекрёстка сбило мотоциклом пожилую женщину. Она сидела прямо на асфальте, перед разбитой полной своей ногой, как перед разбитым большим сосудом, истекающим на асфальт кровью. Раскачивалась, закидывала голову, плакала. Игрушечно, плоско валялся мотоцикл, тут же просыпались яблоки и ещё какие-то продукты из хозяйственных двух сумок женщины. Мотоциклист, молодой парень, бегал вокруг, тоже весь ободранный, зачем-то пытался поставить женщину на ноги… Елизавета Ивановна увидела.Сразу заторопилась, потащила за руку внучку. Подвела испуганную девчушку вплотную к женщине. Не обращая внимания на уже сбежавшихся, суетящихся вокруг женщины людей, внушала: «Вот видишь, видишь – как переходить, где не положено!» Менторша старалась. Размахивала руками. Всё втолковывала ребёнку, показывая на женщину как на своевременный, упавший прямо с неба экспонат. «Видишь, видишь!» Кропину стало нехорошо, нудно. Виделось в старой этой, неумной бабе что-то от богатой, строгой церкви. Которая всегда… которая специально держит при себе на паперти нищих, убогих, увечных. Держит исключительно в воспитательных целях. Для назидания, для воспитания у прочих, благополучных, дозированного милосердия. И, наверное, если бы не это – разгоняли бы всех нищих как голубей… Кропин подошёл к телефону-автомату, стал накручивать диск, вызывать «скорую»…
И ещё был в этот день подобный урок воспитания… Точно услышав и запомнив мысль Кропина о церквях и нищих при них… остановила внучку возле нищего. Правда, не церковного, а сидящего у решетки в подземном переходе. Дидактически-страстно начала было объяснять, как можно дойти до такой жизни, что доводит до жизни такой… Однако опухший забулдыга сразу стал искать вокруг себя какой-нибудь предмет. Чтобы запустить им встерву… Тогда поспешно повела внучку дальше. Видишь, видишь, какие они!Кропин был забыт. Кропин еле поспевал за ними. Не переставал испуганно удивляться. Это был семейный эгоизм какого-то высочайшего, совершенно неведомого Кропину градуса. Вдруг остановился и начал хохотать, вспомнив анекдот о Дистрофике и Даме, которая, приведя того к себе домой, кокетливо попросила его раздеться, и непременно до плавок, а потом вывела из другой комнаты худенького мальчишку лет пяти… «Вот, Вова, будешь плохо есть – таким же станешь!» Ха-ах-хах-хах!..
Сидели на скамейке в каком-то скверике. Гнутый старик в грязном плаще и рваной обуви кормил голубей. Выщипывал мякоть из полбуханки и кидал. Голуби слетались. Голуби заворачивали и бежали за хлебом армией.Внучка спросила бабушку, проявив внезапный интерес: почему голуби летают? «От голода. Они от голода лёгкие, потому и летают», – долго не думая, ответила практичная бабушка. Кропин отворачивался, задирал голову, ударяемый внутренним истеричным смехом. «Что с вами, Дмитрий Алексеевич?» – повернулись к нему изумлённые глаза. «Ничего, ничего, не беспокойтесь!» Когда пошли, отставал, оступался, ничего не видел от давящего смеха, от слёз…
Ночью Кропин опять не мог уснуть – храп неутомимой старухи был свеж, по-морскому накатен. Бушевал. Кропин свистел, хлопал в ладоши – ничего не помогало. На минуту прервавшись, испуганно вслушавшись в измученную тишину, гостья раскатывалась с новой силой. Демонстративно громко проскрипев пружинами, Кропин встал, сгрёб подушку, направился к двери. «Вы куда?» – сразу спросили его из темноты. «Сейчас!» – Хлопнул дверью.
Лежал на боку, на разложенном диване Художника Жогина, сплошь уделанного красками – как на шершавом, засохшем макете-панораме Бородинской битвы. Рука ощупывала заскорузлые редуты, укрепления, пушки,вроде бы даже кивера страдных солдат… И начал уже было проваливаться в сон… но откуда-то прискакал на коне Денис Давыдов, оказавшийся Жогиным, спрыгнул на землю и сразу же закричал, мотая головой и плача: «Товарищ фельдмаршал! Товарищ фельдмаршал! Наша жизненная битва полностью проиграна! Полностью!» Стал приседать, ударяя себя кулаком по голове: «Обошли! О-обошли!» «Где?!» – вскричал Кропин и прищурил единственный – зоркий – глаз, и приставил к нему трубу. «Во-он! Во-он!» – всё кричал-плакал Денис Давыдов-Жогин, чумазый, в пороховой гари, но в кивере и с усами. Кропин водил трубой. Не туда, оказывается. «Во-он!» И верно – слева наседали носатые французы. Слева обошли русаков. «Обошли-таки, ятит твою!» – выругался Кропин и схлопнул трубу.
А потом густо потянуло по всей панораме дымом, и стала ходить по ней Женщина, Женщина-Мать с распущенными волосами и в длинной рубахе. Вместе с сильным симфоническим ветром музыкально звала: «Дмитрий Алексеевич! Где вы? Отзовитесь! Дмитрий Алексеевич!»
Кропин, сев на диване, раскачивался. Ничего не соображал. Жалобный голос доносился из коридора. Широко расставляя ноги, чтобы не упасть, Дмитрий Алексеевич пошёл…
Словно находясь на крохотном островке, вокруг которого сплошная вода, они держались за руки и высматривали его, Кропина, почему-то на потолке. Бабушка и внучка. Словно искали его там, как на небе. Взывали к нему, точно к прячущемуся где-то за облаком ангелу. «Дмитрий Алексеевич!Где вы!?» Увидели его в раскрытой двери, заспешили. «Дмитрий Алексеевич,родной вы наш, – боимся!» Старая всклоченная женщина дрожала, моляще смотрела на Кропина. Так же как и девочка, которая не отпускала её рук. Обе в серых коробах до пят, испуганные. «Пойдёмте к нам. Пожалуйста». У Кропина сжалось сердце. «Простите меня. Сейчас». Он ринулся обратно в комнату Жогина, схватил подушку, тут же вышел. Повёл плачущую женщину. Предупредительный, сам страдающий, с подушкой под левой рукой. Из своей двери на них смотрели Чуша и Переляев. Оба весёлые. Откровенно прыскали. Захлопнулись. Кропин осторожно завёл бабушку с внучкой в комнату и включил свет. Снова укладывались. Обнятая сразу заснувшим ребёнком, женщина по-прежнему плакала, говорила, что больше не будет. Что темноты боится, когда никого нет в комнате. Кропин её успокаивал, мол, ничего, бывает, и уже засыпал, но за стеной поставили пластинку, и, как всегда, Переляев начал тамТрясти Сено. Под забойный фокстрот. «О, господи! Эти ещё опять!» «Что это?!» – вскинулась на локоть женщина. «Не пугайтесь… Любители эстрадной музыки… Спите».


