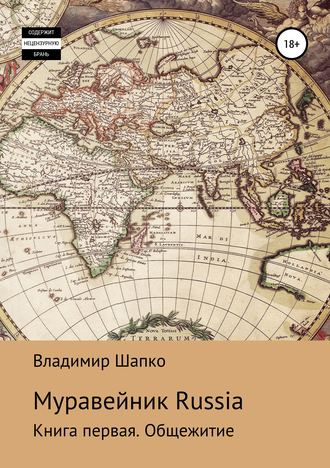
Владимир Мкарович Шапко
Муравейник Russia. Книга первая. Общежитие
10. Чернильно-фильдекосовый и его подчинённые
После короткой, сокрушительной пропесочки в автоколонне за вытрезвитель (сдёрнут разом был с тринадцатой, с летнего графика на отпуск, на три месяца в гараж – слесарить!) у Серова, что называется, кости затрещали от трёх этих кинутых на него мешков, в глазах потемнело, но встал, распрямился, перевёл дух, поблагодарил собравшихся за науку. И особеннонашего дорогого товарища Хромова. Нашего многоуважаемогоначальника автоколонны! «Не юродствуй, алкаш!» – прогремел тот из-за красного стола на сцене. Сидящий один. Как-то гораздо выше всего. И стола, и сцены. И всех внизу, в зрительном узком зальце клуба. «Всё! – прихлопнул по столу. – Лавочка закрыта!»
Остро, по-звериному Серов ощутил, что попался, что обложен со всех сторон, что дальше некуда, предел, дошёл до ручки, но…но короткая эта,минутная, единоличная расправа Хромова над ним… била больше понимания вины, сильнее всех осознаний её, душила сейчас почти до обморока. Га-а-ад!
Он даже забыл про стыд, когда шёл за всеми, поспешно прессующими, прячущими злорадство своё, жалость свою в клубных тесных дверях…
Дома увидел заплаканное неузнаваемое лицо жены. Увеличенное лицо лошади. Зависшее в пространстве комнатёнки возле стола. И под этим лицом,тесные и тихие, как цветки, поматывались над раскуделенными своими куклятами Катька и Манька… Шагнул в ванную. Под шум воды сидел, вцепившись в край ванночки, покачивался. Собравшись быть здесь вечно. Ни за что не выходить!..
Ночью на полу возле стола глаза его серебрились, как лягушки. С кровати смотрела жена. Откидывалась, под голой рукой катала голову. Как попало, точно переломанные, разбросались на кушетке Манька и Катька…
Завгар Мельников, подмигивая своей банде, ставил Серова на грязнуху. С четвёртым разрядом Серов мыл ходовую часть и коробки передач. Иногда доверяли карбюраторы.
Карбюраторщица, сопя, разглядывала поданный карбюратор – как разглядывают в руках брезгливые повара непромытые почки. Серов косо смотрел в сторону.
Когда оставался дома один, перед работой во вторую – упрямо пытался дописать рассказ… Концовка не давалась. Всё было не то, не так. Хотя и написал предварительно план. И вроде бы всё в нём продумано, выстроено.Логично. Но нет – никак.
Клал голову щекой на рукопись. Лежал с растёкшимся взглядом.
Заставляя себя, пересиливая, ехал в центр, под плащ надев выходной костюм и галстук. Возле кучки торфа на сыром дымящемся пустыре всё так же работал белоголовый человек в телогрейке. Точно и не уходил никуда за эти дни. По-стариковски щадя себя, чуток только осаживаясь, набирал в лопату. Прицельно кидал. Покидав минуту-другую, зависал на лопате, оглядывая работу. Снова щадяще осаживался с лопатой. Кидал… Серов бросил окурок, откинул внутрь стеклянную дверь.
В который раз уж он приходил к ним в редакцию, в который раз видел взвешивающиеся жиденькие линзочки очочков Зелинского, видел, как, узнав,тот поспешно кладёт вставочку на чернильницу и аж потрясывается весь, развязывая тесёмки на его, Серова, папке, перед этим мгновенно выхватив её из стола… в который раз видел это – и всё равно становилось муторно, тошно.
Сидел у стола, ждал. Над столом, в чёрненьком удушье нудно висело сравнение всего этого с зубной болью. С ожиданием её.
– Вот вы в очередном своем опусе, которым осчастливили нас, пишите, Серов… «Длинношёрстная, лёгкая сука бежала прямо-боком-наперёд»…Мм?
Над прозрачненькими стекляшками стояли фильдекосовые глаза.
– Что же вы, Геннадий Валентинович, только это и вычитали из всего рассказа?
– Нет, вы нам объясните, Серов, как это можно бежать: прямо… боком… да ещё наперёд!
И он словно начал крутить рули очочков вправо. К ещё двум сотрудникам отдела прозы. Склонённым над бумагами и солидарно поматывающим головами: ну, Серов! Выдал опять, с ним не соскучишься, нет!
Серов вскочил.
– Вот, вот как бегают собаки прямо-боком-наперёд! – Нагорбившись, он мелко пробежал прямо-боком-наперёд. Мельтеша руками как лапками. – Вот, вот, если вы не видели никогда!
Сотрудники непрошибаемо, самодовольно смеялись. Серьёзный Зелинский протирал очки. Крутил слепой, как оскоплённой, головой.
– Пишите просто, Серов. «По огороду бежала сука…»
– По какому огороду?
– Ну, по дороге там… По деревне… Не знаю как у вас там!
– Да ведь скучно это всё, скучно. Муторно! Все эти очерки… жалкие фотографии… все эти синюшные трактаты с потугой на философию. Вся эта дутая значительность, фундаментальность, где всё художественное (художественность) на уровне «искринок в глазах», этих, как их?.. «теплинок», «печалинок»… «Придуринок!»… А? Ведь всё затерто давно. До дыр, до мяса, – выталкивал Серов давно назревший манифест.
Его с презрением прервали:
– Когда нечего писать – пишут х-художественно! – И снова поставили ему фильдекосовые глаза с дрожливенькимиподбутыльицами: – С цветочками, с виньетками, с благоуханием!
Уже откровенно – сотрудники ржали. Один с настырным деревенским чубом, до укола похожим на новосёловский, другой – с замятым мочалом на треугольном, можно сказать, интеллигентском черепе.
Серов дёрнулся к столу с намереньем схватить папку. Зелинский рукой руку Серова отстранил. С «прямо-боком-наперёд» это, конечно, только разминка. Главное впереди. Он раскидывал листки на столе, близоруко внюхивался в них, находил и победно вскидывал очочки к Серову – требуя «объяснить». Серов ходил, защищался, начинал горячиться, спорить и даже под давно закаменевшими висюльками Зелинского, под тяжёлым хохотом от двух столов, упрямый, глупый, не хотел никак понять, что рассказ его, собственно, давно убит, изничтожен. За-ре-зан… Литераторы умолкали. По одному. Злились на бестолкового.
Серов начал сгребать со стола листки. Понёс их, как побитых птиц.Загораживал собой на свободном столике у двери…
– Не обижайтесь, Серов. (Серов молчал.) На обидчивых воду возят…Мы с вами работаем… Приносите другое… – Чернильно-фильдекосовый вернулся к своим бумагам, начал любовно макать вставочку в чернильницу. Как бы напитываться чернилками. Он – Чехов и Бунин сегодня! А заодно и – Белинский с Чернышевским! Не меньше!
На воздухе, бросив за собой дверь, Серов кинул папку на скамью.Опять жадно курил, выставив избитые глаза дымящемуся пустырю.
Возле белоголового старика была уже новая, будто с неба скинутая ему кучка. И он покорно ковырял её, словно Богом назначенный нескончаемый урок.
Поздно вечером, выглотав с кем-то просто тёмным бутылку в подъезде, Серов, маньячно фонаря, разглагольствовал у Новосёлова. В его комнате.Почти без перерывов дёргал из сигаретки. «…Ведь все эти зелинские… все эти… Там, кстати, сидит один. На тебя похож. Чубом. Вы с ним из одной деревни. К слову это. Да. А если серьёзно: ведь кто сидит по редакциям, Саша?Кто пробавляется от рецензий? Неудавшиеся писатели. Они сами не могут опубликоваться. Несчастные, жалкие люди. Измученные завистью. Профессионально, навечно. Измученные своей графоманией. Маниакальностью.Тоской. Разве такой Увидит, Разглядит? Он заранее предубеждён.Стоеросов. Полосат. Он же шлагбаум!.. Ну ладно, на переезде, ладно – поезд может пройти. Нужен, необходим. А этот-то выскакивает где угодно. М-минуточку! – и руку стоеросово на десять метров поперёк!.. Обойди такого…»
Новосёлов хмурился. Глядя на Серова, вообще на таких как Серов, он почему-то всегда вспоминал… падающие бомбочки… У них это было, в городке. Когда затор бомбили на Белой. В раннем детстве… Поразило его тогда— как падали бомбочки. Казалось, они на лёд будто садились. Как утки на воду. И через долгую секунду слышались глухие вспарывающие удары. И затор, как вредный старик, передёргивался. А самолёт уже зудел, разворачивался на новый заход. И снова – будто просто трепетливые утки вместо свистящих бомб… Новосёлову часто виделось такое несоответствие между падением и приземлением… Он смягчал удары…
Серёжа… почему ты пьешь?.. – нужно было, наконец, спросить только об этом одном. Прямо. Глядя в глаза… Вместо этого Новосёлов долго, трудно говорил, что не надо было уходить с работы, даже во вторую, о собрании, где разбирали Серова за вытрезвитель, что Хромов, Мельников в гараже, сам знаешь…
Серов уводил ухмылки, презрительно хмыкал: Хромов! Мельников!..
Через час, протрезвевший, злой, дома он опять увидел лошадиное лицо, опять как большой муляж вывешенное в пространстве комнаты. Ну сколько ж можно!.. Снова прошёл в ванную. В туалет. Сидел на краю ванночки, покачивался. Среди пламенных приветов как бы от тёщи. Розовых, голубых. Неистребимых на верёвке. Вечных. Виноват был весь мир. Виноваты были все. Кроме него, писателя-пьяницы Серова. Ды чё-орыный во-о-орын! Э-ды чё-о-орный во-о-оры-ын! В дверь застучали. Заткнись! Дети спят!..
11. Всё началось с собаки Джек
…До пятого класса Маленький Серов учился только на пять. Был послушен, аккуратен, прилежен. В запоясанной его обширной гимнастёрке ножки в брючках побалтывались как язычки, подвязанные в колоколе. В свободное время он кувыркался в гимнастической секции, был приведён и записан матерью в две библиотеки, два года во Дворце пионеров точил упорно ракету…Всё началось с Джека. С собаки Джек. Джек оказался закоренелой дворнягой. Но, видимо, получил благородное воспитание, потому что у него была личная тарелка. Да, железная тарелка, бывшая когда-то эмалированной, мятая и оббитая сейчас до щербатин, до обширных чернот. Он сидел под старым, вросшим в землю буком, на тротуаре, в прозрачном копящемся солнце от заката, с этой тарелкой, как нищий с кепкой. Самозабвенно закатываяглаза,вылаивал одиночным прохожим свою старую, собачью, израненную душу.Прохожие как натыкались на него. С какими-то пугающимися оглядываниями, хихикая, точно разыгранные кем-то, пятились и торопились дальше, покачивая головами: да-а… А пёс всё лаял, взывал… Откуда он появился тут?Откуда пришёл сюда, в эту тихую, в деревьях, схваченнуюсейчас закатом улицу? Маленький Серов никогда не встречал его здесь… Какой-то дурак сыпанул ему семечек и долго хохотал, уходя, наблюдая за унылой мордой пса,устало нависшей над этими дурацкими семечками… Маленький Серов простукал по булыжнику через дорогу и сказал: «Чего лаешь? (Подумал, как назвать.) Джек? Пошли!» Джек тоже подумал. Подхватил тарелку и пошёл за Маленьким Серовым. Можно сказать даже – броско, трусцой побежал, но скоро перешёл на переваливающийся шаг, устало капая голодной слюной с тарелки…
Маленький Серов жил на втором этаже тяжёленького, бывшего купеческого кирпичного дома, где на первом и сейчас был маленький магазинчик и парикмахерская. Двора у дома не было. Тёмная лестница скатывалась со второго этажа к расплюснутому свету в низких дверях, раскрытых прямо на улицу. Проснувшись рано утром, Серов сразу подбежал к окну. Джек был на месте, спал на тёплом, уже осолнечненном булыжнике тротуара, через дорогу, у стены дома, рядом со своей тарелкой. А через час, выставив тарелку, лаял, собрав небольшую толпу. «Цирк какой-то!» – нервно передёргивались у окна Мать и Дочь. «Его Джеком зовут! Джеком!» – бегал от окна на кухню, где варил кости, Серов. «У него умер, видимо, хозяин», – торопился с кастрюлькой к двери. Дочь и Мать хмурились. Они не узнавали Маленького Серова.
Маленький Серов копил на велосипед. Он хотел гоночный. С рогатыми рулями. За каждую пятерку Мать и Дочь выдавали ему по пятнадцать копеек. Программа была рассчитана на четыре года. К окончанию десятого класса. Маленький Серов стал отчекрыживать от школьных завтраков. На кормёжку Джеку. Был быстро уличён, натыкан в контрольные цифры. Отруган. Мать и Дочь стали сами вносить за завтраки. Еженедельно… Тогда Серов стал отсчитывать монетки от накопленного… «Когда этот Джек уйдёт? – тяжело, как про человека, начинала Гинеколог. – Я тебя спрашиваю!» «Уйдёт…» – опустив глаза, тоже как про человека, говорил Серов. Собирая в кулачок всю волю, обходил Гинеколога как тёмную накаленную тумбу. Спешил в кулинарию. За куриными головами. Джеку нравился суп с куриными головами, и это было дешево. «Ты завонял тухлятиной всю квартиру!.. Уйдёт он или нет?!» – «Уйдёт…»
Теперь Джек был сыт. Но по-прежнему почему-то продолжал свой аттракцион, всё так же лаял над тарелкой, собирая людей. И всё всегда было одинаково, люди сначала хихикали с лёгким испугом, потом, посмеиваясь, шли своей дорогой. А Джек всё тоскливо взывал к ним. И Маленькому Серову становилось почему-то уже нехорошо, неудобно за Джека. Стыдно. Нужно было как-то увести его с тротуара. Чтобы он жил хотя бы в подъезде. Чтобы не лаял он больше, не плакал, не просил… Из старого одеяла, данного соседкой, Маленький Серов сшил тюфячок. Мягкий, тёплый. Вынес его на лестницу, постелил возле своей двери. Сбоку. Приведённый Джек выпустил тарелку, обнюхал тюфячок и лёг, покойно расправляя лапы, положив голову на них. В этот день он не лаял. На другое утро, содрогаясь от злобы и отвращения, половой щёткой Гинеколог начала надавливать, начала шпынять мягкого спящего пса. Джек вскочил, подхватил тарелку, бросился к лестнице. Выпущенная тарелка гремела, скакала впереди него по каменным ступеням вниз. Следом полетел выпинутый тюфяк… Маленький Серов постелил тюфячок на тротуар у стенки дома, где и было место Джеку. А это уже был вызов. Вынесенный на улицу. Получалось, что Джек обзавёлся хозяйством – тюфяк у него тёплый, тарелка. Что всё это надолго. И напоказ. Да и сам к тому же, глупый, не теряя ни минуты, начал петь прохожим – своё, жалостливое… «Это невозможно! Это ад! Ужас!» – ходила, цапалась за виски Дочь. На диване красно сопела Гинеколог.
Вечерами Маленький Серов и Джек, стараясь не смотреть на окна напротив, прогуливались вдоль дома, где нашёл пристанище Джек. Маленький Серов ходил, удерживая руки за спиной. Джек удерживал зубами тарелку, как, можно сказать, шляпу. О чём-то разговаривали… «Нет, это невозможно, невозможно! – ходила, стукала кулачком в кулачок Дочь. – Он позорит нас, позорит! Мама! Откуда такое упрямство, откуда!» «Успокойся, Элеонора. Я позабочусь об этом Джеке!» Гинеколог знала уже, что делать.
Ещё издали Маленький Серов почувствовал неладное. Отброшенная чашка Джека валялась у стены. Собаки рядом не было. Серов побежал. «Джек! Джек!» Метнулся к подъезду. «Джек! Джек!» Запрыгал по ступенькам лестницы. «Джек!» Спускающаяся соседка остановила его, быстро зашептала:«Не ищи своего Джека, Серёжа. Санэпидемстанция была. Бабушка твоя привела. Усыпили. Увезли». Серов, как немой, мотал головой, не веря. «Ну усыпили, понимаешь? Кинули мяса, и он уснул… Хорошо хоть не из ружья…»Видя, что мальчишка весь напрягся и задрожал, быстро успокаивала: «Ну,ну, Серёжа! Будут у тебя ещё собаки, будут!» Поспешно стала спускаться вниз, к свету. Просвечивалась, оступалась кривыми чёрными ножками… Маленький Серов оглушённо сидел на верхней ступеньке. Портфель валялся на середине лестницы. От света в подъезд вмотнулась какая-то личность. Стояла в тёмный загнутый профиль, покачивалась, расстёгивала ширинку. Точно ударяясь, пыталась опереться на гнущийся сверкающий прут… «Гадина!» Маленький Серов плакал. «Гадина!»…
Через неделю Гинеколог втащила в квартиру велосипед. Топталась с ним в коридоре, как корова с седлом, держа его по-бабьи неумело, не знала куда поставить. Велосипед был дамский, с защитной сеткой на заднем колесе.Маленький Серов ещё ниже склонил голову за столом. Дрожал, расплывался в слезах раскрытый учебник… «Иди, покатайся», – угрюмо сказала Гинеколог. Серов встал, повёл велосипед к двери. Так же вёл его по улице, не садился, не ехал. Закатил в городской парк. О ствол дуба бил, зажмурив глаза, подвывая, плача. С накатом, с накатом! С маху!.. Дома Серов стоял, опустив голову, удерживая в руках велосипед. Колёса свисали как ленты… «Та-ак…»– протянула Гинеколог. Ласково приказала лечь. Лёг. От ударов ремня дёргался на диване. И в исходящих слезах, в боли его вдруг начала выныривать истина. Истина! Да ведь боязнь всех этих взрослых – это боязнь своей свободы. Свободы! Ведь есть же она в тебе, есть. И ты – еёбоишься. Они же знают, что ты её боишься, поэтому и гнут, унижают, топчут. Да надо бить их велосипеды, ломать им всё, крушить! Да что она тебе может сделать, старая эта туша, больше, чем уже делает? Ну бьёт вот сейчас, бьёт! Так ведь и ответ скоро получит. Ну в колонию? Так убежать! Из школы? Да чёрт с ней со школой! Кто обрёл крылья, того не обломаешь. Не-ет. Пусть бьёт. Пу-усть. И ведь столько лет в плену был! Да пошли они все к дьяволу! С дивана Серов вскочил другим человеком. Застёгивался. Слёзы бежали. Посмеивался. Отчаянно поглядывал на испуганного Гинеколога…
12. Дежурство Кропина
Как всегда пружинно, с удовольствием выкидывала себе прямые красивые ножки Вера Фёдоровна Силкина, прохаживаясь возле своего стола в своем кабинете. Ручки были сунуты в кармашки жакетика, плечики – остры.
– …Д-да! – делала она ударение на начало «да», – Д-да, Дмитрий Алексеевич, мы должны иметь точную информацию, мы должны быть в курсе, д-да! Вы, как коммунист, не можете не понимать этого. Д-да!
От неожиданности, наглости, от обыденной какой-то простоты предложенного Кропин только раскрывал и закрывал рот. Хлопал, можно сказать,ртом… Наконец заговорил:
– Почему вы… вы именно меня определили на роль фискала? Почему именно на мне остановили свой выбор? Вам… вам Кучиной мало? Сплетни?– Кропин уже рвал узел галстука. – Что же… у меня на морде, что ли, написана готовность к таким услугам?
– Ну-у, это вы уж!..
– Да, да! Почему?.. Почему вы привязались именно к этим парням?Этим двум? Из всего общежития?.. Ну, хорошо, один пьёт, хорошо, допустим, но другой-то чем вам насолил, чем?.. Вы знаете моё отношение к ним, особенно к Новосёлову… И вы – мне – такое предлагаете?.. Да это же… это же…
– В рамках, в рамках, Дмитрий Алексеевич! – Силкина перекидывала,хватала на столе бумажки. Словно блуд свой. Умственный, постоянный.Сладко мучающий её. Выкинуть его стремилась на стол, передоверить рукам,чтобы запрятали они его от Кропина в эти бумажки. Чтобы не видел он, не догадался… – Я ошиблась в вас. Очень ошиблась. Мне урок. Вы ведь чистенькими все хотите быть, без единого пятнышка, без соринки… – Руки блудили, блудили на столе. – Хотя в 37-ом…
– Замолчите! – Кропин ударил по столу кулаком. Вскочил: – Слышите!.. Вы в горшок ещё делали, уважаемая Вера Фёдоровна, в горшок, когда мы…
– А-а! – махнула рукой Силкина.
К двери Кропин шёл содрогаясь, дёргаясь. Как какая-то неуправляемая механика. С ходу споткнулся о порожек, снёс каблук. Хотел наклониться,поднять, но от стола пырнула ухмылка, и Кропин захлопнул дверь.
Шёл болтающимся туннелем, оступаясь облегчённой ногой. Как на ограде придурки, скалились люминесцентные лампы. Двери были одинаковы,без табличек. Все двери были как замазанные рожи. Кропин подошёл, застучал в одну. Дверь не открывалась. Открылись две с боков и три сзади. «Где у вас сапожник?» Заклацали замками. Хромал дальше. Туннель длинный. Ничего. Застучал. Грубо. Развесились. Опять с боков, сзади. «Где сапожник?» Поспешно закладывались английскими. Дальше шёл. Упрямо колотил. «Где сапожник, чёрт вас задери!.. Сапожник где?!»
В обед вяло ел, накрылившись над тумбочкой у высокого стекла.Опять водило у общежития длинную седую занавесь дождя. Бутерброд был тугомятен, сух. Буфетный, с кудрявым сыром. Кучина подсунула помидорку. Отмахнулся, не взглянув даже. Продолжал давиться бутербродом, изредка запивая его чаем. Увидел Серова, вышедшего из лифта. Сразу заспешил навстречу, отирая губы платком. Спросил о деле, о позавчерашнем разговоре. Обегал взглядом отрешённое бледное лицо парня.
Серов молчал. Глядя на Кучину, на вахтовый стол, Серов невольно вспоминал, как Дмитрий Алексеевич пришёл сюда устраиваться на работу…Посадили его тогда между двумя старухами за этот вахтовый стол у входа. Старик даже не подозревал сначала, что посадили на подлую конкуренцию.Потому что кто-то из троих должен был уйти. Один или одна. Старуха, что слева сидела, была до обеда недвижна. Как стул в чехле. После обеда первый раз хлопнула: «Дурак!» Старик испуганно повернулся к ней. Но увидел только закушенный рот. Будто закушенную тайну. Чуть погодя – опять: «Дурак!» Точно беспенный хлопок из бутылки с шампанским. Старик не мог понять, ему, что ли, это говорят? Сидящая справа приклонилась к нему и забубнила. И бубнила дальше не переставая. Через час старик беспомощно вскрикивал: «Замолчишь, а? Сплетня! Замолчишь?» А слева хлопало уже без остановки: «Дурак! Дурак! Дурак!» Как от попугая, слетевшего с катушек.
Кропин тогда победил. С Кучиной остался он. Однако глядя сейчас на неё, уже запрятывающую улыбочки свои, жестоко неразделимую, единую со всей этой железобетонной непрошибаемой общагой до неба… Серов с горечью только думал: зачем ты влез сюда, старик? Для чего?..
– …Ну, Серёжа? Говорил с Женей? Что решили? Ведь комната восемнадцать квадратов. В футбол можно играть. Жогин опять уехал на свои халтуры, только Чуша, аяк Кочерге… Давно зовёт. А, Серёжа?..
Серов боялся только одного – не зацепить старика перегаром. И принимая с потом проступивший стыд Серова за нерешительность, колебание,Кропин заговорил, как казалось ему, о главном для Серова:
– И платить, платить не надо, Серёжа. Так же всё будет – я сам. Я знаю, вам трудно сейчас. Потом рассчитаешься, Серёжа. Разбогатеешь, как говорится, – и…
– Нет, Дмитрий Алексеевич… Нельзя это… Не нужно…
– Серёжа, ведь я от души… Ведь ты тут…
– Не надо, Дмитрий Алексеевич… Прошу вас. Спасибо, но не надо.
Склонив голову, Серов двинулся к стеклянной коробке. На выход.
Кропин напряжённо сидел на своем стуле, пылал. Сплетня сунулась кнему, забубнила…
– Замолчишь, а-а? Замолчишь? – плачуще выкрикивал старик.– Сплетня!!
Пока поднимался последним тяжёлым лестничным пролётом к Кочерге, с улыбкой думал, будет ли сегодня выпущен кобелёк с чёрной челкой. Взобравшись, навесил на угол перил сетку с продуктами. Стоял на площадке, пустив руку по перилам, от удушья тяжело вздымая грудь. Шейная артерия ощущалась острой трубкой от двух слипшихся в груди чёрных камер, воздух через неё не шёл, не прокачивался…
И вот он выбежал ходко. Стриженый кобелишка с чёлкой а ля Гитлер.Не приближаясь, ритмически-тряско обежал площадку и после неуверенного приказа старичка из двери «Дин… это… на место» так же убежал обратно в квартиру, взбалтывая чёлкой и ворча. Выказал-таки Кропину. То ли вредность свою, то ли, наоборот – приветливую преданность. А старичок в это время медленно прикрывал дверь. Довел её до застенчивости щели. И остановил. Как в смущении опустил глаза… «Вы бы зашли к нам, – сказал Кропин, – чайку попьем, познакомимся. Чего одному-то там целый день сидеть». – «Спасибо, зайду», – ответил, глядя в пол, старичок. Медленно убирал щель. Убрал…Странный. Из деревни, что ли, выписали?К Дину этому, к барахлу? Так не похож на деревенского – те-то больше общительные. Странный старичок. Кропин отомкнул дверь в квартиру Кочерги, вернулся, снял сетку с продуктами.
В крохотном коридорчике обдало затхлым, непроветренным, застоявшимся. Включив свет, ворочался в тесноте, ругая себя, что никак не может собраться и расправиться с этими ворохами одежды вокруг. Стаскивал плащ,насаживал на рога вешалки шляпку. Зачёсывая рыжевато-белесые кучеря…остановил расчёску. Испуганно вслушивался в тугую, скакнувшую из комнаты тишину. Проверяюще вскрикнул: «Яков Иванович!.. Это я!..»
Секунды рассыпались и рассыпались.
И как-то закидываясь, словно с краю земли, из комнаты донёсся давно уставший, как пережжённый сахар, голос: «Слышу, Митя… Здравствуй…» И добавил всегдашнее: «Раздевайся, проходи…»


