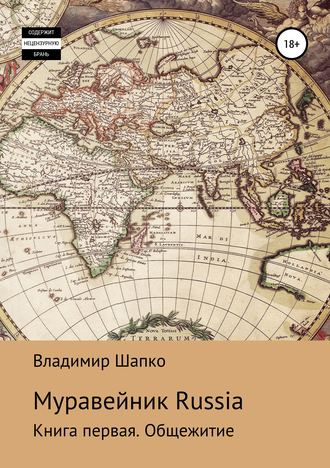
Владимир Мкарович Шапко
Муравейник Russia. Книга первая. Общежитие
2. Долгие тяжёлые дни отдыха, или Раз-два! Раз-два!
1
Под бодренькие команды Верончика, гоняющей строй во дворе, Фёдор Григорьевич в спальне совершал на Марье Павловне утренние, стойкие, ритмичные подкидывания. Раз-два! Раз-два! Было воскресенье, окно из спальни во двор оставалось раскрытым, голосок Верончика слышался хорошо, чётко, проходил прямо под окном. И Марья Павловна страшно стыдилась, исподтишка хотела сбить Фёдора Григорьевича с этого ритма, сопротивлялась ему, как сопротивляются постороннему случайному попутчику наулице. Который нарочно топает с тобой, мерзавец, в ногу. Давит будто на тебя, мучает. Конечно, Фёдор Григорьевич – не посторонний попутчик, нет, но нельзя же… но нельзя же, чтобы он и Верончика вовлекал в свои подкидывания, чтобы она шла с ним словно в ногу. Господи! Что делать! Однако Фёдор Григорьевич настаивал, продолжал подчиняться голоску Верончика, продолжал подбрасывать постель с Марьей Павловной соответственно голоску, точно. Раз-два! Раз-два! Таким образом совершив под звонкие команды тридцать пять подкидываний или, говоря медицинским языком, тридцать пять полноценных фрикций… Фёдор Григорьевич внезапно сбился с ритма, – и зачастил, и зачастил, и рухнул на Марью Павловну, подкидываемый уже ею, уже не участвующий. Сбив как всегда на щеку очки, которые свисли опять как брелоки.
Между темкороткий строёк, составленный из трёх Глафириных племянниц и племянника Андрюши, продолжал молотить босыми ногами во дворе. Голоногая командирша в сандалиях, легкая и ходкая, как цапля, шла сбоку-чуть-впереди. С ритмичной механистичностью прихрамывающей пружинки она приседала к ним, она наставляла им кулачком:
– Раз-два! Раз-два! Возьмём винтовки новые и к ним флажки и с песнями в стрелковые пойдём кружки! – Она будто дирижировала им. Будто преподносила ритм на блюдечке, на тарелочке. Её полевая сумка стукалась по голяшке, отлетала.
– Раз-два! Раз-два!..
Специальные Дети топали. Прошло три года, как они начали подкармливаться у тётки Глафиры, у Силкиных. Последние полгода им разрешили ходить каждый день, на дармовых сытых хлебах они отъелись, стали тяжеловатыми для строя, задумчивыми. Задки их оттопырились бараньими кочками, курдючками, а всегда обритая голова Андрюши стала воздушной как никогда… Верончику приходилось нещадно гонять их, чтобы добиться какого-то толка.
– Раз-два! Раз-два! Чётче! Чётче! Раз-два!
Оставив за спиной всю притемнённую потаённость спальни, вся в распущенных ниспадающих волосах – как будто в цветках, как будто в длинных ворохах бегоний – стояла в резном окошке Марья Павловна. В задумчивости, в отдохновении она брала всю эту цветочную тяжёлую густоту и проглаживала её гребнем. Голубенькие глаза видели несносную Глафиру, тяжело колыхающуюся над корытом в углу двора; виделинападавшие сквозь высокий забор большие утренние пятна солнца, меж которых, как меж вспушившихся и светящих кошек, ходил строёк с Верончиком во главе… Легкий человек Марья Павловна. Зла не помнящий. Быстро всё забывающий. На сегодняшний только день. (Обиды, наносимые ей, её сознание сначала замутняли. Как будто ей без жалости накуривали в него табачным дымом. Сознание темнело, начинало задыхаться. И она в испуге словно бы скорей проветривала его. Чтобы оно опять стало чистеньким, лёгоньким, необременительным. Вот так. Если и оставалось после обид что, то так только – мелочью, телесным, незначительным: испуганной ли морщинкой, запутавшейся где-нибудь у разреза глаза, седым ли волоском возле височка…) Она хотела крикнуть Верончику свое привычное, радостное – Верончик! Веро-ок! – и осеклась, глянув на спящего Фёдора Григорьевича. Кричала сама Верончик, проходя:
– Мама, смотри, как марширует мой строй! Раз-два! Раз-два!
– Они же устали, наверное, – осторожно говорила Марья Павловна про племянников. Как говорили бы про бессловесных голубей. – Им бы надо отдохнуть. – Нервно переступала на месте, поглядывая на Глафиру. Повторяла громче: – Им бы отдохнуть немножко!..
– Ничего-о! – кричала Верончик. – Они выносливые! Раз-два! Раз-два!
Глафира стирала. В углу двора. Глафира зло шоркала на доске в корыте простынь. Ругалась. Зар-разы! Сдёргивая, сбрасывая с засученных рук пену, решительно отходила от корыта. И платье взмывало, как после выстрела птица. Зар-разы! Сбежавшиеся куры как будто изучали контурные две карты в школе. Синюшные два полушария. Зар-разы! Холодеющая Марья Павловна хотела крикнуть, остановить, оглядываясь на храпящего мужа. Строй проходил, не обращал внимания. Зар-разы! Муч-чители! Платье, наконец, рушилось. Как вода из ведра. Зар-разы! Снова стирала, зло колыхалась над корытом. Марья Павловна падала на стул, готовая плакать.
«Что?! Как?! – вскидывался Фёдор Григорьевич, всклоченный, с примятой щекой похожий на ветчинный бутерброд. – А?!» – «Ничего,ничего,Феденька! – бросалась Марья Павловна. – Спи, родной!»Скорей взгромождалась к нему на кровать и приваливалась к его голове боком, гладя её, баюкая. Так приваливается с обильной готовой грудью мамаша к проснувшемуся и заоравшему младенчику. «Спи, родной, спи. Ничего…»
Приезжал водовоз. В шагистике наступала передышка. Потешные отходили к забору, доставая платки, чтобы культурно отереться.
Тихо, деликатно водовоз стучал черпачком в столб ворот. Как будто костяшками пальцев. И после того, как Глафира разводила ворота, он на бочке въезжал во двор. Это был старичок лет шестидесяти. Нос его смахивал на малинник. Остановившись, спрыгивал на землю. Накидывал на плоскую клячу вожжи, как на забор. Снова взбирался на телегу, принимался черпать и сливать в подставляемые Глафирой ведра воду. Мелькающая правая беспалая рука напоминала шишковатый изолятор.
Лошадь качал ветер. Однако она стояла довольно кокетливо, – приподняв левую заднюю ногу с пятнистым копытом. Как будто изящно взяла предложенный стакан чаю.
Верончик совала в ноздрю лошади прут. Ребятишки раскрывали рты, забыв даже про платки. Лошадь вскидывалась, как мгновенно обезножевшая,как с деревянными передними ногами. Старик держал баланс на телеге,взмахивая беспалой рукой. «Нельзя так делать, милая девочка. Никак нельзя».
Глаза его растерянно ползали, как жёлтые пчелки. Верончик продолжала совать. Лошадь резко переставлялась, перекидывалась от Верончика в сторону. Старик спрыгивал на землю. «Ах ты, Господи!» Удивлялся: «Вот ведь беда какая…» С пустыми ведрами выходила Глафира. Орала на Верончика, отгоняла от лошади. И старик залезал на телегу черпать дальше. Всё удивленно мотал головой. Вот ведь! Ах ты, Господи! «А ты кнутом её, Митрич, кнутом!» – «Как можно! Что ты! Тише, тише! Услышат…»
Лошадь поспешно тащила телегу с бочкой со двора, и старик, всё удивляясь, высоко, колченого подпрыгивал на передке, забыв даже сесть. А телега, ставшая вдруг какой-то громоздкой, высокой – как двор, как часть двора – долго тарабанилась с ним, стариком, в воротах, цеплялась там за столбы, прежде чем выкатиться наружу… Ребятишки закрывали рты. Горлисто, как из красненького петушиного мешочка, Верончик кричала: стррроиться-а! Но у племянников был ещё один ход – «В туалет, в туалет! – наперебой теперь уже кричали они. – Нам надо в туалет!» А, чёрт вас! Однако всё равно строем были выгнаны за баньку, сунуты в уборную: чтоб живо!
Уборная внутри была как шоколад. Вся цвета шоколада. Хотелось трогать стены руками. «Ну, скоро, что ли?..» – «Сейчас!» – в один голос кричали. И снова осматривали, осторожно трогали, перешёптывались. Верончик ходила. Полевая сумка свисала до земли как сумка у гусарёнка. Верончик направлялась к двери, резко распахивала…
Андрюша поспешно начинал тужиться, выставив петушок прямо к командиру. Сёстры его присгибались по бокам, с приспущенными трусиками, тоже вывернув головы к Верончику. Композиция называлась: мы оправляемся… Командир захлопывала дверь. За дверью слышался шёпоток и даже смех. Подходила, резко распахивала дверь. Композиция застывала. Озабоченная, тужащаяся. Маленький Андрюша готов был лопнуть: счас! счас! Верончик прутиком подкидывала петушка. Раз, другой. Петушок возвращался в исходное положение. Спружинивал, как игрушка. Андрюша, задрав майку, с испугом смотрел на петушка. Как будто на чужого. Белая, понизу витала великая тайна. Присев, Верончик словно прислушивалась к ней и думала, что с ней делать, что с ней можно сотворить… Ладно, потом. Отпрянула. Выходить! Строиться! Сёстры с облегчением выкатывались наружу, поддёргивая трусики, а отставший Андрюша большие мешочные штаны, перекидывая через голову лямку. Торопился за всеми. Воздушная голова его была неспокойна, меняла очертания.
Раз-два! Раз-два! Опять затопали, опять пошли. Опять началась работа. Раз-два! Раз-два! – наставляя сбоку, вводила в нужный ритм Верончик. Фёдор Григорьевич на Марье Павловне сразу воспрянул, сразу воодушевился.Потешные тоже словно обрели новые силы. Потому что перед обедом их ждал подарок, ждал уже известный им сюрприз. Конечно, если всё будет хорошо, если они будут хорошо маршировать. Значит – руби! Да веселей! А за тюлем в комнате сетка кровати пролетала до пола, до чемодана под кроватью, лупила по нему, хорошо подбрасывая два тела как одно. Раз-два! Раз-два!
В спальне матери и отца из-под прибранной уже кровати (Фёдор Григорьевич храпел, разинув рот, в своем кабинете) Верончик выдвигала большой потёртый фибровый чемодан, сильно помятый, прибитый сверху. Раскрывала его… И всякий раз они застывали, не в силах сдвинуться с места, не решаясь подойти ближе, не веря глазам своим, – чемодан был полон печенья. То есть весь до краев заполнен побитым печеньем, как будто сплошь переломанным золотом. (Точно специально кто-то падал на него сверху.) А конфеты в синих, красных, зелёных обёртках – как попало намешанные – быликак сапфиры среди золота, как топазы, агаты. Как драгоценные камни! Сокровище-е… «Ну же, берите! Лопайте!»
«Верончик! – пролетал по коридору голос Марьи Павловны. – Не корми их перед обедом печеньем! А то они испортят аппетит! Веро-ок!» Какой ещё, к чёрту, аппетит! – как конь топалась с большой кастрюлей за хозяйкой Глафира. О чём она говорит? Солдаты тоже удивлялись, расположившись прямо на полу вокруг чемодана. Налегали ещё прилежней, ещё вдумчивей, ещё углублённей. Какой аппетит? Что это такое? Снисходительно Верончик наблюдала. Так наблюдают за свиньями, которые возятся у корыта. «Ну ладно, хватит!» Захлопывала крышку. Отсекала от всего богатства. Андрюша успевал схватить в горсть. Шёл со всеми во двор, удивлённо сводя глаза на своем кулаке. Конфеты торчали из кулака, как папильотки из головы Марьи Павловны. Это удивляло. Старшая сестра отобрала конфеты. Сунула ему за майку. Дёрнула за собой.
После того, как быстро помыли руки, поспешили к козлоногому столу, тут же, во дворе. Глафира разливала по тарелкам. Племянницы в нетерпении заглядывали. Вытянутые лица их были как скалки. Спокойный Андрюша уже подносил на хлебе первую ложку ко рту. А Верончик в салфетке всё капризничала, всё бузила, всё бзыкала. Сёстры и брат заученно кричали: «Не-ет, Верончик не потянет, не-ет, никогда-а, куда-а ей!» Хлеб свой они отрабатывали честно. Марья Павловна встряхивала, взбадривала перед тарелкой дочь. «Вот видишь, видишь, что говорят дети! Ну-ка скорей, ну-ка скорей бери ложку! Докажем детям! Верончик потянет! Еще ка-ак потянет!..»
После обеда всё продолжилось…
– Раз-два! Раз-два!
– Верончик!Веро-ок! Беги в дом – папа зовёт! Веро-ок!
Подхватившись, потешные скорей хромали куда глаза глядят.
Сёстры и брат сидели на огороде, откинувшись на стенку баньки, побросав, как протезы, свои ножки. (Сидели, что называется, откинув копыта.) В неполитой помидорной ботве светился зелёный запах. Пьяное, ползало, чадило над огородом солнце. Голубь нервно ходил по тропинке, будто преступник с завязанными руками, взад-вперед. На дальнем заборе пытался кукарекнуть соседский петух. «А-а! Вот вы где!» Потешные вскакивали. «Раз-два! Раз-два!»
После полудня они были как натуральные ходики. В которых нет ни грамма жира, никакой дряблости, а есть только алчные зубчатки, двигательные тощие тяги и работающая треплющаяся кукушка сбоку: раз-два! раз-два! Курдючные задки племянниц обтряслись, стали мелки, как баклажаны. Шейка Андрюши стала шейкой одуванчика.
Поздно вечером строй выходил из-за баньки. Шёл через двор. У крыльца резко разворачивался. Отправлялся опять за баньку.
На огороде они входили в остывающее солнце, как будто букашки в гигантскую печь, обугливались, исчезали в ней и выходили обратно – живые. В пронзительных вспыхивающих сумерках двора, окружённого высоким забором, они шли, прятались, меняли цвет, окраску, как хамелеоны, – и выходили опять в огород. Раз-два! Раз-два!
В галифе и белой распущенной нижней рубашке Фёдор Григорьевич вышел на крыльцо. Глубоко вдыхал вечернюю прохладу, радуясь, что жив. Марья Павловна с распущенными волосами преданно обременяла его подставленную согнутую руку. Так обременял бы, наверное, застенчивый вечерний цветник острый выступ дома.
Строй с командиром проходил. За целый день ходьбы – лёгкий уже окончательно, словно бы пустой внутри. Прокатывал мимо крыльца. Как отдрессированное напоказ перекати-поле. Раз-два! Раз-два!
– Папа, смотри, как марширует мой строй! – кричала Верончик. – Строй, раз-два! Раз-два!
У Фёдора Григорьевича тут же шевелилось, взыгрывало внизу живота. Федору Григорьевичу сразу хотелось пойти с Марьей Павловной в спальню. От возбуждения он перекидывал сапогами на крыльце. Как будто в цыганочке с выходом.
– Молодец! Гоняй их до посинения!
От услышанного строй, как конь, начинал вскидывать ноги, будто ему врезали хорошего мундштука. Задний растаращенный Андрюша словно вздыбил сестёр в небо!
…Ужинали уже в полной темноте, при свете керосиновой лампы. Сёстры торопились. Щёлкали по зубам ложками. Алчные, как ксилофоны. Воздушно-красная голова Андрюши падала, он за столом засыпал. Глафира стелила им на четверых в сенях, на специальном, сколоченном для них топчане. С фонарём приходила посмотреть на разбросавшихся во сне детей. Свисшая ножонка Андрюши походила на тёплую косточку. Осторожно пристраивала её, прикрывала одеялом, отставив фонарь. И снова смотрела. Андрюша вскидывал руку. Как будто отмахивался, отбивался. Потихоньку разжимала потный его кулачок. Видела в нём замявшуюся дешёвенькую карамельку… Ах ты, голубок мой! Голубочек! Начинала плакать.
Уже более получаса Марья Павловна на кровати поджидала Фёдора Григорьевича. Мысли её примерно были такие: вот, работает опять. Даже в воскресенье. Бедняжка! Ах, как много он работает!
Фёдор Григорьевич горбился за столом у настольной лампы. Пытался читать. Однако плохо понимал Матерьялы. Вообще не понимал. Засунутая в галифе рука озабоченно, осторожно ощупывала. Мошонка вся набухла и отвердела, как грецкий орех. Сам членик заострился, будто у Бобика. Спрятался в распухшую крайнюю плоть точно в большую соску, которую кто-то словно обернул вдобавок мокрой жгучей стекловатой. Не дотронёшься! Чёрт! Как теперь? Задача. Косился на Марью Павловну. Та сразу вскидывалась. «Ложись, Федечка, ложись! Как много ты работаешь! Ах, как много!» Действительно, много. Дальше некуда. Воскресенье – день тяжелый. Перефразируя, конечно. Тут не поспоришь. Нет. Каждое воскресенье так. Да и в будни. На полный износ. Однако надо показывать прибор. Хозяйство. Никуда тут не денешься. Встал Фёдор Григорьевич, расстегнулся. Тоскливо смотрел вбок. Как на картине «Опять двойка». Вот, можно полюбоваться. Если есть желание, конечно. Плачевные результаты. Ой, что ты делаешь! Марья Павловна закрылась голой рукой. Ой! Сгорала от стыда. Прямо-таки бабочка над огнем. Однако через минуту уже хлопотала Над Птенчиком. Колдовала над ним. С примочками, с мазями, с присыпками. Журила его. Улещала. Говорила, что весь в хозяина. Ну весь! Так много работать! Так много! Бедный Птенчик. Фёдор Григорьевич стоял, высоко задрав рубашку, обнажив узкий жёсткий живот точно великого кабана.
Через стенку, в тесной темноте другой комнаты, Верончика глаза мерцали, как рыбы на дне речки. Не насытились всем дневным. Захлопывались сном внезапно, разом. Будто заглушкой. Так и оставалась лежать на спине, с закинувшимся ротиком, в котором просыхали, проваливались команды. С коленцами под одеялом – горкой.
2
Освещённая солнцем, скукожилась в небе уснувшая высокая луна.Вниз от неё, до земли, развесился прогретый густой синий свет.
Колонны уже выглядывали. Далеко. Из двух проулков. Как пацаны все там ждали восьми. Чтобы – ровно. Чтобы тогда уж. По взмаху. Вступить, значит, на главную улицу. На магистраль.
На трибунке тоже посматривали, нервно посмеивались, сглатывая слова. Вроде пустых столбиков без колючки стояли вдоль дороги десятка два милиционеров. Да что милиционеры: дунут в них – и улетят! Масса-то вон, скопилась за полквартала всего. Низко поколыхивается. Кто там – не видишь.Не знаешь даже. Что-то тут от Курской, понимаешь. Как рассказывали. Они— и мы. Встретились на рассвете. Хотя и солнце вон вокруг. И третий год после войны. Рекогносцировка, однако. Скорей бы уж, что ли. А вот, а вот – пошли! Ровно в восемь! У Силкина сразу запотели очки. Но уже через полминуты ему пришлось крикнуть первый лозунг, призыв. Идущие испуганные люди точно не поняли его, прошли молча, с раскрытыми ртами, спотыкаясь. Но вроде бы наладилось. И вот уже затеснилось у трибуны, плавно потекло. Страшны первые мгновения, ну ещё ожидание, а там – ничего, можно.
Микрофона не было – не Москва – и Фёдору Григорьевичу приходилось кричать теснящимся колоннам в рупор, перегибаясь через трибуну. Как боцману какому с высокого борта баржи, застрявшей посреди густого людского заплыва. Однако люди уже слышали, понимали его, нестройно кричали что-то в ответ.
Плотно, в обнимку с трубами, шли бравые духачи, как будто несли бубнивые букеты музыки. От медных ударов тарелок носились как попало три голодных голубя. Потом голубей стали выпускать пачками, густо, они трепыхались над колоннами столбовой мошкарой, прежде чем сдунуться в сторону. Демонстранты задирали головы, забывшись, смотрели на них как на трепетливенькие свои надежды, мечты, но сзади напирали другие люди, толкал в спину оркестр, и приходилось уже поторапливаться, спотыкаясь бежать, стараться снова взять шаг.
Знаменитый хор Кожевенного завода шёл. Но почему-то молча. Точно прямо с концерта, даже не переодевшись. Женщины несли длинные платья в пальцах, опасаясь массового своего падения. Мужчины же, двигаясь, поигрывали плечиками. В лоснящихся рубахах зелёного и красного цвета, все вольные и крепкие, как кулачные бойцы. Дирижёр казался на голову выше всех. Он опять осклабился Силкину, весь в зубах меридианный. Тут же два казаха в лисьих малахаях неимовернейше строчили на домбрах. Домбрами вели красавицу девушку, головка которой в шапке с метёлками напоминаламаленький проплывающий султанат. И, точно охраняя его, сумрачно колыхались казахи-борцы. Приземистые все. Бритоголовые. Как курганы.
А Силкин кричал и кричал точно всё с той же баржи, перегнувшись, в рупор. Сквозь запотевшие очки уже ничего не видел. Проходила мимо какая-то серо-сизая, смутно различимая гидра. Люди выворачивали головы к трибуне, спотыкались. Быстро гасло в раскрытых ртах не то «ура», не то «эгей». Серьёзные соратники Силкина стояли закинувшись. Надуто, солидно стояли. В фуражках, френчах. (Один только в шляпе. Будто бы гражданский.)Пошевеливали у плеча лапами. Будто негнущимся гипсом. Люди приостанавливались, потом подбирали слюни, шли дальше. Но уже непонятно куда. Куда теперь идти-то? А? Кто знает?..
Вдруг откуда-то выехал к колоннам водовоз с плещущейся на телеге бочкой. Тот самый. С малинником-носом. Вертел головой, испуганно не понимал, где он, куда попал, через дорогу ведь надо с водой, в райисполком. Соратники Силкина вздрогнули и затвердели. С поднятыми лапами. Вылазка, понимаешь. Вражья. Провокация, понимаешь. А водовоз уже плавал в толпе,будто Чкалов. Тяжело побежал толстозадый милиционер в самоварном галифе. Подсунул водовозу кулак. Как добрую ляльку. Видел? Опомнился. Убрал. Сунул кулак в карман. Кулак не разжимался. Тогда подхватил лошаденку под уздцы. Встал с ней по стойке «смирно». Плоская лошаденка стояла зубчато, как огорожка. Но не забыла подвесить копытце. А старик на телеге, потеряв разом права (на вождение, значит, гужевого транспорта), всплескивал только руками. Ах ты, беда какая! Ведь воду надо везти, в райисполком! Упирался беспалым своим кулачонком в бок, привставал, тянулся к милиционеру: удобно ли ему там стоять? Беспокоился. Ах ты, Господи! Соратники выдохнули напряжение, вновь зашевелили лапами. Силкин закричал. Всё, наконец, двинулось дальше.
Между тем и жена, и дочь Фёдора Григорьевича, и вся его челядь сидели в это время за столом во дворе и грызли семечки. Дом и все постройки вокруг напоминали хорошо отструганную усадьбу помещика. Правда, в миниатюре. Песочек кругом. Колодец с воротом как с прялкой. Похожая на резной ларец банька с онемевшим петухом на коньке крыши. Рядом уборная, пиковым простреленная сердечком, с узорчатым железным кольцом-ручкой на двери. И, наконец, сам дом – с высоким крыльцом в струйной резьбе до земли, этаким вьюном-водопадом, с окошками в отлаченных, тоже струящихся, деревянных цветках… Словом, спелая деревянная усадьба-музей помещика середины девятнадцатого века, привнесённая и затиснутая в послевоенный, прочерневший и расхристанный городок.
Соответствовали сейчас всему вокруг и обитатели усадьбы-музея. Женщины и девчонки (кроме Верончика) – в натянутых на грудь тяжёлых сарафанах. Племянник Андрюша – в рубашечке с кистями и сапогах. Все сидели группкой, уже композиционно, но пока – вольно. Как будто ждали фотографа, который где-то задержался. А они – готовы. Давно готовы, чтобы их увековечили вместе с усадьбой. Они из девятнадцатого века. Ожили вот в двадцатом. Чтобы прожелтеть потом на фотографиях в двадцать первом. Неостановимо летали руки с семечками. Грызли семечки все: Глафира, Марья Павловна, Верончик, племянницы и Андрюша. Верончик вела себя мирно. Строй не гоняла. Праздник. Пусть. И ещё потому (долговременная задумка, план), что среди группы был новый человек. Гость. Родственник Глафиры.Двоюродный её брат. Счетовод из не очень отдалённого колхоза. Он привёз Фёдору Григорьевичу Силкину барана и трёх колотых гусей. Чтобы поклониться ими к празднику. Он приезжал к каждому празднику. Регулярно. Зная приверженность Фёдора Григорьевича ко всему русскому, народному, он тоже был сейчас в свежей, вышитой по груди длинной рубахе, подпоясанной плетёным поясом, кисти которого он всегда покачивал как-то очень глубокомысленно. Глядя на них сбоку. Как на очень весомые свои причиндалы. Остановится, бывало, и покачает. Покачает и дальше пойдёт. В отличие от прочих, семечки (сейчас) грыз культурно. Как подобает сельскому интеллигенту. Бухгалтеру-Счетоводу Колхоза. А именно: отделяя шелуху пальцами. Ногтями. Очищенное семя швырял в рот. Тем самым соблюдал гигиену. Говорил, что так меньше грязи попадает в пищеварительный тракт. Глаза у него были как у отвеса. Толстыми каплями. Ногти, которыми он орудовал, походили на массивные клювы, на клювы орлана. Фамилия его была – Рухлятьев. Остальные лузгали семечки кто как. Как бог на душу положит. Остановиться же было невозможно. Мокрая шелуха выдавливалась на подбородки подобно чёрному селю. Разговору в нём не было места. Разговор давно увяз в нём, потонул. На поверхность вылупливались только пузыри. Пузырики. В виде отдельных слов, междометий. Как то: угу, ага, ох.
Когда приехал домой сам хозяин, – его никто не узнал. Голоса его не узнал никто. Фёдор Григорьевич не говорил, а свистел. Посвистывал. Как будто прятал в груди птичку. Свистнет она, а он тут же спрячет её, испугается. Поэтому все вскочили из-за стола. Испуганно стояли, подхватив сарафаны. Словно изготовились для бега в мешках. А Фёдор Григорьевич всё высвистывал и неостановимо махал правой рукой. Как будто показывал всем обеззвучившийся, весь оборванный лозунг, который он вот только что кричал с трибуны. Который был нормальным до этого. Который си… вси… сависи-сависи… Марья Павловна опомнилась, подхватилась, повела Фёдора Григорьевича в спальню, в дом. Бедненький. Бедненький птенчик. Сейчас тебе станет легче. Сейчас, дорогой. Остальные в возбуждении заходили возле стола. Глафира поспешно сгребала в кучу шелуху. Родственник, пригнувшись, тряс кисти.
Сели за стол только через полчаса. Когда Фёдор Григорьевич вновь смог говорить. Сели здесь же, во дворе, на воле. Племянницы в нетерпении сглатывали слюну. Еды на столе было много. За целый день, наверное, не съесть.Всё подавалось в деревянной посуде. Расписные деревянные тарелки были обширны, как жар-птицы. А деревянные длинные ложки малой вместимости, которые племянники удерживали в кулачках торчком… походили на цветки-васильки. Ими можно было взять еды очень немного. Они были как бы музейные. Племянники любовались ими. Часто давали ложкам отдых. И снова ими приступали. Внимательно слушали, о чём говорят взрослые. Верончику было скучно. Вилкой Верончиккурочила котлету.
Когда Рухлятьеву накладывали еду, а Фёдор Григорьевич наливал ему в рюмку водки, – бухгалтер сидел как-то очень ужато, как-то обиженно, даже страдающе. Как великомученик. Точно после долгих мытарств, после долгих тяжёлых испытаний отвоевал, наконец, право сидеть за этим столом, чтобы ему вот сейчас накладывали, чтобы ему наливали. Ведь нужно многое было поведать, донести, сказать, о чём мучительно думал ночами в деревне на печи, под вой ветра в трубе. Ведь одно только слово, умное слово, сказанное здесь, сейчас, за этим столом, к месту сказанное, вовремя – могло всё перевернуть в его жизни, в его судьбе. Одно слово! Он лихорадочно искал это слово, чтобы его сказать, жуя, забыто двигал челюстями, забыто удерживал в руке, как весло, музейную ложку. Но… но как нередко бывает от долгого ожидания чего-то важного, от нескончаемого душевного напряжения перед этим важным… окосел. Внезапно. Разом. Не узнавая себя. От трёх выпитых рюмок глаза его поставило ребром. Вертикально. Он ещё больше стал походить на отвес, которым определяют кособокость или ровность стенки. Для начала он попытался резануть Всю Правду-Матку, которую так любят начальники. Это были такие слова: «Я, Фёдор Григорьевич, прямо скажу! И ник-когда!» И всё. И после сказанного остались торчать над столом только эти его вертикальные, отчаянно составленные глаза. Сам отвес, куда они были помещены, рассыпался. В прах! Улетучился в дым! Только глаза – и всё!.. В другой раз он громко сказал – а-а! Махнул рукой, и ею же – махнул в рот рюмку. И это было здорово. Глафира раскраснелась. Глафира поддавала его под бок локтем, подмигивая всем. Ор-рёл! Рухлятьев! А он вдруг вымахнул из-за стола. То ли чтобы сплясануть, то ли ещё для чего. Но – забыл. Стоял, растопырив руки и уставясь на всё свое естество. Кисти пояса висели как пьяные акробаты. Он их встряхнул. Но они – вновь упали. А? Вот они. Кисти. А? Фёдор Григорьевич? Да садись ты! – дёрнула его на стул Глафира. Фёдор Григорьевич посмеивался, хорошо закусывал. Наливал и себе, и Рухлятьеву с верхом. Объедая большую гусиную лапу, поблагодарил Рухлятьева за трёх гусей и барана, которыми тот поклонился ему, Фёдору Григорьевичу, к праздничку. «Этого добра-то! – воскликнул сельский Крёз. – Да я для вас! Да мы!..» Но дальше опять слово развить не смог. А ведь баран-то был последним, если честно, да и гусей не без счёту. Да. Один только гусь теперь остался. Гуляет, значит. По двору. Да. Рухлятьев уже смеялся. От смеха слёзкие глаза Рухлятьева тряслись, как ландринки. В поддержку ему и для перерыва в еде – все подхватывали смех. Смеялись и смотрели друг на друга. Шло словно бы соревнование по смеху. Кто тоньше, кто толще может смяться, кто громче, кто тише. Рухлятьев посреди всех скромно солировал. Верончик изучающе смотрела на него сбоку. Так изучают, смотрят на подопытного кролика. План был готов. Задумочка скоро осуществится.
Когда, насмеявшись вволю, супруги ушли в дом отдыхать, а Глафира уносила со стола, – Верончик начала дёргать Рухлятьева за волосы. Выдирать из мотающейся головы. Племянницы и племянник молча стояли, положив руки дяде на плечо. Точно всё ещё для той же фотографии. А он спружинивал, дёргался склонённой головой, смеялся, грозил Верончику: «Ох, счас поймаю Верончика, ох, счас поймаю!»
Плешь походила на усохшие чернила. Остатки волос торчали над ней остро, путано. Верончик дёргала их как сурепку. Агроном на поле. «Ой, больно! Ой, счас догоню!»
– Верончик! Веро-ок! Что случилось? – еле слышно кричала из спальни Марья Павловна. Из зашторенной спальни – точно со дна её. Уже словно придавленная там чем-то очень тяжёлым. – Что такое? Веро-ок?..
– Ничего-о! – звонко кричала в ответ дочка. – Мы игра-аем! – Снова начинала драть.
Ага. Играем, говорил себе Рухлятьев, покачиваясь на табуретке, будто обдёрганный репей. И только после появления Глафиры его оставляли в покое. («П-пошла отсюда, шалава!») Андрюша, привстав на носочки, осторожно гладил дядину голову одной рукой. Как будто длинным жалостливым собачьим языком зализывал…
– Э-э, напился… – смотрела на брата Глафира.
Рухлятьев сразу подставлял указательный палец:
– Пьян – да умён: два угодья в ём!
Чуть не кувыркнулся с табуретки.
– Э-э, «умён»… Иди поспи лучше. Вон, в баньке…
– Н-н-нет! – сразу вскинулся-выкрикнул Рухлятьев. Как будто ему предложили ведро воды. Ледяной. На голову. – Н-не выйдет! И-ишь вы-ы!«В баньку»! – Прищуренный глаз его был разоблачающ.
Он пошёл вдруг в угол двора с намереньем залечь там. Расхристанные кисти утаскивались им как попало. Глафира кинулась, не дала лечь. Ещё чего надумал! Он в другую сторону направил себя – и там не дали. В баньку иди,в баньку, чёрт! В баньке он долго гремел, ронял тазы. Выпал обратно – не понравилось. Всюду за ним гурьбой бросались дети, боялись, что упадет…Верончик вяло наблюдала, ждала, когда уйдёт Глафира…
Потом Глафира мыла в большом тазу на столе посуду. А он сидел-поматывался рядом на табуретке. Будто плошка, будто выгоревшая вся внутри жестянка, бредил, чуть слышно высвистывал обрывки планов своих, чаяний…
– Э-э, дурак дураком! – изредка восклицала Глафира.
Тогда глаза Рухлятьева начинали всплывать. По очереди вылупливаться. Как лампы…
Потешные тем временем с опаской заглядывали в колодец. К далёкому серому пламени воды. В котором вытянутые их головёнки мотались, словно пугливые палицы… После окрика Верончика, – казалось, прямо снизу, из колодца! – головёнки разом исчезали. Испуганно оставался уползать и уползать там в волнующейся воде только тонкий змеевый ворот с цепью. И будто оттуда же, с колодезного этого неба, прилетал чуть погодя визгливый детский голосок: слушай-мою-команду! раз-два! раз-два!.. (Да-а. Терпел поп, да не вытерпел, начал…)


