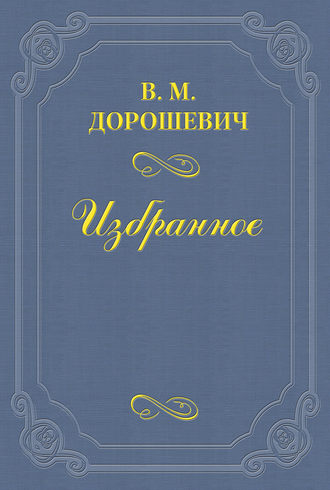
Влас Дорошевич
М.В. Лентовский
– Послушайте, неужели нельзя достать пяти тысяч?
– Неужели вы думаете, что если бы была какая-нибудь возможность, я сказал бы: «все кончено»? Я стал бы плакать? Я почти плачу.
– Надо подумать…
– О чем? Все передумано. Все, что можно было сделать, сделано. Пяти тысяч достать я не могу. Что будет теперь с теми, кого я сорвал с места, кто вверился мне, кто теперь останется без куска хлеба, – я не знаю. Я не знаю даже и того, что будет со мной!
И с этими словами он ушел.
Случайно, в тот же день, приятель Лентовского встретился на Тверской с В., покойным теперь, очень богатым человеком, коммерсантом, удалившимся на старости лет от дел.
Разговор, между прочим, коснулся, конечно, и московской «злобы дня».
– Говорят, Лентовский что-то там нагородил! Сад какой-то! Ну, какой можно сад развести в две недели на голом месте. Чудак!
– Вышло хорошо!
– На асфальте-то?
– Хотите? Тут два шага. Зайдем, посмотрим.
– Пожалуй. Любопытно.
В. только ахнул:
– Если б своими глазами не видел, – отцу родному не поверил бы. Истинно – маг!
– И представьте! Этот сад открыт не будет!
– Почему?
Приятель Лентовского рассказал г-ну В. все, что слышал утром. В это время В. заметил в одной из аллей Лентовского.
– Батюшки! Какой убитый!
– Будешь!
– Познакомьте меня с ним.
Лентовский, печальный, рассеянно познакомился с В.
– Михаил Валентинович, у меня к вам просьба. Не откажите!
– Чем могу?
– Очень прошу вас пожаловать ко мне вот с ними, – он указал на общего знакомого, – сегодня на дачу обедать.
– Благодарю. Не до того мне, признаться…
– Очень прошу. Дело у меня к вам есть. Пожалуйста!
С трудом удалось потом уговорить Лентовского поехать.
– Не до обедов мне!
После обеда В. пригласил Лентовского и его приятеля в кабинет:
– Дельце у меня к вам есть.
Уселись за письменным столом.
– Говорили вот они мне, что вам затруднения причинили. Пять тысяч требуют.
– Да!
В. открыл стол, достал пять пачек радужных бумажек.
– Пересчитайте, Михаил Валентинович!
Лентовский сидел, как пораженный громом.
– Позвольте… Мы сегодня только познакомились…
В. рассмеялся добродушным, московским, смешком:
– Вы-то сегодня меня в первый раз узнали. Да я-то вас давно знаю. Москвич! Кто же в Москве не знает Михаила Валентиновича?
– Благодарю вас… Но все это так странно… Позвольте, я хоть вексель…
– Вексель?
В. рассмеялся еще веселей.
– Я человек коммерческий. Нешто несостоятельным должникам можно векселя писать? Что вы, Михаил Валентинович?! Слыханое ли дело!
– Позвольте… хоть записку какую-нибудь…
– Зачем?
– Да как же так? Как же вы мне даете?
– А слово? Ничего не значит? Под слово Лентовского даю. Чай, человек известный. Вы для нас, мы для вас, – так оно и идет. Пересчитайте, Михаил Валентинович!
Не помня себя, вышел Лентовский с приятелем.
– Слушайте! Это не сон? Не в пяти тысячах дело. Мне давали взаймы на дело и по пятидесяти! Но когда?.. Теперь, несостоятельному, в первый раз вижу человека… «Под слово Лентовского даю». Послушайте! Слова эти! Я землю под собой чувствую. Землю! Снова землю! «Вы нам, мы вам, – так и идет». Москвой пахнуло, старой Москвой! Земля под ногами! Земля! Бодрость он в меня влил!
И они пешком шли из Петровского парка.
– Землю под ногами чувствую! Землю! – весело говорил Лентовский, весело постукивая на ходу сапогами с высокими каблуками.
И сколько проектов родилось в красивой голове Лентовского в этот теплый летний вечер, этой дорогой из Петровского парка. Сезон оперы летом.
Зимой – за народный театр! Поставить то! Устроить так! На следующее лето – сад, другой – для народа. Это был человек увлекавший и увлекавшийся.
XVIII
Открытие «Чикаго» [161] напомнило самые триумфальные дни «Эрмитажа».
«Вся Москва» переполнила «волшебством созданный сад».
А когда вспыхнула действительно иллюминация, – весь сад огласился аплодисментами.
– Был маг и волшебник, – магом и волшебником и остался.
В театре шел «Трубадур» [162] в превосходном составе.
Но публика требовала не артистов.
– Лентовского! Лентовского!
И когда он появился на сцене… В рабочей белой поддевке. Развел руками. И наклонил свою седую голову.
С_л_о_в_н_о:
– Судите. Сделал, что мог.
Он был художником красивого жеста!
Тогда в зале поднялось настоящее безумие.
Публика не отпускала со сцены Лентовского.
Бросали цветы.
Махали платками.
Кричали:
– Браво, Михаил Валентинович! Браво!
Его душили рыдания.
В публике многие плакали от волнения.
Московское что-то воскресало!
В саду Лентовскому не давали прохода. Его окружили. Ему аплодировали, как «в дни Эрмитажа».
Незнакомые люди останавливали его, протискивались к нему, жали ему руку.
У всех была одна фраза:
– Будьте прежним Михаилом Валентиновичем! Будьте прежним Лентовским!
За столиками рекой лилось шампанское.
Слышалось:
– Лентовский! У_р_а!
Москва кутила, празднуя «возрождение» своего Лентовского. Москва вознаграждала его за все пережитые невзгоды и страдания.
Контора была завалена телеграммами. Артисты, служившие у Лентовского, товарищи, отсутствующие друзья приветствовали его «возрождение».
Все пожелания, все поздравления кончались словами:
– Будьте прежним Лентовским!
Казалось, над «маленьким театральным Наполеоном загорается солнце Аустерлица[163]».
Но…
Если все, старомосковское, порядочное спряталось куда-то под новым, холодным, чуждым веянием наступившего «ледяного периода», – все низкое, все лакействующее, все готовое претерпеть какое угодно угнетение, все холуйствующее выползало откуда-то, подняло голову, протягивало свои грязные лапы:
– Теперь нам житье! Наше время!
Появились какие-то вчерашние лакеи, выгнанные распорядители из вертепов, содержатели веселых домов…
Да, да! В числе новых претендентов на антрепренерство имелся даже содержатель самого известного в Москве публичного дома!
Они точили зубы на «Чикаго».
– Лентовский устроил! Теперь его можно и по шапке! Не какое-то театральное миндальничание! Каких кабинетов можно настроить в саду! Какие «отделения»! Что открыть! Какое учреждение будет!
Но публика валом валила в «Чикаго». Дела были хороши. Лентовский держался твердо.
Было несомненно, что пока Лентовский работает, – дела у него не отнять, не вырвать.
На него посыпались анонимные письма, угрозы:
– «Уходите»!.. «Проломят голову»…
Но Лентовский был не из пугливых.
И вот, однажды утром, москвичи с изумлением прочли в газетах необыкновенное известие:
– Избиение Лентовского.
Поздно за полночь, когда в «Чикаго» почти уже никого не оставалось, Лентовский, по обыкновению, обходил сад.
В темной, уединенной аллее, вдруг кто-то из-за куста ударил его чем-то тяжелым по голове.
Лентовский свалился как сноп, без крика, без стона, без сознания.
Его, старого, больного человека какие-то, вероятно, нанятые, хулиганы били, топтали.
И оставили, быть может, думая, что прикончили.
Лентовского, окровавленного, избитого, лежащего без сознания, нашли под утро сторожа.
Он тяжко заболел.
Дело потеряло хозяина. В деле начались затруднения.
Этим воспользовались и отняли у Лентовского сад.
Он снова, и окончательно на этот раз, остался «без дела».
Это были его «сто дней».[164]







