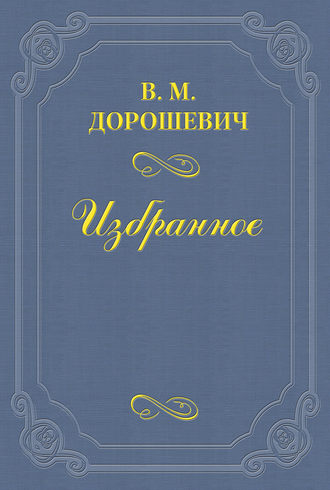
Влас Дорошевич
М.В. Лентовский
X
Он, никого не стесняя, никого не боясь, свободно, запросто «бродил в толпе народной» в саду «Эрмитаж».
Открывал старик верхом на белом коне катанья 1-го мая в Сокольниках и 22-го июля в Петровском парке.[110]
Актрисы перед бенефисом возили ему программы, отпечатанные на атласной ленте, – а он подносил им букеты, перевязанные, вместо лент, брюссельскими кружевами, шалью или шелковой материей на целое платье.
Никогда, «несмотря на все административные заботы», не пропускал ни одного представления «Фауста наизнанку», – раз Родон играл Валентина.
И «давал сигнал к аплодисментам», когда во 2-м акте «кукушка», пополам сложившись перед выросшим от гордости на цыпочки Валентином, титуловал его:
– Ваше сиятельство!
Должал без счета и «давал два бала ежегодно» [111], на которых вся Москва пила, – душа меру знает! – взятое в кредит шампанское Гулэ[112] из огромных выдолбленных глыб льда.
Был при нем в Москве порядок?
Не больше, чем при других.
Были злоупотребления?
Больше, чем при ком бы то ни было.
Пристав Замайский, классический пристав Москвы[113], лишенный прав состояния, приговоренный судом к ссылке в Сибирь, – до конца дней своих оставался приставом в Москве и умер миллионером.
У него в участке были все кафе-шантаны, знаменитый игорный дом Павловского.
– У меня в участке хоть Монте-Карло откройте! У меня в участке все можно!
Околоточный надзиратель Паджио платил ему 12000 рублей в год за свой околоток, – в котором был только дом Харитова, теперь Обидиной[114]! Но князя В.А. Долгорукова любила Москва. Звала его:
– Князюшкой.
И пренаивно титуловала:
– Хозяином столицы.
Он был «настоящим барином», – качество, очень ценное в глазах романтично-благородной Москвы.
Все было. Но хамства не было.
Князюшку окружали легенды.
И это мирило.
Граф К., попечитель учебного округа, сам бывший студент Московского университета, сам во времена своего студенчества принимавший участие в «волнениях», участвовавший даже в знаменитой «битве под Дрезденом», под гостиницей «Дрезден», на площади генерал-губернаторского дома[115], – освистанный студентами на сходке, явился к генерал-губернатору требовать:
– Полиции… войск!..
Москвич Долгоруков, как москвич, гордился Московским университетом.
– Не горячитесь ли вы, граф?.. Конечно, то, что случилось, нехорошо… Но будет ли тоже хорошо, если я введу в университет полицию, войска? Я никогда не был по ученой части и не знаю, конечно… Но я слышал, что у вас, в ученом мире, это считается большим оскорблением университету, студентам…
– Какие это студенты?! Это негодяи!
Князь Долгоруков только улыбнулся:
– Ну, граф! Зачем так строго! Молоды! Со временем переменятся! Всегда такими были! Вот здесь, например, «под Дрезденом» когда-то какую драку устроили. Казалось бы, не негодяи?.. А ничего! Потом исправились! Многие из тех, которые тогда «под Дрезденом» дрались, – очень почтенные посты занимают! И никто их «негодяями» не считает… Зачем же так сразу: волнуется, – значит, «негодяй»!
И этот щелчок графу, поведением которого была возмущена вся Москва, – Москве доставил нравственное удовлетворение.
– Князюшка! Умеет разговаривать с людьми!
Он умел.
Лопашов, – в «Русской палате» которого чествовали Черняева, чествовали М.Д. Скобелева[116], где И.С. Аксаков говорил свои страстные речи пред именитым московским купечеством и делал сборы на Сербию, на Герцеговину, на Болгарию, – Лопашов, знаменитый в те времена ресторатор, отказался подписать на благотворительную лотерею, «во главе» которой стоял князь В.А. Долгоруков.
– Что ни день, то лотерея. Надоели.
Донесли князю.
«Хозяин столицы» принял за личное оскорбление.
– Вызвать Лопашова к девяти часам.
Лопашов понял, «по какому делу». Взял, на всякий случай, тысячи две, три.
Явился в девять.
Проходит десять, одиннадцать, двенадцать. Лопашов все сидит в канцелярии.
– Скоро?
– Почем можем сказать? Доложено. Позовут!
Час, два, три.
– Я больше не могу. Мне есть хочется.
– Надо подождать. Каждую минуту могут позвать.
Четыре, пять, шесть.
– Да я закусить хоть сбегаю.
– Невозможно. Вдруг позовут.
И только в два часа ночи дежурный чиновник распахнул дверь приемной.
– Господин Лопашов. Князь ожидает вас в кабинете.
Едва держась на ногах, вошел бедняга Лопашов, поклонился, сразу достал из кармана деньги и подал.
– Вот-с, ваше сиятельство! Я не подписался на лотерею потому, что хотел иметь честь передать лично…
Князь взял деньги, улыбнулся и пожал руку:
– От всей души вас благодарю! От всей души! Я так и был уверен, что тут недоразумение. Я всегда знал, что вы человек добрый и отзывчивый! А теперь… Не доставите ли мне удовольствие со мной откушать? Мы, старики, не спим по ночам. Ужинаю поздно. Милости прошу. Чем Бог послал!
И до четырех часов они просидели за ужином вдвоем, в дружеской беседе.
На следующий день Лопашов рассказывал, конечно, только о том:
– Как мы с его сиятельством ужинали!
А Москва, знавшая «подоплеку», Москва «Шутников» Островского[117], втихомолку подсмеивалась:
– И с аппетитом, чай!
В те времена и по тем понятиям, находили:
– И щелкнуть, но и обласкать умеет!
XI
Если вы старый москвич, не выплывает ли у вас, при этих воспоминаниях, из тумана прошлого пара гнедых, старомодные огромные сани, с высокой спинкой, старик с падающими на грудь длиннейшими, «полицейскими», усами с подусниками:
– Николай Ильич Огарев![118]
Без «полицеймейстера Огарева» картина той, легендарной, Москвы была бы не полна. Никакой бы картины не было!
Своего легендарного полицеймейстера любила та, легендарная, Москва.
Огарев не брал взяток.
Что?
Чтоб какой-нибудь трактирщик смел ему предложить:
– Благодарность-с!!!
Н.И. Огарев ездил почти каждый день завтракать в «Эрмитаж». «Эрмитаж» до сих пор хранит память о нем: делает «бифштекс по-огаревски».
Съедал «директорский завтрак», выпивал полбутылки шампанского. И всегда платил.
– Получи!
Давал десять рублей.
Половой шел в буфет и приносил сдачу: восемь трехрублевых и одну рублевую бумажку.
Н.И. Огарев давал рублевую бумажку на чай, остальную сдачу, «по барски, конечно, не считая», клал в карман и уходил.
Половой низко кланялся ему вслед.
Но чтоб взятку взять?!
Так благородно… все делалось.
И Москва только добродушно посмеивалась:
– Хороший старик!
Вы помните Петра Ивановича Кичеева?[119]
Одного из талантливейших театральных критиков? Глубокого и просвещенного знатока искусства. Горького и трагического неудачника в жизни.
Вся жизнь его была надломлена.
В ранней молодости с ним случился трагический водевиль[120]: желая убить одного обидчика и негодяя, он по ошибке убил другого, ни в чем не повинного человека. Который ему ничего не сделал. Которого он не знал. Которого раньше никогда не видел. Это было фатальное сходство лиц, которое встречается только в оперетке «Жирофле-Жирофля» [121] да в жизни.
Этот ужас навсегда искалечил бедного Кичеева. Сделал его больным, издерганным, часто ненормальным.
Кичеев искал «забвения». И страдал тем же, что составляло несчастие многих талантливых русских людей. В Москве – в особенности.
И в таком виде Кичеев бывал «нехорош».
Однажды в театре, во время антракта, в буфете кто-то при нем сказал:
– Какое безобразие! На первом представлении, в генерал-губернаторской ложе, сидит кто? Пойманный, изобличенный шулер! Сенатор такой-то!
Сенатор был, действительно, шулер. И действительно, пойманный и изобличенный в Петербурге. В Москве он был проездом. В это время раздался звонок. Начало акта. В коридоре собеседник даже указал:
– Вон он! С каким важным видом идет!
– Сейчас ему дам в морду!
И никто не успел оглянуться, как Петр Иванович подлетел к сенатору.
– Вы сенатор такой-то?
Вы слышите его хриплый, нервный, срывающийся голос? Сенатор отступил:
– Я. Что вам?
– Про вас говорят, что вы шулер…
Толпа моментально отделила Кичеева от помертвевшего сенатора. Скандал на всю Москву. Вся Москва была на первом представлении. Сенатор узнал фамилию и полетел к Долгорукову. Он был его гостем. Долгоруков предоставил ему свою ложу. Его оскорбили…
– Кичеев будет выслан через 24 часа из города! – кратко объявил кн. Долгоруков.
Друзья Кичеева ночью бросились искать Огарева:
– Никто, как он!
Часа в четыре, наконец, пара гнедых привлекла сонного и усталого старика.
– Николай Ильич! Спасите Кичеева! Вот что случилось!
Огарев схватился за голову:
– Да он с ума сошел! Сенатор-то, действительно, шулер! Вот в чем ужас! Что тут можно сделать? Вы все, господа, с ума сошли! Еще хлопочете за него?! Вас всех из Москвы надо вместе с ним выслать!
– Ну, Николай Ильич, ругаться будете потом. А теперь, пока, надо спасти Кичеева. Что он будет без Москвы делать? Человек-то уж очень хороший!
– Вы все хорошие люди – безобразники!
– Выручите москвича!
– Ладно. Буду думать. Но обещать, помните, ничего не обещаю. Набезобразничают, а потом Огарева – выручай! Идите! Я старик. Мне спать нужно, а не вашими скандалами заниматься.
И в восемь часов утра старик уже тащился на своей классической паре в гостиницу, где остановился сенатор:
– По экстренному делу!
Сенатор принял его, едва что-то на себя накинув.
– Ваше высокопревосходительство… Простите, что беспокою… Но такое происшествие… Я только что узнал… Вчера в театре… Этот Кичеев… благороднейший человек…
Сенатор только глаза вытаращил:
– Виноват… как благороднейший человек?..
– Благороднейший! Изумительной души! Правдивейший! Лжи не терпит!
– Виноват… виноват…
– И вдруг при нем… какой-то негодяй… в буфете… на ваш счет… гнусность!.. Кичеев, – повторю, благороднейший человек, – на него: «Как вы смеете? Я уважаю заслуги этого государственного человека, и вы про него осмеливаетесь?.. Ваше счастье, что у него нет сына, который смыл бы оскорбление, вашей кровью смыл! Что он сам в таком почтенном возрасте?! Что его положение ему не позволяет?! Но в таких обстоятельствах обязанность всякого порядочного человека… Я обращусь к нему! Я скажу ему о тех гнусностях, которые вы позволяете себе распространять! Я попрошу у него позволения вступиться за его честь! И тогда… к барьеру!» Скандал грандиозный… Кичеев кидается к вам… взволнованный… Он просил у вас позволения драться за вас на дуэли?
– Ах… он вот… он вот зачем… Скажите… а я… я не так понял… Ему не дали, значит, договорить… я не разобрал… я к князю… князь уже распорядился: в двадцать четыре часа его из Москвы!
Огарев схватился за голову:
– Я так и знал! Я всегда говорил, что Кичеева до добра его сумасшедшее благородство не доведет!
– Но, Боже мой, это надо исправить… Я сейчас же к князю… Нужно объяснить… все изменяется…
Собственно, вряд ли и сенатор верил… Но это был исход. Благородный исход из скандала.
Никакого оскорбления не наносили. Напротив! Сенатор полетел к князю:







