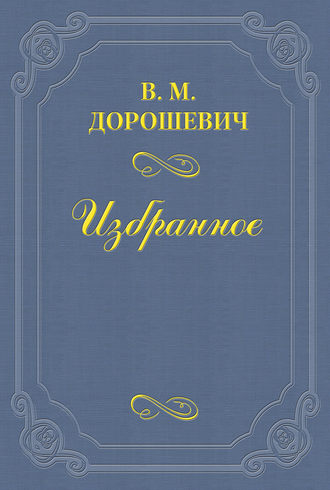
Влас Дорошевич
М.В. Лентовский
XIII
«Наполеон»
«Наполеон». Так называл его покойный Полтавцев.[125]
– Наполеон.
Называл с увлечением, с восторгом. Искренно.
Сын знаменитого, «того» Корнелия Полтавцева… Помните Счастливцева:[126]
– Нынче душа только у трагиков и осталась. Вот Корнелий Полтавцев…
Талантливый, драматический актер сам. Спившийся, старый, опустившийся…
Полтавцев слишком привык ходить по этапу, кочевать в ночлежных домах, питаться «бульонкой», – чтобы бояться самой черной нищеты.
Он не боялся нищеты, и потому был искренен.
Да…
Соблюдая, конечно, все пропорции…
В своем деле Лентовский был «маленьким Наполеоном».
И его окружали люди, верившие в его «звезду».
Преданные до самоотвержения.
Мне вспоминается маленькая сценка.
Трагическая. Хотя задней декорацией для этой трагедии и служила уставленная разноцветными бутылками буфетная стойка.
Тяжелые времена.
«Последние дни „Эрмитажа“.»
Крупные «рвачи», как пиявки, напившись, отваливались.
Пошел «ростовщик мелкий». Словно могильные черви.
Разрушают дело. Разъедают.
Режут, в алчности, курицу, которая несет золотые яйца.
Поздняя осень.
Дождь. Публики мало.
«Эрмитаж» не закрывается только потому, что:
– Нечем заплатить людям, нечем рассчитаться.
Касса опечатана. Захвачена кредиторами. В ней судебный пристав. У буфета, где «греются» несколько завсегдатаев, актер М. вдруг что-то кричит.
Диким, непонятным голосом. Два, три слова. И падает. Мертвецки пьяный.
– До бесчувствия!
Окружающие глядят с изумлением.
– Когда он? С чего?
– Пять минут тому назад трезвехонек был!
Буфетчик докладывает:
– Всего три рюмки и выпили!
«Мертвое тело» везут домой. И тут все объясняется. Целые сутки он ничего не ел!
Ведь не может же актер, голодный, подойти к приятелю, к поклоннику из публики:
– Я хочу есть. Закажите мне порцию битков.
Не накормит никто.
Но выпить «с актером» всегда найдутся любители.
– По рюмочке? А?
Бедняга пил, чтобы поесть.
Пил, чтобы съесть кусочек «казенной» закуски. И так он «питался» неделю. А, может быть, и не одну. Целый день ни крошки во рту. Вечером – играть. Надежда – что-нибудь получить. Надежда тщетная.
– Опять арестовали! Опять в кассе судебный пристав!
После спектакля встреча со знакомыми.
– По рюмочке? А?
«С актером».
Несколько рюмок водки на тощий желудок, чтобы съесть несколько кусочков селедки. И с этим – на сутки! Он умирал с голоду. Ему предлагали другие ангажементы. Но…
– Лентовский будет держать зимой «Скоморох». Как же я пойду? Для этих людей служить у другого антрепренера казалось – «продать шпагу свою».
Казалось изменой.
Романтическое время!
Создание Лентовского, им «из сержантов возведенные в маршалы», – они были верны ему до последней занятой и проеденной копейки.
До последней заложенной жилетки. Уверяю вас, что это иногда труднее и стоит:
– До последней капли крови!
На первый зов его они летели, – его «Маленькие Неи».[127]
Они «делали с ним все походы», переходили с ним из театра в театр, из предприятия в предприятие, делили торжество и все невзгоды.
Была целая категория, целый штат артистов, администраторов, – даже капельдинеров, рабочих, которые от Лентовского «не отставали».
Только у него и служили. Голодали, ожидая, что:
– Лентовский заведет опять дело!
Безропотно голодали.
Это была больше, чем любовь к Лентовскому, чем преданность, это была:
– Вера в Лентовского. Слепая вера.
Он знал друзей.
В «дни паденья», в дни разгрома, в дни несчастья обратилось в общее место, в поговорку:
– Все друзья оставили Лентовского.
Неправда.
Друзья не оставляли Лентовского.
А те, кто его оставил, не были его друзьями.
И только.
XIV
«Маркграфство Эрмитаж», как звали тогда в Москве, было, действительно, каким-то особым миром, самостоятельным государством. С особыми, своими законами.
Тяжелый и трудный год краха.
На всех дверях печати судебного пристава.
Все описано. Лентовский объявлен несостоятельным. Какие-то люди тянут жадные и грязные руки, чтобы «захватить золотое дело».
– А Лентовского в долговое!
Хлопочут, чтобы непременно его посадить.
Он болен. Он представляет медицинские свидетельства, чтобы его:
– Оставили под домашним арестом.
Сыплются доносы:
– Н_е_п_р_а_в_д_а.
Ложные заявления:
– Он выезжает!
Присылают докторов «переосвидетельствовать».
Боятся, что «Лентовский выплывет». А потому стараются засадить его в тюрьму.
На кухне у Лентовского сидит и сторожит городовой.
Зима.
«Эрмитаж» под сугробом снега.
В сугробах протоптаны тропинки.
В саду живут: Лентовский – сидит безвыходно, больной, в своей комнате, заваленной нотами, пьесами, макетами декораций, рисунками костюмов, портретами друзей, знаменитостей с дружескими надписями; библиотекарь В. в нетопленой конторе переписывает ноты, приводит в порядок пьесы, роли:
– Нельзя! Надо к будущему сезону готовиться!
Долговое готовится, а не сезон!
Где-то в глубине сада, в хижине, живут актер Полтавцев и трагик Любский.[128]
Гремевший на всю Россию, талантливый, – кто видел, говорят, чуть не гениальный, – «тгагик Гюбский», картавящий, не выговаривающий «р» и «л». Публика, говорят, это забывала. Так потрясающа была его игра в «Гамлете», «Отелло» [129], «Ричарде III».[130]
С худым, бледным, нервным, испитым лицом. С ужасными, полубезумными, трагическими глазами.
Спившийся, но не опустившийся.
Гордый до безумия.
Не захотевший переживать себя. Переживать своего падения.
Не захотевший из Геннадия Несчастливцева превращаться в Аркашку.[131]
В спившегося Шмагу.[132]
Бросивший сцену, театр, ушедший «в забвении» доживать свой блестяще начатый, короткий, – увы! – век:
– К дгугу!
К Лентовскому.
– Мне нужно, дгуг, какую-нибудь камогку, погбутыгки водки в день…
Ружье и несколько зарядов дроби..
– Водку я выпью, а закуски пастгегаю себе сам! А богше обо мне пгошу не заботиться! Не надо!
В центре Москвы он жил дикарем.
В маркграфстве «Эрмитаж»!
Ему ежедневно выдавалось, – кухарка должна была выдавать, «к господам на ггаза» он не желал показываться, – полбутылки водки, хлеб и сколько-то зарядов.
И в «Эрмитаже», среди молчания снеговой пустыни, вдруг бухал выстрел.
– Это что? – испуганно вздрагивал посетитель.
– А это Любский по голубям стреляет, – спокойно пояснял Лентовский, – или по галкам, а то по воронам. Себе и Полтавцеву на завтрак охотится!
Из двух сожителей в горницах появлялся один, – Полтавцев.
– Ну, что Любский? – спрашивали его.
И на старом, милом, добром, обросшем седой бородою лице его появлялась милая, добрая, детская улыбка.
Он поднимал палец вверх и говорил, понижая голос:
– Горд!.. Умирает в пустыне… Как лев-с.
Любский появлялся страшно редко. Да и то, справившись у верного капельдинера Матвея, который никак и ни за что не мог расстаться с Лентовским:
– Магкггаф один? У магкггафа никого нет?
При других, при посторонних, «при людях» он не появлялся никогда.
Людей он избегал.
Он:
– Умигал один! Фантастический мир?
И мне вспоминаются эти тяжелые времена и эти верные друзья. С измученными тревогою лицами.
Им все говорят, дома говорят от голода, потому что есть нечего, есть нечего. Друзья говорят, доброжелатели.
– Да плюньте вы на этого Лентовского. Кончился он. Кончился. Не воскреснет!
А они все еще считают себя «на службе у Лентовского».
Не идут никуда. Не ищут ничего.
Преступлением, изменой считают «искать чего-нибудь другого».
Они входят с измученными тревогой и нуждою лицами.
И заботливо осведомляются:
– Как здоровье, Михаил Валентинович?
Это не фраза вежливости. Это нежная, это родственная заботливость. И садятся, стараясь говорить «о чем-нибудь другом», боясь задать вопрос:
– Ну, что, Михаил Валентинович? Как дела? Есть надежда?
Только пытливо всматриваются.
Словно смотрят на орла, у которого перешиблено крыло, но который вот-вот поправится, крыло заживет, – и он вновь взовьется под небеса орлиным взмахом, могучий и сильный, и властный.
И никто из них не обмолвится словом о том, что дома у него осталась без хлеба семья.
О себе не говорят.
О себе не думают.
Вот милый Л., актер, друг юности.[133]
Я не уверен, ел ли он сегодня.
Все, что у него есть: домишко, где-то на окраинах Москвы. И этому грозит конец.
И этот домишко хотят описать за долги Лентовского. Л. был ответственным директором сада.
И останется он на старости лет без куска хлеба, без теплого крова.
Он все отдал делу Лентовского. Талант. Всю жизнь.
Пусть и последние крохи гибнут в крахе «его Лентовского».
Он ни слова не сказал об этом.
– Зачем его расстраивать?
«Он» перед ним и так больной, измученный.
– Зачем расстраивать его больше? От него нужно удалять эти «мелочи».
– Он оправится! Он поднимется! Он поднимется! И тогда все будет спасено! И дело, и люди! Он поднимется!
Он – Лентовский!
Приятели там, в городе, хохочут, напевают:
– Он подрастет! Он подрастет! На то испа-па-па-нец он!
Л. отвечает только:
– Смейтесь! Увидите!
И здесь, перед своим больным другом, перед своим кумиром, он полон верой, он религиозно молчит:
– О своих маленьких делах!
Это то, что он останется без куска хлеба, он называет «маленькими» делами!
Вот Ж* известный дирижёр.
У того прямо слезы на глазах. Чем он существует? Он бегает по редакциям, просит переводов для дочери. Буквально нечего есть. Но и он молчит.
– Что нового? – спрашивает печально Лентовский.
– От Парадиза[134] приходили звать! – улыбаясь, сквозь слезы, кривой улыбкой, говорит Ж.
У Лентовского потемнело лицо. Он «равнодушно» говорит:
– А!
Ж. чувствует, что в истерзанное сердце нанесен еще укол. И спешит сказать:
– Послал к черту! У нас свое дело.
Лентовский смотрит на него. Какой взгляд!
Быть может, взгляд Тартарэна, которому остался верен его комичный «личный секретарь» [135], быть может, взгляд Наполеона[136], когда он узнал, что маршал Ней присоединился к нему[137], – это все зависит от той точки зрения, с какой вы смотрите на людей. Все в жизни велико или ничтожно, но все всегда условно.
И у старика Ж. снова глаза полны слез.
Но слез страданья…
Вот библиотекарь В.
Он «на своем посту».
В нетопленой конторе.
Бледное, исстрадавшееся, измученное лицо.
Но он входит с деловым видом. Он умирает, но он не сдается.
– Оперетки разобрал. Феерии тоже приведены в порядок. Теперь что, Михаил Валентинович?
Лентовский тихо отвечает ему:
– Возьмитесь… за водевили. Водевили у нас в беспорядке.
Ему хочется, быть может, крикнуть:
– Ни к чему все это! Ни к чему!
Но как же убить человека? Как же сказать ему, что все кончено?
– Водевили не в порядке. Водевили надо пересмотреть. Да хорошенько!
«Старая гвардия».[138]
Это была Эльба маленького Наполеона.[139]
Но вот в комнате, заваленной нотами, пьесами, макетами декораций, рисунками костюмов, стало бывать все меньше, меньше, меньше людей…
Они ушли…
Не будем клеветать!
Не они ушли – нужда их увела.







