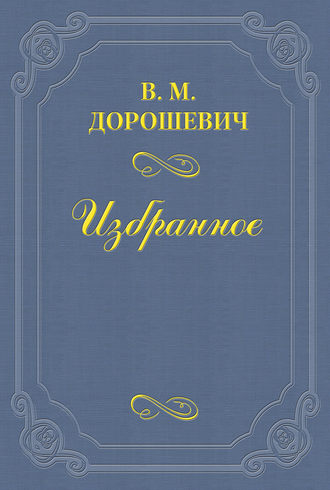
Влас Дорошевич
М.В. Лентовский
Он доставал из кармана горсть смятых, скомканных бумажек, сколько рука зацепляла. И уходил спать. А ученик, стоя среди товарищей, с недоумением говорил:
– Как же быть?.. Дал на пальто, – а тут триста пятьдесят!
Находился единственный выход:
– Господа! Кому еще платье нужно?
Надо было быть широким, чтобы быть любезным широкой Москве. И «барственность» любила романтичная Москва. В ресторане «Эрмитаж» в большой компании обедал Панютин. Когда-то знаменитый фельетонист «Nil admirari» [85]. Когда-то… Бедный, все проживший старик.
Он ходил в «Эрмитаж», к Оливье[86], по старой памяти позавтракать, пообедать.
Когда-то богатый человек, – он прокучивал здесь большие деньги.
«По старой памяти» ему не подавали счета, если он не спрашивал.
Но то простые завтраки, обеды. А тут огромный обед, с дамами, – неожиданно принявший «товарищеский характер»: один взял на себя шампанское, другой – ликер.
Панютин, чтобы не отставать от других, объявил:
– Мои, господа, фрукты.
В конце обеда он приказал человеку:
– Подай фрукты!
Буфетчик осведомился:
– Кто заказал?
– Господин Панютин.
– Панютин?! Отпустить не могу!
Не заплатит. Положение получилось ужасное.
Фруктов не подают.
Панютин, уже не решаясь ни на кого поднять глаз, спрашивает у человека:
– Что ж, братец, фрукты?
Половой, глядя в сторону, бормочет:
– Сию минуту-с… принесут…
А буфет завален фруктами. Все видят. Всем хочется провалиться сквозь землю.
Что делать? Другому кому-нибудь приказать? Обидеть старика, который и так уже умирает от стыда, от срама, от позора. В эту минуту в зал входит Оливье, – «сам Оливье». Он сразу увидал, что что-то происходит. Какое-то замешательство. Обратился к буфетчику:
– Что такое?
– Да вот господин Панютин заказал фрукты. А я отпустить не решаюсь. Вещь дорогая.
Оливье только проскрежетал сквозь зубы:
– Болван! Сейчас послать на погреб. Чтобы отобрали самых дорогих фруктов! Самый лучший ананас! Самые лучшие дюшесы! В момент!
Он подошел к столу, поклонился присутствующим и обратился к Панютину:
– Простите, monsieur Панютин, что моя прислуга принуждена была заставить вас немного обождать с фруктами. Но это случилось потому, что на буфете не было фруктов, достойных, чтобы их вам подали.
В эту минуту появился человек с вазой «достойных» фруктов.
– Салфетку! – приказал Оливье.
И пихнув под мышку салфетку, взял вазу с фруктами:
– Позвольте мне иметь честь самому служить вам и вашим друзьям.
У старика Панютина были слезы на глазах. И не у одного у него.
Бывший среди обедавших М.Г. Черняев[87], – он был тогда на вершине своей славы, – обратился к Оливье:
– Прошу вас сделать нам честь просить к нам и выпить стакан шампанского за здоровье наших дам.
И дамы смотрели, с благодарностью улыбаясь, на человека, который сделал «такой красивый жест»:
– Мы просим вас, monsieur Оливье! Мы просим!
На этом лежит романтический отпечаток.
Как «на всем московском есть особый отпечаток».[88]
VIII
Ты всегда была романтична, моя дорогая родина, моя бесценная старушка Москва!
Ты была тоже романтична, когда сожгла себя, чтобы не отдаться Наполеону.
Чтоб «не пойти с повинной головой».[89]
Романтиком был Фамусов[90], когда восклицал:
– Что за тузы[91] в Москве живут и умирают!
– Едва ли сыщется столица, как Москва!
Ты была романтична в статьях Аксакова[92]. Ты была романтична в призывах Черняева.[93]
Что, как не романтизм – газетчик из Охотного ряда, бросивший все и пошедший добровольцем в Сербию.
Вернувшийся искалеченным, убив 14 турок, – и снова заторговавший газетами в Охотном, с большим крестом «Такова» на груди.[94]
Ты была романтична, Москва, когда в тебе, – в тебе! – создавался крестовый поход в наши дни.
Самая романтичная война[95], какая только когда-нибудь была.
Война за чужую свободу.
Война за освобождение братьев-славян!
И в наши дни…
Ты одна, в страшном декабре страшного года[96], романтически дралась на баррикадах, в то время как другие, – трезвые реалисты, города, – очень основательно, – находили, что:
– Баррикады, это – романтизм!
Из тебя не вытрясешь ничем твоего романтизма! И остается только с благоговением поцеловать твою руку, романтичная старушка.
Во всем всегда ты неисправимо романтична. В большом и малом. Быть может, чтобы понять и любить эту Москву, надо быть великороссом.
Даже Гоголь, малоросс, не понимал ее:
– И за что я полюбил эту старую, грязную – бабу Москву[97], от которой, кроме щей да матерщины, ничего не увидишь?! – писал он в одном из писем.
Зато Пушкин говорил о ней:
«Нет, не пошла Москва моя»…[98]
И какой сыновней любовью звучит это нежное:
«Моя»!
IX
Это была та широкая, хлебосольная «Москва, Москва, Москва, золотая голова» [99], про которую складывал рифмы Шумахер:[100]
От Ланинского редеру
Трещит и пухнет голова,
Знать, угостился я не в меру, —
Что делать, – матушка Москва!..
Про которую пели с лихим надрывом цыгане:
В Москве всегда найдешь забаву
Во вкусе русской старины:
Там пироги пекут на славу,
Едят горячие блины!
Это была та Москва, гордая кухней, гордая своим университетом, которая установила традицию, – чтоб «день святой Татьяны», тот день, про который пелось:
Кто в день святой Татьяны
Не ходит пьяный.
Тот человек дурной, —
Дурной!
Чтоб этот день университетская молодежь праздновала в самых лучших, самых роскошных, в первых ресторанах столицы. В «Эрмитаже», в «Стрельне», у «Яра».
Где старик Натрускин[101] в этот день отказывал людям, кидавшим сотни, и отдавал свой сказочный зимний сад в полное распоряжение студентам, пившим пиво и пышно возлежавшим потом на бархатных диванах с надписями мелом на пальто:
– «Доставить на Ляпинку[102]. Хрупкое! Просят вверх ногами не ставить!»
– Но ведь у вас пальмы! Бог знает, каких денег стоит! – говорили ему.
Старик улыбался:
– Ничего! Будут докторами, адвокатами, – тогда заплатят!
И ему казалось бы странным, диким, чтобы Татьянинский пир не у него происходил:
– Московские студенты-то – наши! Нынче вся Москва ихняя! Московский праздник!
Это была та Москва, в которой Оливье в окружном суде судили:
– За жестокое обращение с прислугой.
Он брал какого-нибудь бедно одетого молодого человека, давал ему денег:
– Пожалуйста, подите ко мне в ресторан, спросите бутылку пива, заплатите двугривенный и дайте человеку на чай пятачок.
Кругом проедались состояния.
А Оливье откуда-нибудь издали, незаметно, следил, как отнесется избалованный половой к пятачку на чай.
Поклонится ли совершенно так же, как кланяется за «брошенную двадцатипятирублевку».
И горе, если зазнавшийся лакей с презрением отодвигал пятачок обратно, или не удостаивал «пивной шишгали» даже взглядом.
Оливье какие-то казни выдумывал для виновного:
– Хамства не терплю!
Это был та Москва, где старик Тестов[103], чуть не со слезами на глазах, рассказывал, как надо воспитывать:
– Поросеночка.
Никогда не поросенка. А «поросеночка». С умилением.
– В стойлице сверху нужно лучиночку прибить. Чтобы жирка не сбрыкнул. А последние деньки его поить сливками, чтобы жирком налился. Когда уж он сядет на задние окорочка, – тут его приколоть и нужно: чтоб ударчик не хватил маленького!
Москва Егоровских блинов, Сундучного ряда, москворецких огурцов, ветчины от Арсентьича[104], Бубновского с кашею леща![105]
Где приготовленье «суточных щей» было возведено в священнодействие.
В щи, уже готовые, клали еще мозги, горшочек замазывали тестом и на сутки отставляли в вольный дух.
– Тс! Щи доходят! Таинство!
Кругом ходили на цыпочках.
И старик Тестов скручивал ухо бойкого, разбесившегося поваренка.
– Тут щи!!! А ты… бегом! – говорил он с ужасом. Обломовка![106]
«Какие телята утучнялись там».[107]
И правил этой Обломовкой:
– Хозяин столицы, генерал-адъютант его сиятельство князь Владимир Андреевич Долгоруков.[108]
Легендарные времена!
Он был «правитель добрый и веселый».[109]







