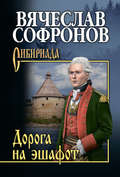Вячеслав Софронов
Сибирские сказания
Книга первая
Сибирские сказания
Тобольские сказания про разные названия
Кто может подсчитать возраст сказки? Кто первый придумал, дал названия рекам, горам, народам? Как вновь рожденному человеку дают имя, так и городу, улице, предместью присваивают свое единственное название, которое живет годы и столетия, переходя из поколения в поколение.
Названия тобольских местечек, речек, холмов и мостов оставлены нам от предков, как вехи прошлых веков. Со временем эти названия стираются в народной памяти, а то и вовсе теряют свой изначальный смысл. Поэтому и хочется в одной книге собрать истории, связанные с местными тобольскими названиями, чтобы они не затерялись, не исчезли в суете времен, череде событий.
Русский народ очень восприимчив ко всему необычному, что происходит вокруг. Испокон веков складывались сказания, пелись песни о битвах, сражениях, героях. Врагам давались обидные клички, прозвища, зато люди, пользующиеся почетом, уважением, получали совсем иные прозвания. Так и названия рек, улиц, местечек никто специально не выдумывал, они возникали как бы сами собой, переплетаясь с судьбами людей.
Предлагаемая читателю книга не ставит своей целью научную расшифровку того или иного названия. Это скорее исторические анекдоты, что были очень распространены в прошлые века, шутливо и иносказательно повествующие о происходящем. Не надо искать в них конкретности и особой достоверности. Могло ли такое быть, случиться? Могло! А могло и не быть. Свидетельство тому – народная память, а русский народ всегда щедр на выдумку. Шутки помогали легче переносить житейские тяготы и суровость нашего таежного края.
Сибирь – край веселых людей, где и шутка водилась, и дело делалось.
Кто народ веселит, за того свет стоит.
Смех тридцать лет у ворот бродит-ходит, а свое возьмет, вышутит.
И наши сказания веселы да задиристы. Верить им или нет – дело читателя, но родились они в Тобольске-городе, тоболяками придуманы. А кто не верит, пусть нас проверит. Согласны?
Как город Тобольск ставили
У кого как, а у нас город в аккурат стоит: собой приметлив, с людьми приветлив, для приезжих мил – всем умастил! Где такое найдете-сыщете, чтоб при двух реках, при трех горах, о два жилья городок стоял?!
Тут и лес, и поле – всего вволю, хоть бегом беги, а сможешь, так лётом лети, крылы-крылышки выпускай, до неба доставай. Про Тобольск наш разные сказы сказывают, байки бают, старину вспоминают. Кто в нем не бывал, тот и счастья не знавал.
Таких, как у нас, девок-припевок нигде в мире не сыщешь, зря жизнь просвищешь; а парней-богатырей – сто пар сапог собьешь и за Уралом не найдешь; а наших дедов-мудрецов Бог умом наградил, в первый ряд посадил; а нашенские бабы такие шаньги пекут, что слюнки по подолу сами текут.
И все эти чудеса-разности в Тобольске-городе водятся, до сих пор не переводятся. Тут и Богу служат, в колокола бьют, а праздник подходит, и винца попьют. Все под Богом ходят, да далече не заходят: хошь ты русский, хоть татарин или иной басурманин.
Не город, а сказка, для души ласка. И живется, и дышится легко-легонько, день за днем бежит потихоньку, пусть не быстро, но главное – не корыстно. Живи, радуйся, сколько хошь, а добрых людей дурным словом не тревожь.
Есть еще в Сибири город Тюмень, пыль собирала со всех деревень. Что у нас в Тобольске не прижилось, то в ней завелось. Тем и пользуются-радуются, на большее не оглядываются.
А ведь могло такое случиться, что и город бы наш не родился. Да видать случай к нам, с Божией помощью, лицом повернулся, – сам Господь помог, в бороду улыбнулся, по его воле не в чистом поле, а в добром месте город заложили, крепость срубили, чтобы жили все в радости да творили благости.
Давненько то было, да не все позабыли, как прибыли из-за Иртыш-реки стрельцы-казачки с воеводой Данилой по прозванию Чулковым, мужиком толковым. Дал им царь Федор, самого Грозного Ивана сын, указ, чтоб тот воевода крепкую крепость срубил-сладил, на крутом берегу поставил.
Плывет воевода на струге-ладье от горы к горе, а кругом все места чудные, завидные, одно другого краше: хошь в одном месте город-крепость руби, а хошь напротив ставь. А дело нешуточное так город поставить, в точку попасть, перед царем не ударить в грязь, чтоб он собой хорош был, долго людям служил. Один день проходит, другой кончается, третья зорька над Иртышом-рекой занимается, а Данила Чулков глаз не смыкает, все место подыскивает, выбирает.
Сплавали к городку ханскому, что на крутояре стоит, врагам грозит. Там Ермак-атаман с дружиной своей две зимы зимовал, горя много повидал, половину товарищей схоронил, в землицу зарыл. Нет, не годится рядом с могилами жить-селиться да в праздники веселиться, не заведено так у людей православных, не принято.
Взобрались на гору Чувашскую неприступную, где хан Кучум свои сотни держал, казаков в Сибирь не пускал, да те все одно его скинули-сковырнули, обратно не повернули. И тут кровушки русской много пролито, жизней положено без числа, не годится место для житья. Да и леса крепкого, строевого близко не сыскать, а зиму осталось недолго ждать, надобно башни острожные срубить, стены поставить, жилье для стрельцов-казаков обустроить.
А был из их числа, из артели парень молодой: хорош собой, совсем безусый, волосом русый, именем Андрей, а по прозванью Устюжанин. Он все рыбной ловлей занимался-тешился, на всю артель рыбу добывай, свежей ухой, что ни день, угощал. Пропадал по заводям да омутам то с сеткой-ряжевкой, а то с переметом. Весь день его среди казаков не было, а к вечеру бежит по берегу сам не свой, рот до ушей сплошной дырой.
Бегом бежит, что есть мочи голосит. Шапку ветром сдуло, сапоги илом затянуло:
– Ой, мужики! Диво! Ой, родненькие! Чудо! Сколь лет на свете живу, а такого не видывал, не слыхивал. Расскажу, не поверите…
– Чего голосишь, будто с печи свалился, – мужики ему. – Водяной, что ль, за штаны схватил или русалка поцеловала?
– Если бы водяной иль русалка, а то… чудо! Рыбина поболе меня на песке лежит, носом шевелит. Только вместо носа у нее копье острое, на спине шипы, что у твоей бороны, плавники размером с руку.
– Ой неспроста это, – мужички-казачки меж совой зашептались, заперемигивались. – Где это видано-слыхано, чтоб рыбина сама на берег выскочила? Уж не сам ли рыбий царь к нам пожаловал? Только к добру то али к худу? Веди нас, Андрюха-простуха, на то самое место, где тебе рыбина чудная явилась, а потом решим-поглядим, как дело повернется-сложится.
Пошли они все скопом. Впереди Андрюха поспешает, следом воевода Чулков шагает, а дале по всему берегу стрельцы-казаки тянутся, пищали ружья наготове держат, на всякий случай. Вскорости добрались они до того места, где Устюжанин свой перемет в реку закидывал. Глядь, а на песке мокром вмятина огромная, будто кто бревно тащил-волок, прямехонько в воду уходит.
– Вот здесь он лежал-полеживал, на меня глазищи свои таращил. – Андрюха им указывает.
– Лежать-то, может, и лежал, да обратно сбежал. – Казаки в головах чешут, на Устюжанина поглядывают. – Уж больно велик, дажесь и не верится…
Только они это сказали-молвили, как вода возле берега забурлила, ходуном заходила, и шасть оттуда башка длинная, узкая, а вместо носа и впрямь копье торчит, покачивается.
– Так то ж осетр! Как есть рыбий царь! – казак один вскричал.
– Точно… Видать, знак нам подает царь рыбий…
Повернули головы назад, вверх глянули, а над ними холм, лесом строевым весь поросший-покрытый, и к нему ложок удобный ведет-стелется, под холмом речка малая струится, журчит водой ключевой, чистой, прозрачной.
Взобрались наверх, глянули – красотища! Иртыш мимо холма седые волны несет-бурлит, у другого берега лось из глухого урмана вышел, рога к воде наклонил, грозно трубит, в небе птичьи стаи кружат-летают, друг дружку догоняют.
– Да! – Данила Чулков руки раскинул, ливр ветру подставил, тово и гляди, сам полетит прямо с холма. – Сколь не ходи, а на сто верст лучше места не сыскать под крепость-городок! Такой простор для сердца, для души русской вряд ли найдешь. Не зря рыбий царь нам являлся, сокровенное место указал, и Богу, и людям угодное, для житья пригодное. Так тому и быть!
Перекрестились стрельцы-казаки, батюшка заздравный молебен отслужил, взялись за топоры-пилы, стали лес валить-шкурить, город-острог ставить.
Первым делом церкву заложили во имя Пресвятой Животворящей Троицы, поскольку все едино в мире этом: и земля, и воздух, и вода речная. А городок тот Тоболеском нарекли, именем заветным, ласковым, крепким и нерушимым. Чтоб стоял он веки вечные, добрым людям защитой служил, твердыней по всей Сибири слыл.
А осетр тот, царь рыбий, каждое лето на Троицын день из воды речной выныривал под самыми городскими стенами, условный знак подавал, острог от напастей всяческих оберегал. Старики говаривали, мол, пока тот осетр подле города обитается, в мире с людьми живет, то и Тобольску быть-стоять. А коль уйдет в иные места, прогневится на нас, то и беды разные пойдут, всех изведут.
Если кто наш сказ проверить пожелает, пусть на Троицын день на берег выйдет, да и подождет от царь-рыбы знака условного, сам во всем убедится, сверится.
Отчего кремлевскую гору Алафеевской прозвали
Гора кремлевская, на которой сейчас наш Тобольский кремль стоит-примостился, раньше вся лесом густым поросшая была. Зверье там разное водилось, охотники ловушки ставили, промышляли, кто чем мог. А на самой макушке, на пятачке, что на реку выходит, идолы древние стояли, шаманы подле них жили, в бубны круглые били.
Потом иная вера в Сибирь пришла. Прогнали шаманов за дальние болота, а на холме том главный татарский мулла поселился. Как только солнышко на закат начинает клониться, в волны иртышские садиться, тут мулла колени к земле преклоняет, руки к небу вздымает и на всю округу кричит: «Алла, алла…» С днем попрощается, проводит и айда спать, утра спать-почивать, чтоб утром сызнова ту же молитву начинать.
Долго ли, коротко ли жил мулла на своем холме, а вышло однажды плыть по Иртыш-реке на струге-лодочке Ермачку-казачку. удалому мужичку. Только стал он мимо холма проплывать на стремнине, где дна не видать, как случилась на ту пору буря нежданная, небывалая, ураганная: ветер свистом свистит, глаза слепит, волны величиной с гору гонит-вздымает, деревья вековые с корнем вырывает.
Ермачок-казачок решил судьбу не пытать, бурю у берега переждать. Во всяких походах он бывал, много лиха видал-испытал, а на реке лихо не лежит тихо, своего часа ждет, незаметно и нападет. Поплевал он на ладони, крестом широким перекрестился, Господу Богу помолился, налег со всей силы-мочи на веслица тесовые, погнал стружок-лодочку супротив ветру, поперек волны, да еще во всю мочь песню казачью запел-затянул про волю-вольную, про степь раздольную.
Только буря-ураганище, видать, подшутить над ним решила, поиграть с казачком в игры смертные: вздымет струг-лодочку на гребень, на другой перекинет, покрутит-повертит, норовит вверх дном перевернуть, гребца на глубину утянуть.
Но хоть и сила велика у Иртыша-богатыря, а с Ермачком-казачком, бывалым мужичком, одной силой не совладать, свистом-посвистом не запугать. Гребет он супротив ветра, поперек волны, каблуками в борта крепко-накрепко уперся, шапку с червленым верхом на глаза натянул, кушак покрепче затянул, веслами тесовыми, словно мельница ветряная, загребает, волну круто рассекает. И берег все ближе, вот-вот пару раз гребнет и на песочек выгребет.
Видит буря-ураган, что Ермачок-казачок на своей стружке-лодочке, как по воздуху, летит, вскорости на бережок выскочит, рассерчала-осердилась, пуще прежнего разъярилась, как ударит волной в сто пудов по веслу тесовому, да и сломала-обломила его пополам посерединочке на две половиночки. И смеется-хохочет, что теперь казак делать-работать станет, как с волной совладает.
Приуныл было Ермачок-казачок, с одним веслом оставшись, как ему супротив бури-урагана биться-бороться. С ветром, с водою дружи, не дружи, а все одно, жди беды. На все Божия власть, на реке не поспишь всласть. Взялся он за одно весло двумя руками, рукава загнул-закатал, сызнова на ладони поплевал, гребет слева, навалится справа, стружок-лодочка ход набирать начала, ближе к берегу подплыла, руку протяни – и до землицы, милой сестрицы, достать можно. Только буря-ураган не спит, не дремлет, стружок-лодочку, как шейку, треплет, на месте вертит, волнами горами поигрывает, ветром глаза слепит, страшным посвистом в уши свистит, силы отнимает, к берегу не пускает. Тут тучи черные-свинцовые раздвинулись-разошлись, вылетела из них стрела-молния, угодила прямехонько во второе весло, расщепила его на щепочки обломочки, по реке унесла-рассеяла.
Сорвал Ермачок-казачок шапку с червленым верхом с головы, кинул ее в сердцах на дно, кулаки до бели сжал, бурю-ураган крепким словом обругал-выругал: «За что ты на меня зло держишь-таишь?! Отчего погубить норовишь?! Может, и согрешил я в чем перед Господом, но даю слово крепкое, нерушимое искупить вину, замолить грехи, жить отныне по вере Христовой, праведной. Только помоги мне, Господи, на землю твердую ступить-выбраться, с ураганом-бурей совладать-справиться».
Поднялся Ермачок-казачок во весь богатырский рост, глянул по сторонам и не знает, откуда ему помощи-подмоги ждать-поджидать. С неба стрелы-молнии летят-сыплются, в лицо ветрище-ураганише дует-сквозит, с ног опрокинуть норовит, сзади волны-валы бегут, того и гляди, стружок-лодочку зальют-захлестнут, на дно поволокут. Повернул голову в сторону холма, лесом густым поросшего, видит, там мулла стоит, Аллаху молится-кланяется, ни ветра, ни бури не пужается. И волны с реки до муллы не долетают, не замочат, не забрызгают.
Делать нечего Ермачку-казачку и обратиться не к кому. Набрал он в грудь воздуху поболе, ладони к щекам приложил, словно лось, затрубил: «Эй, молодец, татарский удалец! Аль не видишь, что меня буря-ураган вконец одолела, весла разломала-раскидала, утопить, жизни лишить задумала?! Чего стоишь, молитву творишь, когда человек гибнет-погибает, на глазах пропадает!»
Мулла его услышал, с коленок встал, взад-вперед забегал заметался, руками махать принялся. Не знает, как Ермачка-казачка спасти, из беды выручить.
Тогда кричит ему атаман зычным голосом, бурю-ураган перекрикивая, перебарывая; «Эй, мулла, седая борода, чего суетишься-мечешься без пользы, без толку. Лучше кинь мне фал с горы-крутоярья да покрепче держи, глядишь и вытянешь».
Только мулла, видать, слов его не понял, руками разводит, плечами пожимает, чего ответить, не знает.
Атаман ему снова кричит-гаркает: «Фал-веревку тащи, к дереву крепи да мне кидай, из беды выручай!»
Да откудова мулле знать-ведать, что у казаков-гребцов веревка причальная фалом зовется-прозывается, издавна так называется. Он с ними сроду на судах-стругах по рекам-морям не ходил, кашицу-ушицу из общего котла-казана не едал, не хлебал, речь казацкую худо понимал. И сколь ему Ермачок-казачок не орал, не гаркал, не просил фал причальный с берега кинуть-бросить, а тот в ответ лишь кланяется да Аллаха поминает, чего делать, не знает. А Ермачку-казачку не до шуток, не до смеха, когда рядом смертная потеха. Хоть и весело жил, много по свету ходил, а ране времени помирать не хочется, душа смерти не принимает, да и сам того не желает.
Скидывает он тогда с себя кушак-пояс узорчатый, девичьими руками расшитый-разукрашенный, рвет его на полосочки, крутит из них веревочки, вяжет узлами крепкими. И получилась у него чалка-фал почти что взаправдешный. Смотал его в кольцо, размахнулся-прицелился, метнул на вершину холма и прямо мулле под ноги точнехонько попал-угодил. Тот, не будь плох, поймал фал, к деревцу покрепче привязал-примотал, Ермачку-казачку рукой машет: тяни, мол, выбирайся наверх, на кручу. Приналег атаман, поднапрягся, притянул стружок-лодочку к бережку, взобрался на вершину холма, мулле поклонился, расцеловал в обе щеки. А на память ему за помощь-спасение подарил доспех свой рыцарский, который ни пуля, ни стрела не брала, как горох отскакивала. Мулла растрогался, обрадовался, по-своему чего-то залопотал и достает сапоги-чирки легонькие. В таких чирках в реку, в болото попадешь, а воды не наберешь, так они сделаны-излажены по секрету особому.
Переждал Ермачок-казачок на высоком холме ураган-бурю, вытесал весла новые, попрощался с муллой да на другой день-денек дальше по Иртышу-реке поплыл страну Сибирь промышлять-разведывать. А мулла доспех боевой казачий до смерти хранил, всем показывал, языком цокал да рассказывал, как атаману фал бросал, из беды выручал, чирки дарил, чтоб до веку он их не сносил.
Вот и стали ту гору звать Алафеевской и до сих пор так зовут, коль в народе о ней речь ведут.
Как Иртыш с Тоболом боролись
С ручейка река начинается, с песчинок малых гора высится. В дальнем краю, на чужой земле стоят горы высокие, все снегами покрыты глубокими. Растеплится весной солнышко, разогреет снега белые, льды скрипучие, потекут-закапают капли-росаньки с валунов-камней вниз с высоких круч, меж расщелинок-трещинок на землю спускаются, в озерца голубые собираются-копятся. Жарче греет солнышко, топит снег по капельке, набирает вода силу небывалую, невиданную. Не удержать ее горам каменным, знать, расставаться пора пришла. Ревом вода ревет, валуны впереди себя несет-катит, из темницы каменной выбирается, сыра земля под ней прогибается.
А подле самых гор на чужой земле, на китайской стороне, лежат степи широкие, цветами чудными разукрашены. Налетит-напрыгнет на них вода горная, непокорная, от свободы-волюшки слегка пьяная-разудалая, словно плугом землю ту перепашет-перероет, загогочет-рассмеется по дикому, дальше кинется. Бежит от нее зверь без оглядки, человек от беды прячется, в лесах укрывается. И нет силы такой, чтоб остановить поток речной…
Бежит-летит Иртыш-богатырь по степи широкой, лбом могучим землю роет, деревья с корнем выворачивает, кибитки пастушьи опрокидывает, телят, баранов, жеребят малых, неопытных в пучину затягивает, балуется. Нет для него в степи соперников, с кем бы силой-норовом померился, кто б в схватке выстоял, супротив пошел.
Повернет Иртыш-богатырь направо – полгоры срежет-смоет, вниз уронит: повернет налево – поля размоет, табуны конские разгонит. Попадет на пути ручеек-речушенька – под себя подомнет, всю силу ее заберет, словно и не было ее ранее. Только ветер степной, ураганище, мог с ним силой помериться, осушить до дна, воду вычерпать, по степи разность всю до капельки. Но у ветра есть куда силу деть: налетит, надуется, замутит волну, да надолго тут не задержится, уже дальше мчит, вихрем вертится.
А за нрав дурной прозван был Иртыш Землероем-рекой, таким именем, что до веку жить с ним останется, не забудется, не останется. Надоело Иртышу-Землерою по степи кружить-метаться, за табунами конскими гоняться, задор-силищу понапрасну тратить-терять, ветер догонять. Повернул на сторону полуночную-сумрачную, где океан-море разлилось-расплескалось, куда солнышко-невестушка сроду не добиралось.
Только встали на пути Иртыша-богатыря леса темные, еловые, стоят крепко-нерушимо, корнями сплелись, ветвями сцепились, не хотят чужака-озорника пропускать, разор в тайге учинять. Но Иртыш-богатырь кроме силы великой, норова необузданного еще и хитрость про запас имел-держал, сделал вид, будто в другую сторону побежал. Нашел лазейку-прогал меж елями-пеликанами, ринулся в нее ручейком слабым-махоньким, прошмыгнул ужом, напружинился напрягся, да и раскидал дерева в разные стороны, а уж потом со всей мочи-силушки навалился, сквозь тайгу с хрипом ринулся, только ветки-мохнатки затрещали, иглы зеленые в воду посыпались. Не смогла тайга-урман удержать Иртыша-богатыря, расступилась-раздвинулась, на холмы высокие от него ринулась.
А Иртышу-реке лишь того и надобно, побежал-потек по сибирской стороне, елки-сосенки неся на широкой спине, берега волнами ровняя, шалаши охотничьи вниз роняя. Бежит-летит, похохатывает, кудрями голубыми потряхивает, по сторонам озирается, все ближе к морю-океану подбирается.
Вдруг видит-глядит – рядом с ним другой великан бежит. Весь из себя чернехонек, илом-тиной облепленный, в ржавых болотах силу набравший-накопивший, бежит прямехонько никуда не сворачивает.
Вот и встретились богатыри-удальцы под крутым холмом на широком лугу зеленом, уткой-птицей заселенном. Не хотят, не желают один другому дорогу уступить, вперед пропустить.
Закричал Иртыш-Землерой зычным голосом, затрубил, словно зверь раненый:
– Кто таков?! Откудова взялся-явился?! Как посмел по моей земле пробираться-прятаться, разрешения моего не спросив?!
Отвечает ему богатырь-сосед, смоляным чубом поигрывая, глазищами черными подмигивая:
– Я Тобол-Черныш, река темная-непокорная. По своей земле бегу, собираю дань с речек-ериков, ворошу землицу болотную, счет веду родничкам-ключикам. Все они, как есть, должники мои давние-давнешние – речки-ручейки быстротечные.
– Поворачивай прочь, – закричал Иртыш, – не желаю слушать твои россказни. Нет такой силы, чтоб меня сдержала-сдюжила. А не то пожалеешь, что на пути моем встретился.
Засвистел Тобол-Черныш разбойным свистом, поднял со дна ил-грязь, муть болотную, швырнул пригоршню в воды иртышские прозрачные-чистые, ослепил-замутил света лишил.
Вскипел Иртыш-богатырь от такой дерзости-коварства, отскочил было в сторону. А там холм-гора стоит, воды его плечом крутым подпирает, дальше не пускает. Уперся Иртыш в гору, распрямился во весь богатырский рост, кинулся на противника, чтоб того в землю вогнать-задавить, жизни лишить.
Но Тобол-Черныш не настолько прост оказался, в землю сырую вжался да прошел насквозь под Иртышом-драчуном, сзади выскочил, берег вспучил, ударил с кручи: грязь речную мутит-вздымает, в светлые волны бросает, тиной оплетает, вниз прижимает. Разметал Иртыш ил-песок, обхватил обидчика могучей рукой, окрутил белой волной еще чуток, малость самая – и одолеет чернявого, с земли сибирской сгонит.
Выскользнул-вывернулся из крепких рук Тобол, наутек бросился бежать-улепетывать, только пятки сверкают, сзади рябь оставляют. Долго они так бежали, воды свои мешали, пока из сил не выбились, вконец не обессилели. А тут навстречу им Обь-матушка, всем сибирским ревам родная тетушка, тихонечко бежит, никуда не спешит, ровным голосом журчит-мурлыкает, над драчунами хихикает. Спрашивает их тихо-ласково, ладошкой нежной оглаживает, ветерком прохладным обдувает-охаживает:
– Куда бежите-спешите, богатыри удалые, силачи лихие? Али вам места-простору не хватает? Кто на драку смертную толкает? Помиритесь-подружитесь… Чем землю понапрасну рвать, делить, лучше в любви мире жить.
Всплеснулся было Иртыш-Землерой, вскинулся мутной водой Тобол-Черныш, а разобрать-понять не могут, где чья волна, когда общие берега. А тут Обь-матушка их манит-зовет, сыплет под ноги мягкий песок. Забыли богатыри про обиду-беду, кинулись в объятия Оби-реки, чьи берега широки, края-краешка не видать, людского голоса не слыхать. А она им ручки белые подставила-протянула, кудрями тряхнула, и побежали дальше, не торопясь, друг на дружку уже не сердясь. Вода не смола, брань не привет, а коль люблю, то весь белый свет. Любовь всех роднит, мир крепит.
Так Обь-река драчунов в полон взяла, за собой повела, им свое имя дала. Кабы не ее ласка, то другая б вышла сказка. Не было бы мира в Сибири, все под страхом бы жили. Кто б драчунов усмирил, миру дружбе научил? Может, и нам у них поучиться, меж собой навсегда помириться…