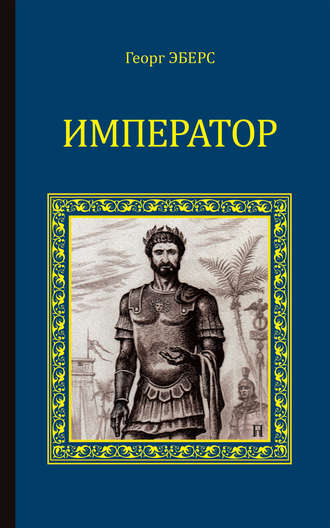
Георг Эберс
Император
Понтий изложил скульптору свои пожелания. Тот слушал внимательно, ни разу не прерывая собеседника, время от времени поглаживая правой рукой необычайно чисто выбритое, гладкое лицо, цветом и формою напоминавшее восковую маску, точно хотел сделать его еще глаже, или поправляя на груди складки тоги, которую любил носить на манер римских сенаторов.
Когда Понтйй в одной из комнат, назначенных для императора, показал скульптору последнюю из статуй, требовавших восстановления, и сказал, что к ней нужно приделать новую руку, то Папий вскричал решительно:
– Это невозможно!
– Слишком поспешное заключение, – возразил архитектор. – Разве ты не знаешь изречения столь правдивого, что его приписывают сразу нескольким мудрецам: хуже провозглашать невозможность какого-либо дела, чем брать на себя выполнение задачи, вероятнее всего превосходящей наши силы.
Папий усмехнулся, поглядел на свои украшенные золотом сандалии и ответил:
– Нам, ваятелям, труднее, чем вам, вступать в титаническую борьбу с невозможным. Я еще не вижу средства, которое мне придало бы мужества приняться за невыполнимую задачу.
– Я назову тебе такое средство, – быстро и решительно сказал Понтий. – С твоей стороны – добрая воля, много помощников и работа днем и ночью, а с нашей – одобрение императора и очень много золота.
После этих слов переговоры приняли быстрое и благоприятное течение, и архитектор должен был утвердить большинство умных и хорошо обдуманных предложений ваятеля.
– Теперь я иду домой, – заявил последний. – Мой помощник сейчас же начнет предварительные работы. Это дело должно быть выполнено за перегородкой, чтобы никто нам не мешал и не останавливал работы своими замечаниями.
Полчаса спустя уже были устроены посреди залы подмостки, на которых должна была стоять Урания. Она была скрыта от взоров высокими деревянными рамами, обтянутыми парусиной, и за этими ширмами Поллукс занялся лепкою модели из воска, между тем как его хозяин отправился домой, чтобы сделать приготовления для работ на следующее утро.
Было уже одиннадцать часов ночи, а присланный из дома префекта ужин для архитектора оставался еще нетронутым. Понтий был голоден, но прежде чем прикоснуться к выглядевшему довольно аппетитно жаркому, огненно-красному лангусту, желто-коричневому паштету и разноцветным плодам, которые раб поставил на мраморный стол, он счел долгом еще раз пройти по анфиладе обновляемых комнат.
Прежде всего надлежало проверить работу невольников, занятых очисткою всех помещений; им предстояло потрудиться еще несколько часов, затем отдохнуть, а с восходом солнца, получив в подкрепление других работников, снова приняться за дело. Нужно было посмотреть, разумно ли руководили ими надсмотрщики, выполняют ли рабы свои обязанности и снабжаются ли всем, что им нужно.
Везде требовалось лучшее освещение; между тем как люди, чистившие пол в зале муз, вытиравшие колонны, громко требовали ламп и факелов, над перегородкой, окружавшей место, отведенное для восстановления Урании, показалась голова молодого человека, и звучный голос закричал:
– Моя муза и ее небесная сфера покровительствуют звездочетам; ночью муза будет чувствовать себя как нельзя лучше, но ведь теперь она еще не богиня. А чтобы вылепить ее, нужен свет, много света. Когда здесь будет свет, сразу утихнет и крик людей там, внизу, который в этом пустом сарае не особенно ласкает слух. А посему добудь света, о человек! – света для бессмертной богини и для смертных, скребущих людей.
Понтий с улыбкой взглянул вверх на художника, произнесшего эту тираду, и сказал:
– Твой крик о помощи, друг мой, вполне обоснован. Но неужели ты серьезно думаешь, что свет обладает способностью умерять шум?
– По крайней мере, там, где его не хватает, то есть в потемках, любой шум кажется вдвое сильнее.
– Это верно; но тут можно привести и другие причины, – возразил архитектор. – Завтра во время одного из перерывов мы еще потолкуем об этом. А теперь я позабочусь о лампах и свечах.
– Тебе многим будет обязана Урания, покровительствующая также и изящным искусствам, – крикнул Поллукс вслед архитектору.
Последний отправился к своему производителю работ, чтобы спросить, передал ли он смотрителю дворца Керавну приказание прийти к нему, Понтию, и доставить в его распоряжение все имеющиеся лампы и смоляные плошки, предназначенные для наружного освещения дворца.
– Я три раза, – отвечал тот с досадой, – был у этого человека, но он каждый раз надувался, как лягушка, и не говорил мне ни слова. Он велел только своей дочери (которую ты должен увидеть, так как она очаровательна) и жалкому черному рабу проводить меня в маленькую комнатку, где я нашел несколько ламп, которые горят здесь.
– Велел ли ты ему прийти ко мне?
– Еще три часа тому назад, и потом во второй раз, когда ты разговаривал с ваятелем Папием.
Архитектор быстро с досадою повернулся спиной к производителю работ, раскрыл план дворца, живо отыскал на нем жилище смотрителя, схватил стоявшую возле лампочку из красной глины и, привыкнув руководиться указаниями плана, направился прямо к квартире ослушника, отделенной от залы муз только несколькими комнатами и длинным коридором.
Незапертая дверь вела в темную переднюю, за которой следовала другая горница и, наконец, третье, хорошо убранное помещение. Входы, которые вели в это последнее, очевидно столовую и жилую комнату смотрителя, были без дверей и закрывались только драпировками, теперь широко откинутыми.
Понтий мог беспрепятственно, не будучи замеченным, смотреть на стол, на котором стояла между блюдом и тарелками бронзовая трехрожковая лампа.
Толстяк повернул свое круглое, сильно раскрасневшееся лицо в сторону архитектора, который в раздраженном состоянии быстро и решительно направился было к нему; однако, не войдя еще во вторую комнату, услыхал тихое, но горькое рыдание.
Плакала молодая, стройная девушка, которая вышла из задних дверей этой комнаты и поставила перед смотрителем маленький поднос с хлебом.
– Да не плачь же, Селена, – сказал смотритель, медленно разламывая хлеб и стараясь успокоить дочь.
– Как мне не плакать! – возразила девушка. – Позволь только завтра купить для тебя кусок мяса; врач запретил тебе есть постоянно хлеб, только хлеб.
– Человек должен быть сыт, а мясо дорого, – сказал толстяк. – У меня девять ртов, которые нужно набить, не считая рабов. Где же мне взять денег, чтобы всем нам питаться дорогим мясом?
– Нам оно не нужно, а тебе необходимо.
– Невозможно, дитя мое. Мясник уже не отпускает в долг, другие кредиторы пристают, а чтобы прожить до конца месяца, у нас остается всего десять драхм.
Девушка побледнела и робко спросила:
– Но, отец, ведь ты сегодня показал мне три золотые монеты, доставшиеся на твою долю из суммы, пожалованной гражданам по случаю прибытия императрицы.
Смотритель в смущении скатал пальцами шарик из хлебного мякиша, затем сказал:
– Я купил на них вот эту фибулу с ониксом, покрытым резьбой; это до смешного дешево, уверяю тебя! Когда приедет император, он должен будет видеть, кто я такой, а когда я умру, то вам дадут вдвое против заплаченной мною цены за это произведение искусства. Уверяю тебя, деньги императрицы я выгодно поместил в этот оникс.
Селена ничего не возразила, но глубоко вздохнула и окинула взглядом ряд бесполезных вещей, которые смотритель накупил и натаскал в дом только потому, что они продавались «дешево», между тем как она с братом и шестью сестрами нуждались в самом необходимом.
– Отец, – снова сказала девушка после короткой паузы, – мне не хотелось бы говорить об этом больше, но я все-таки скажу, хотя бы ты и рассердился на меня. Архитектор, который начальствует над рабочими там, наверху, уже дважды присылал за тобой.
– Молчать! – закричал толстяк и ударил кулаком по столу. – Кто такой этот Понтий и кто я!
– Ты человек благородного македонского происхождения, может быть, даже состоишь в родстве с царской династией Птолемеев и имеешь стул в собрании граждан; но будь снисходителен и добр на этот раз. У архитектора работы по горло, он устал…
– Да ведь и я сегодня не мог посидеть спокойно. Я – Керавн, сын Птолемея, предки которого пришли в Египет с Великим Александром и помогли основать Александрию. Это известно каждому. Наши владения были урезаны, но именно поэтому я настаиваю, чтобы наша благородная кровь всеми признавалась. Понтий велит позвать Керавна!.. Это было бы смешно, если бы не было возмутительно! Ведь кто такой этот человек, кто?! Я уже говорил тебе. Его дед был вольноотпущенником покойного префекта Клавдия Бальбилла, а отец его только по милости римлян пошел в гору и разбогател. Он происходит от рабов, а ты требуешь, чтобы я был его покорным слугой, когда ему будет угодно потребовать меня к себе!
– Но, батюшка, он велит просить к себе не сына Птолемея, а управляющего этим дворцом.
– Пустая игра слов! Молчи! Я ни шагу не сделаю ему навстречу.
Девушка закрыла лицо руками и жалобно и громко начала всхлипывать.
Керавн вздрогнул и закричал вне себя:
– Клянусь великим Сераписом, я не могу больше выносить этого. К чему это хныканье?
Девушка собралась с духом и, приблизившись к раздраженному отцу, сказала прерывающимся от слез голосом:
– Ты должен идти, отец, должен! Я говорила с производителем работ, и он холодно и решительно объявил, что архитектор прислан сюда от имени императора и что, в случае твоего непослушания, он немедленно уволит тебя от должности. А если это случится, тогда… Отец, отец, подумай о слепом Гелиосе и о бедной Веренике! Арсиноя и я уж как-нибудь заработаем себе на хлеб, но малютки, малютки!
При последних словах девушка упала на колени и протянула руки к упрямому отцу.
У того кровь прилила к голове и к глазам, и он опустился на свой стул, точно его хватил удар.
Дочь вскочила с пола и протянула ему кубок с вином, который стоял на столе; но Керавн отстранил его рукой и вскричал, пыхтя и стараясь перевести дух:
– Уволить меня от должности, выгнать меня из этого дворца! Там, вон там, в ящичке из черного дерева, хранится грамота Эвергета[38], которою моему прародителю Филиппу было предоставлено управление этим дворцом в качестве должности, наследственной в его фамилии. Жена этого Филиппа имела честь быть возлюбленной или, по словам других, дочерью царя. В шкатулке лежит документ, написанный красными и черными чернилами на желтом папирусе и снабженный печатью и подписью второго Эвергета[39]. Все властители из дома Лагидов утвердили его, все римские префекты уважали его, а теперь, теперь…
– Ну, отец, – прервала девушка Керавна, ломавшего руки в отчаянии, – ты ведь еще не смещен с должности, и если бы ты только подчинился…
– Подчинился, подчинился! – вскричал Керавн и затряс своими жирными руками над головой, к которой прилила кровь. – Я подчиняюсь! Я не ввергну вас в беду! Я иду. Ради детей моих я позволю помыкать мною и втоптать меня в грязь! Подобно пеликану, я буду питать своих птенцов кровью сердца. Но ты должна знать, что мне стоит подвергнуться этому унижению! Оно невыносимо, и мое сердце лопнет, потому что архитектор обругал меня как своего слугу; он кинул мне вслед, я собственными ушами слышал это, – мне, которому врач и без того грозит смертью от паралича, он кинул вслед подлое пожелание, чтобы я задохся в своем собственном сале! Оставь меня, оставь! Я знаю, что для римлян все возможно. Вот я готов идти. Подай мне мой паллий цвета крокуса, который я ношу в совете, принеси мне золотой обруч для головы. Я украшу себя, как жертвенное животное, и покажу ему…
Архитектор не пропустил ни одного слова из этого разговора, который то возбуждал в нем досаду, то заставлял смеяться, то умилял его. Деятельной, энергичной натуре Понтия была противна всякая лень и праздность. Поэтому медлительность и равнодушие толстяка при таких обстоятельствах, которые должны были бы понудить его и каждого действовать быстро и с напряжением всех сил, заставили архитектора произнести слова, о которых он теперь сожалел. Глупая нищенская спесь смотрителя возмущала его, да и кому приятно слышать о пятне, лежащем на его происхождении? Но слезы дочери такого жалкого отца тронули его сердце. Ему было жаль олуха, которого он одним щелчком мог ввергнуть в бездну несчастья и которого его слова уязвили гораздо глубже, чем сам он был уязвлен услышанными сейчас словами Керавна. Понтий охотно подчинился движению своей благородной натуры и решил пощадить несчастного.
Он сильно постучал суставом пальца о внутренний косяк двери передней, затем громко кашлянул и, войдя в жилую горницу, сказал смотрителю с глубоким поклоном:
– Я пришел, благородный Керавн, отдать тебе визит. Извини, что я являюсь в такой поздний час, но ты и представить себе не можешь, до какой степени я был занят с тех пор, как мы расстались.
Керавн взглянул на неожиданного гостя сперва с испугом, потом с изумлением. Наконец он подошел к Понтию, протянул к нему обе руки, точно избавившись от кошмара, и по его лицу разлилось такое теплое сияние искреннего, сердечного удовольствия, что Понтий удивился, каким образом он с первого раза совершенно не обратил внимания на благообразие лица этого толстого чудака.
– Присядь к нашему скромному столу, – просил Керавн, – Селена, позови раба. Может быть, у нас найдется фазан, жареная курочка. или еще что-нибудь; правда, уже поздно…
– Весьма благодарен, – возразил, улыбаясь, архитектор. – Ужин ждет меня в зале муз, и мне нужно вернуться к своим людям. Я был бы тебе очень благодарен, если бы ты соблаговолил пойти со мной. Нам нужно потолковать об освещении комнат, а говорить удобнее всего за сочным жарким и за глотком вина.
– Весь к твоим услугам, – сказал Керавн, вежливо кланяясь.
– Я пойду вперед, – сказал архитектор. – Но прежде всего, будь так добр, передай все, какие только у тебя есть, свечи, лампы, смоляные горелки рабам, которые через несколько минут будут у твоей двери ожидать приказаний.
Когда Понтий удалился. Селена вздохнула с облегчением:
– Уф, как я испугалась! Пойду теперь искать лампы. Как ужасно все это могло кончиться!
– Хорошо, что дело приняло такой оборот! – пробормотал Керавн. – Архитектор все-таки довольно вежливый человек для своего происхождения.
V
Понтий вошел в квартиру смотрителя с нахмуренным лбом, а теперь возвращался оттуда к своим людям легким шагом и с улыбкой на плотных губах. Производителю работ, который встретил его вопросительным взглядом, он сказал:
– Господин смотритель был не без основания несколько обижен; но теперь мы с ним друзья, и он сделает все возможное, чтобы наладить освещение.
В зале муз он остановился у перегородки, за которой работал Поллукс, и крикнул ему:
– Друг ваятель, послушай, давно пора ужинать!
– Правда, – отвечал Поллукс, – иначе это будет уже не ужин, а завтрак.
– Ну так отложи на четверть часа инструмент и помоги мне вместе со смотрителем этого дома уничтожить присланные мне кушанья.
– Тебе не нужна ничья помощь, если тут будет Керавн. Перед ним каждое кушанье тает, как лед от солнца.
– Так спаси его от переполнения желудка.
– Невозможно, потому что я только что сейчас безжалостно нападал на блюдо, наполненное капустой с колбасками. Это божественное кушанье состряпала моя мать, а мой отец принес его своему старшему сыну.
– Капуста с колбасками, – повторил архитектор, и по голосу было слышно, что его голодный желудок охотно бы познакомился с этим блюдом.
– Забирайся сюда, – тотчас же вскричал Поллукс, – и будь моим гостем. С капустой случилось то же, что предстоит этому дворцу: ее разогрели.
– Разогретая капуста вкуснее только что сваренной; но тот огонь, который необходим, чтобы вновь сделать это здание подходящим для жилья, должен гореть особенно жарко, и нам необходимо энергично его раздувать. А к тому же лучшие и незаменимые вещи здесь исчезли.
– Как колбаски, которые я уже выудил из капусты, – засмеялся ваятель. – Я так-таки не могу пригласить тебя в гости, ибо, назвав это блюдо «капустой с колбасками», я бы польстил ему. Я поступил с ним как с шахтою: после того как колбасные залежи оказались исчерпанными, остается почти что одна основная порода, и лишь два-три жалких осколка напоминают о былом богатстве… В следующий раз мать состряпает это блюдо для тебя; она готовит его с неподражаемым искусством.
– Хорошая мысль, но сегодня ты мой гость.
– Я совершенно сыт.
– В таком случае приправь наш ужин своей веселостью.
– Извини меня, господин, и оставь меня лучше здесь, за перегородкой. Во-первых, я в хорошем настроении, я в ударе и чувствую, что в эту ночь кое-что выйдет из моей работы…
– Ну, так до завтра.
– Дослушай меня до конца.
– Ну?
– Притом ты оказал бы другому гостю плохую услугу, если бы пригласил меня.
– Так ты знаешь смотрителя?
– С самых детских лет. Я ведь сын здешнего привратника.
– Ба! Значит, это твой веселый домик с плющом, птицами и бойкой старушкой?
– Это моя родительница, и как только ее придворный мясник зарежет свинью, она изготовит для нас с тобой несравненное капустное лакомство.
– Приятная перспектива.
– Но вот с топотом приближается гиппопотам, или, при ближайшем рассмотрении, смотритель Керавн.
– Ты с ним не в ладах?
– Не я с ним, а он со мной, – возразил скульптор. – Это – глупая история! За будущей нашей пирушкой не спрашивай меня об этой семье, если хочешь видеть перед собой веселого сотрапезника. Да и Керавну лучше не говори, что я здесь: это не поведет ни к чему хорошему.
– Как тебе угодно; да вот несут и наши лампы!
– Их достаточно для того, чтобы осветить преисподнюю! – вскричал Поллукс, сделав рукою знак приветствия архитектору, и исчез за перегородкой, чтобы снова всецело погрузиться в работу над своей Уранией.
Полночь давно уже прошла, и рабы, принявшись с большим рвением за дело, закончили работу в зале муз. Теперь им разрешалось отдохнуть несколько часов на соломе, разостланной на противоположном крыле дворца. Архитектор тоже желал воспользоваться этим временем, чтобы подкрепиться перед тяготами следующего дня. Но этому намерению помешало появление грузной фигуры Керавна.
Этого человека, питавшегося из экономии одним хлебом, Понтий пригласил для того, чтобы накормить мясом, и Керавн в этом отношении вполне оправдал возложенные на него надежды. Но когда последнее блюдо было снято со стола, смотритель счел долгом оказать хозяину честь присутствием своей знатной особы. Хорошее вино префекта развязало язык этому обыкновенно весьма необщительному собеседнику. Он заговорил сперва о разных застоях в крови, которые мучили его и грозили опасностью его жизни. И когда Понтий, желая отвлечь его от этого предмета, неосторожно упомянул о городском совете, то Керавн дал волю своему красноречию и, осушая стакан за стаканом, старался изложить основания, побуждавшие его и его друзей употреблять все усилия для того, чтобы лишить членов большой еврейской общины в городе прав гражданства и, если возможно, изгнать их из Александрии. В своем увлечении он совершенно забыл о присутствии и хорошо известном ему происхождении архитектора и объявил, что необходимо также исключить из числа граждан всех потомков вольноотпущенников.
По пылавшим щекам и глазам смотрителя Понтий видел, что говорит в нем вино, и не возразил ни слова, но, решив не убавлять из-за него времени своего отдыха, в котором так нуждался, он встал из-за стола и, извинившись, отправился в комнату, где для него была приготовлена постель.
Раздевшись, он приказал рабу посмотреть, что делает Керавн, и скоро получил успокоительный ответ, что смотритель заснул крепким сном и храпит.
– Я подложил ему под голову подушку, – закончил раб свое донесение, – потому что иначе с этим дородным господином могло бы случиться что-нибудь нехорошее из-за его полноты.
Любовь – это растение, расцветающее для многих, которые его и не сеяли, а для иного, кто ее не растил и не лелеял, она становится тенистым деревом.
Как мало сделал смотритель Керавн, чтобы завоевать сердце своей дочери, и как много совершил такого, что неминуемо должно было замутить и иссушить течение ее юной жизни! И однако Селена, чье девятнадцатилетнее тело требовало отдыха и больше радовалось освободительному сну, чем новому утру, сулившему новые заботы и тяготы, все еще сидела перед трехконечным светильником, бодрствовала и, по мере того как становилось все позднее, все больше беспокоилась из-за долгой отлучки отца.
Неделю тому назад толстяк вдруг (хотя и всего на несколько минут) лишился чувств, и врач сказал ей, что, несмотря на пышущий здоровьем вид, пациент должен строго держаться его предписаний и избегать какого бы то ни было излишества. Любая неосторожность способна быстро и неожиданно пресечь нить его жизни.
После ухода отца, принявшего приглашение архитектора, Селена принялась чинить платье младшего братца и сестриц. Правда, сестра Арсиноя, которая была всего на два года моложе и обладала столь же проворными пальцами, как и она сама, могла бы помочь ей; но Арсиноя рано удалилась на покой и теперь спала подле детей, которых нельзя было по ночам оставлять без присмотра.
Рабыня, служившая еще при деде и бабке Селены, должна была ей помогать; но полуслепая старуха негритянка при свече видела еще хуже, чем днем, и после нескольких стежков уже больше ничего не различала.
Селена отослала ее спать и одна уселась за работу.
В первый час она шила, не поднимая глаз, и раздумывала о том, как бы с немногими оставшимися в ее распоряжении драхмами[40] с честью довести свой бюджет до конца месяца. Ею все больше и больше овладевала усталость, прекрасная головка опускалась на грудь от изнеможения, но она продолжала сидеть за работой. Ей необходимо было дождаться отца, чтобы напомнить ему о приготовленном для него врачом питье, иначе он мог забыть об этом.
К концу второго часа дремота одолела ее, и ей казалось, будто стул, на котором она сидела, сломался, и она сперва тихо, а потом все быстрее и быстрее опускается в глубокую бездну, разверзнувшуюся под нею.
В поисках помощи она во сне подняла глаза, но не увидала ничего, кроме отцовского лица, равнодушно смотревшего в сторону. В дальнейшем течении сна она вновь и вновь звала его, но он, казалось, долгое время не слышал. Наконец он посмотрел на нее сверху и узнав улыбнулся ей, но, вместо того чтобы оказать помощь, набрал камней и земли и стал бить по пальцам, которыми она цеплялась за кусты лесной малины и за корни, торчавшие из скважины скалы. Она просила его бросить эту игру, умоляла, взывала о пощаде, но на склонившемся над нею лице не дрогнул ни один мускул. Оно казалось застывшим в ничего не говорящей улыбке, а родительская любовь, видимо, умерла. Безжалостно бросал он в нее камень за камнем, ком за комом до тех пор, пока ее руки не принуждены были выпустить последнюю хрупкую зацепку, и Селена провалилась в смертоносную бездну.
От собственного громкого крика она пробудилась, но в то мгновение, когда она переходила от сна к действительности, ей почудилась на один лишь миг, но зато ясно и отчетливо, сквозь быстро редеющий туман испещренная белыми и желтыми звездочками камелий, фиолетовыми колокольчиками и красными маками высокая трава лужайки, на которую она упала, как на мягкую постель; за травою же синело блестящее озеро, а позади него возвышались красиво округленные горы с красноватыми утесами, зелеными рощами и полянками, сверкавшими под лучами яркого солнца. Ясное небо, по которому тихо двигались тонкие дымки серебристых облачков, возвышалось куполом над этой милой мимолетной картиной, которую она не могла сравнить ни с чем когда-либо виденным на родине.
Селена проспала недолго, но когда она, вполне очнувшись, протерла глаза, ей показалось, будто сновидение длилось несколько часов. Один фитиль ее трехконечного светильника погас и начадил, а другой уже догорал. Она быстро погасила его щипцами, висевшими на цепочке, затем подлила масла на последний еще горевший фитиль и осветила ею отцовскую спальню.
Он еще не вернулся. Ею овладел сильный страх. Не лишился ли он чувств от вина Понтия? Или же с ним сделалось головокружение на пути домой? Мысленно она видела, как он, грузный, не в силах встать, может быть, даже умирает, лежа на полу.
Ей не оставалось выбора. Она должна была идти в залу муз и посмотреть, что приключилось с отцом, поднять его, призвать людей на помощь или же, если он еще за ужином, попытаться заманить его домой под каким-нибудь предлогом. Тут все было поставлено на карту: жизнь отца, а с нею пища и кров для восьми беспомощных существ.
Декабрьская ночь была сурова. Пронзительный холодный ветер проникал сквозь плохо закрытое отверстие в потолке комнаты; поэтому Селена, прежде чем отправиться в путь, повязала голову платком и набросила на плечи широкую накидку, которую носила покойная мать.
В длинном коридоре, лежавшем между квартирой смотрителя и передней частью дворца, она прикрывала левой рукой маленький светильник, который несла в правой, чтобы он не погас. Пламя, колеблемое сквозным ветром, и ее собственная фигура отражались то здесь, то там на полированной поверхности темного мрамора.
Грубые сандалии, прикрепленные шнурками к ее ногам, будили в пустых залах громкое эхо, как только она вступила на каменный пол, и встревоженной душой Селены овладевал страх. Ее пальцы, державшие светильник, дрожали, а сердце громко билось, когда она, затаив дыхание, проходила через круглую залу со сводом, где по преданию Птолемей Эвергет Пузатый[41] много лет тому назад умертвил своего собственного сына и где каждое громкое дыхание пробуждало отголоски.
Но даже и в этой зале она не забывала смотреть направо и налево и искать глазами отца. Она с облегчением перевела дух, когда заметила, как луч света, который проникал сквозь пазы, образовавшиеся в боковой двери залы муз, преломляясь, отражался на каменном полу и на одной из стен последней комнаты, лежавшей на ее пути.
Теперь она вступила в обширную залу, которая была слабо освещена лампами, поставленными за перегородкой скульптора, и множеством догоравших свечей. Они стояли в самом дальнем углу залы на столе, составленном из обрубков дерева и досок, за которым давно уже заснул ее отец.
Густые звуки, выходившие из широкой груди спящего, странно раздававшиеся среди обширной, пустой залы, пугали Селену. Еще более внушали ей страх темные, длинные тени колонн, стелившиеся на ее пути подобно преградам.
Она остановилась посреди залы, прислушиваясь, и в этом странном гуле скоро узнала хорошо знакомый ей храп.
Она немедленно подбежала к спящему; она толкала и трясла его, звала, брызгала ему на лоб холодной водой и называла его самыми нежными именами, которыми ее сестра Арсиноя обычно подлащивалась к отцу. Так как, несмотря на все это, он даже не шелохнулся, она поднесла свой светильник вплотную к его лицу. Ей показалось теперь, что какая-то синеватая тень разливается по его вздувшейся физиономии; и она вновь разразилась тем горьким и скорбным плачем, который за несколько часов перед тем тронул сердце Понтия.
Между тем за перегородкой, окружавшей ваятеля и его возникавшее произведение, послышался шум. Поллукс долго работал с удовольствием и рвением, но наконец его начал беспокоить храп смотрителя. Тело его музы уже получило определенные формы, но за голову он мог приняться только при дневном свете.
Художник опустил руки; с той минуты, как он перестал отдаваться своей работе всем сердцем и всей мыслью, он почувствовал себя утомленным и увидал, что без натуры он не сладит с драпировкой своей Урании. Поэтому он придвинул стул к большому, наполненному гипсом ларю, чтобы, прислонившись к нему, несколько отдохнуть.
Но сон бежал от глаз художника, сильно возбужденного спешной ночной работой; и как только Селена отворила дверь, он выпрямился и посмотрел сквозь отверстие между рамами, окружавшими место, где он работал.
Заметив высокую закутанную фигуру, в руке которой трепетал светильник, и увидев, что она пересекла обширную залу и вдруг остановилась, он испугался; но это не помешало ему следить за каждым шагом ночного привидения больше с любопытством, чем со страхом. Когда же Селена стала осматриваться и свет от светильника упал на ее лицо, Поллукс узнал дочь смотрителя и сейчас же понял, зачем она пришла.
Ее напрасные попытки разбудить отца, конечно, заключали в себе что-то трогательное, но в то же время и что-то крайне забавное. Поэтому Поллукс почувствовал сильное желание засмеяться. Но как только Селена разразилась горьким плачем, он быстро раздвинул две рамы своих ширм, приблизился к ней и сперва тихо, а потом все громче несколько раз произнес ее имя. Когда она повернула к нему голову, он ласково попросил ее не пугаться, потому что он не дух, а лишь скромнейший смертный и, как сама она видит, всего-навсего беспутный, но уже шествующий по пути к исправлению сын привратника Эвфориона.
– Это ты, Поллукс? – спросила девушка с изумлением.
– Я сам. Но что с тобой? Не могу ли я помочь тебе?
– Мой бедный отец… он не шевелится… он окоченел… а его лицо… о вечные боги! – сокрушалась Селена.
– Кто храпит, тот не умер, – возразил скульптор.
– Но врач сказал…
– Да он вовсе не болен! Понтий только угостил его более крепким вином, чем то, к которому он привык. Оставь его в покое. У него подушка под головой, и он спит сладким сном младенца. Когда он уж чересчур громко затрубил, я принялся свистеть, словно канарейка: этим иногда удается унять храпуна. Но скорее можно заставить плясать вон тех каменных муз, чем разбудить его.
– Только бы перенести его на постель!
– Если у тебя есть четверка лошадей под рукою…
– Ты все такой же нехороший, как был.
– Несколько лучше, Селена. Тебе только нужно снова привыкнуть к моей манере говорить. На этот раз я хотел лишь сказать, что нам обоим не под силу унести его.
– Но что же мне делать? Врач сказал…
– Оставь меня в покое со своим врачом! Я знаю болезнь, которой страдает твой отец. Она завтра пройдет. У него поболит голова, может быть, до вечера. Дай ему только выспаться…
– Здесь так холодно.
– Так возьми мой плащ и прикрой его.
– Но тогда ты озябнешь.
– Я к этому привык. С которых же это пор Керавн начал возиться с врачами?
Селена рассказала, какой припадок недавно случился с отцом и до какой степени основательны ее опасения, Ваятель слушал ее молча и затем проговорил совсем другим тоном:
– Это глубоко огорчает меня. Будем смачивать ему лоб холодной водой. Пока не вернутся рабы, я буду через каждую четверть часа менять компрессы. Вот стоит сосуд, вот и полотенце. Отлично! Все готово! Может быть, он очнется от этого; а если нет, то люди перенесут его к вам.







