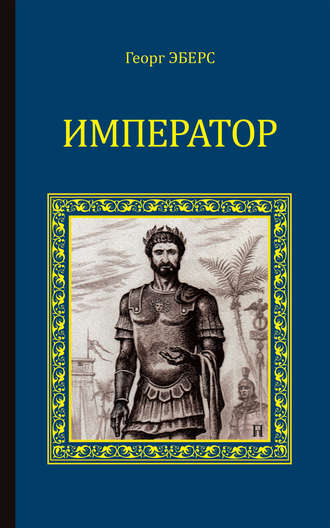
Георг Эберс
Император
X
В то время как в квартире смотрителя царила забота, а печаль, опасение и разочарование, подобно тяжелым тучам, омрачали ее обитателей, в зале муз шло веселое пиршество и раздавался смех.
Юлия, жена префекта, прислала Понтию на Лохиаду тщательно приготовленный ужин, достаточный для шести голодных желудков, и раб архитектора, принявший этот ужин, распаковавший его и поставивший блюдо за блюдом на скромнейший из столов, поспешил к своему господину, чтобы показать ему все эти чудеса кулинарного искусства.
При виде такого чрезмерного изобилия благ Понтий покачал головой и пробормотал про себя:
– Титиан принимает меня за крокодила или, вернее, за двух крокодилов.
Затем он отправился к загородке ваятеля, где застал Папия, и попросил обоих разделить с ним присланные кушанья. Кроме того, он пригласил двух живописцев и превосходнейшего из всех мастеров мозаики, которые трудились целый день над восстановлением старых, полинявших изображений на потолках и полах. За хорошим вином и веселым разговором блюда, кувшины и миски скоро были опустошены.
Кто в течение многих часов шевелит мозгами или руками или же одновременно и тем и другим, тот не может не проголодаться; а здесь все художники, приглашенные Понтием на Лохиаду, несколько дней подряд работали до изнеможения.
Каждый старался превзойти себя прежде всего, конечно, для того, чтобы угодить высокочтимому Понтию и себе самому, но также и затем, чтобы представить императору образчик своего искусства и показать ему, как работают в Александрии.
Один из живописцев предложил устроить настоящую попойку и председателем пиршества избрать ваятеля Папия, который столько же был известен за превосходного застольного оратора, сколько и в качестве художника.
Но хозяин Поллукса уверял, что он не может принять этой чести, так как она принадлежит достойнейшему из них – человеку, который за несколько дней перед этим вступил в пустой дворец и там, словно второй Девкалион[68], вызвал к жизни таких благородных художников, здесь собравшихся, и многие сотни работников, и притом создал их не из пластического камня, а из ничего. Добавив затем, что сам он умеет лучше владеть молотком и резцом, чем языком, и не научился искусству говорить застольные речи, Папий высказал пожелание, чтобы пирушкой руководил Понтий.
Но ему не было суждено довести свою рацею до конца, потому что в залу муз поспешно вошел дворцовый привратник Эвфорион, отец молодого Поллукса, с письмом в руке, которое он подал архитектору.
– К безотлагательному прочтению, – сказал он при этом, кланяясь художнику с театральным достоинством. – Ликтор префекта вручил мне это послание, которому (если бы все шло согласно моим желаниям) суждено принести тебе счастье… Замолкните, паршивки, не то убью!
Эта угроза, по тону плохо гармонировавшая с обращением, рассчитанным на слух великих художников, относилась к трем четвероногим грациям его жены, которые, против его воли, последовали за ним и с лаем прыгали теперь вокруг стола, где стояли скудные остатки съеденного ужина.
Понтий любил этих собачонок и, раскрывая письмо префекта, сказал:
– Приглашаю этих трех малюток в гости на остатки нашего ужина. Дай им то, что им пригодно, Эвфорион, а что покажется тебе более приличным для твоего собственного желудка, то кушай на здоровье.
Пока архитектор, сперва бегло, а потом более внимательно, читал принесенное послание, певец положил на тарелку несколько хороших кусочков для любимиц своей жены и наконец приблизил к своему орлиному носу блюдо с последним оставшимся паштетом.
– Для людей или для собак? – спросил он своего сына, указывая пальцем на паштет.
– Для богов, – отвечал Поллукс. – Отнеси его матушке. Она с удовольствием хоть раз вкусит амброзии[69].
– Желаю весело провести вечер, – вскричал певец, поклонился осушавшим кубки художникам и вышел с паштетом и со своими тремя собачонками из залы. Пока он шагал по палате своими длинными ногами, Папий вновь поднял кубок и начал было:
– Итак, наш Девкалион, наш Сверхдевкалион!..
– Извини, – сказал Понтий, – если я перебью твою речь, начало которой обещало так много. Это письмо содержит в себе важные известия. На сегодня попойка кончена. Отложим же наш симпосион[70] и твою застольную речь.
– Это не застольная речь, ибо, если скромный человек…
Но тут Понтий вторично перебил его:
– Титиан пишет мне, что намерен приехать сегодня вечером на Лохиаду. Он может явиться каждую минуту, и притом не один, а с моим собратом по искусству, Клавдием Венатором из Рима. Он будет помогать мне своими советами.
– Я еще никогда не слыхал этого имени, – сказал Папий, имевший обыкновение интересоваться и личностью и произведениями других художников.
– Это удивляет меня, – возразил Понтий, складывая двойную дощечку, содержащую в себе уведомление, что император приедет сегодня.
– Понимает он что-нибудь?
– Больше, чем все мы, – отвечал Понтий. – Это знаменитость.
– Превосходно! – воскликнул Поллукс. – Я охотно смотрю на великих людей. Когда они глядят тебе в глаза, то всегда кажется, будто кое-что из их богатства переливается в тебя; тогда невольно расправляешь мышцы и думаешь: а хорошо бы когда-нибудь дорасти хотя бы до подбородка такого человека.
– Только не предавайся болезненному честолюбию, – прервал Папий своего ученика тоном увещания. – Не тот достигает величия, кто становится на цыпочки, а тот, кто прилежно выполняет свой долг.
– Он-то свой долг выполняет добросовестно… да и все мы тоже, – возразил архитектор и положил руку на плечо Поллукса. – Завтра с восходом солнца пусть каждый будет на своем посту. Ради моего коллеги всем вам надлежит явиться вовремя.
Художники встали с выражением благодарности и сожаления.
– Продолжение этого вечера еще за тобой, – крикнул один из живописцев, а Палий, прощаясь с Понтием, сказал:
– Когда мы соберемся снова, я покажу тебе, что разумею под застольной речью. Она, вероятно, будет посвящена твоему римскому гостю.
– Мне любопытно знать, что скажет он о нашей Урании, Поллукс хорошо выполнил свою часть работы, а я недавно уделил для нее один часок, который принесет ей пользу. Чем проще наш материал, тем больше я буду радоваться, если эта статуя понравится императору: ведь он сам немножко ваятель.
– Что, если бы это услыхал Адриан? – вмешался один из живописцев. – Он желает прослыть гениальным, первым художником нашего времени. Говорят, что он велел лишить жизни великого архитектора Аполлодора[71], который соорудил такие великолепные постройки для Траяна. А за что? За то, что этот превосходный человек поступил однажды с царственным пачкуном как с плохим архитектором и не захотел одобрить его план храма Венеры.
– Сплетни! – возразил Понтий на это обвинение. – Аполлодор умер в темнице; но его заключение туда имеет мало связи с его приговором относительно работ императора. Извините меня, господа, я должен еще раз посмотреть мои чертежи и сметы.
Архитектор удалился, но Поллукс продолжал начатый разговор.
– Я только не понимаю, – сказал он, – каким образом человек, который одновременно занимается столькими искусствами, как Адриан, и при этом заботится о государстве и управлении, сверх того страстный охотник и вдобавок предается разному ученому вздору, может снова собрать свои пять чувств, разлетевшихся в разные стороны, когда ему захочется употребить их исключительно на одно какое-нибудь искусство. В его голове должно образоваться нечто вроде только что уничтоженного нами салата, в котором Папий открыл три сорта рыбы, белое и черное мясо, устриц и еще пять других составных частей.
– И кто же станет отрицать, – прервал его Папий, – что если талант – отец, а усидчивость – мать всякой художественной деятельности, то упражнение должно быть воспитателем художника. С тех пор как Адриан занимается ваянием и живописью, занятие этими искусствами вошло в моду везде, и здесь тоже. В числе богатых молодых людей, посещающих мою мастерскую, есть весьма даровитые, но ни один из них не выполнил ничего настоящего, потому что гимнасий[72], бани, бои перепелов, пиры и еще невесть что отнимают у них слишком много времени, так что из упражнений в искусстве ничего не выходит.
– Да, – вставил один из живописцев, – без принуждения, без муки ученичества никто не дойдет до свободного и радостного творчества. Но в риторской школе, на охоте и на войне нельзя брать уроки рисования. Только тогда, когда ученик научится сидеть смирно и корпеть над работой по шести часов сряду, я начинаю верить, что из него выйдет что-нибудь порядочное. Не видал ли кто из вас какого-либо из произведений императора?
– Я видел, – сказал мозаист. – Несколько лет тому назад мне была прислана, по приказанию Адриана, его картина. Я должен был снять с нее мозаичную копию. Она изображала плоды – дыни, тыквы, яблоки и зеленые листья. Рисунок был посредственным; яркость красок переходила за пределы дозволенного, но композиция мне понравилась своей округленностью и полнотою. Большие плоды под пышными, сочными листьями имели в себе нечто столь чудовищное, как будто выросли в садах богини изобилия; но в целом все-таки чувствуется кое-что… При выполнении копии я смягчил несколько цвета. Вы можете видеть эту копию у меня. Она висит в зале моих рисовальщиков. Богатей Неальк велел в своей мастерской сделать по ее рисунку ковер, которым Понтий приказал обить стену рабочей комнаты вон там; а я ради нее истратился на красивую раму.
– Скажи лучше – ради ее автора!
– Или еще лучше – ввиду его возможного посещения твоей мастерской, – засмеялся самый разговорчивый из живописцев. – Не зайдет ли император и к нам? Я желал бы продать ему мою «Встречу Александра в храме Юпитера Аммона»[73].
– Надеюсь, что при назначении цены ты поступишь с ним по-товарищески, – с усмешкой заметил его собрат.
– Я последую твоему примеру, – возразил первый.
– При этом ты не прогадаешь, – воскликнул Папий, – ибо Евсторгий знает цену своим творениям. Впрочем, если Адриан будет делать заказы всем художникам, в искусстве которых он маракует немного, то ему понадобится особый флот для отправления в Рим своих покупок, – сказал Папий.
– Говорят, – засмеялся Евсторгий, – что он среди поэтов – живописец, среди живописцев – ваятель, среди музыкантов – астроном, среди художников – софист, то есть что он с некоторым успехом занимается всеми искусствами и науками как побочным делом.
В это время Понтий вернулся к художникам, окружившим стол, на котором стоял большой кувшин с разбавленным вином. Он услыхал последние слова живописца и, прервав его, заговорил:
– Но, мой друг, ты забываешь, что между правителями, и не только нынешними, он – правитель в полнейшем значении этого слова. Конечно, каждый из вас превосходит его в своем искусстве, но как велик человек, который не с праздным любопытством, а серьезно и умело приближается ко всему, что только мог объять ум и что только могло создать творческое воображение художника! Я знаю его, и мне известно, что oн любит даровитых мастеров и старается поощрять их с царскою щедростью. Но у него есть уши повсюду, и он быстро становится неумолимым врагом каждого, кто раздражает его щепетильность. Поэтому сдерживайте теперь ваши вольные александрийские языки и помните, что мой коллега, которого я ожидаю из Рима, очень близко стоит к Адриану. Он его сверстник, даже похож на него, и не утаивает от императора ничего, что только слышит о нем. Итак, оставьте болтовню об Адриане и не судите дилетанта в пурпурной мантии строже, чем ваших богатых учеников, для произведений которых у вас с такой легкостью появляются на губах слова: «премило», «удивительно», «прелестно», «прехорошенькая вещица». Не примите моего предостережения в дурном смысле. Вы понимаете, что я хочу сказать?
Последние слова были произнесены тем тоном мужественной искренности, который был свойствен густому голосу Понтия и внушал полное доверие даже людям несговорчивым.
Произошел обмен прощальными приветствиями и рукопожатиями, и художники оставили залу, а раб вынес сосуд с вином и вытер стол, на котором Понтий начал раскладывать свои планы и сметы.
Но он недолго оставался один, потому что скоро возле него очутился Поллукс и сказал с комическим пафосом, приложив палец к носу:
– Я выскочил из своей клетки, чтобы высказать тебе кое-что…
– Что такое?
– Близится час, когда я надеюсь воздать тебе за все благодеяния, в разное время оказанные тобой моему желудку. Мать моя может завтра предложить тебе капусту с колбасками. Раньше никак нельзя было, ибо единственный в своем роде колбасник, царь своего цеха, лишь раз в неделю готовит свои сочные цилиндрики. Несколько часов тому назад он закончил колбаски, а мать к завтраку разогреет благородное кушанье, заготовленное с нынешнего вечера. Ибо – истинно говорю тебе – лишь в подогретом виде оно становится идеалом этого рода произведений. Последующими за сим сластями мы опять-таки будем обязаны искусству моей матери, а веселяще-утомительной частью (то есть разгоняющим мрачные заботы вином) – моей сестре.
– Я приду, – отвечал Понтий, – если наш гость оставит мне свободный часок, и заранее радуюсь вкусному блюду. Но, развеселый певун, что ты знаешь о мрачных заботах?
– Да ты говоришь гексаметром, – возразил Поллукс, – а я тоже от отца (который в часы, свободные от охранения ворот, ноет и сочиняет) унаследовал досадную необходимость говорить ритмически, как только что-нибудь заденет меня за живое.
– Сегодня ты был молчаливее, чем обыкновенно, и все же ты казался мне невероятно довольным. Не только твое лицо, но и весь ты, долговязый, с головы до пят выглядел как сосуд радости.
– Да ведь и свет прекрасен! – воскликнул Поллукс, сладко потянулся и, сложив руки над головой, воздел их к небу.
– Не произошло ли что-нибудь особенно для тебя приятное?
– Этого и не надо, так как я живу здесь в прекраснейшем обществе, работа идет на лад и… зачем мне скрывать… нынче произошло и некое событие: я встретил старую знакомую.
– Старую?
– Я знаю ее уже шестнадцать лет; но когда я видел ее в первый раз, она еще лежала в пеленках.
– Итак, этой почтенной приятельнице целых шестнадцать лет, самое большее – семнадцать. Благосклонен ли Эрот к счастливцу, или счастье только шествует в его свите?
Покуда архитектор задумчиво произносил этот вопрос, Поллукс внимательно прислушивался и сказал:
– Что происходит там во дворе в такой поздний час? Слышишь ли ты густой лай большой собаки среди звонкого щебетания трех граций?
– Это Титиан везет римского архитектора, – сказал Понтий в волнении. – Я пойду к нему навстречу. И еще раз говорю, мой друг, у тебя тоже александрийский язычок. Остерегайся шутить в присутствии этого римлянина над художественными произведениями императора. Повторяю тебе: человек, который едет теперь сюда, превосходит всех нас, и для меня нет ничего противнее, когда маленькие люди принимают важный вид потому, что им кажется, будто они нашли у великого человека больное местечко, которое на их крошечном теле случайно оказывается здоровым. Художник, которого я жду, велик, но император Адриан гораздо выше его. Иди за перегородку, а завтра я буду твоим гостем.
XI
Понтий накинул паллий поверх хитона, который он обыкновенно носил во время работы, и пошел навстречу повелителю мира, о прибытии коего известило его письмо префекта. Он был совершенно спокоен, если его сердце билось сильнее, чем обыкновенно, то только потому, что он радовался новой встрече с удивительным человеком, личность которого производила на него глубокое впечатление.
В сознании, что он сделал все, что только было в его силах, и не заслужил никакого порицания, он вышел через передние комнаты и главную входную дверь на двор, на котором множество рабов при свете факелов укладывали новые мраморные плиты.
Ни эти люди, ни их надсмотрщики не обратили внимания на лай собак и на громкий разговор, послышавшийся возле домика привратника, так как работникам и их руководителям было обещано особое вознаграждение, если они, к удовольствию архитектора, вовремя окончат определенную часть новой каменной настилки. Никто из них не подозревал, кому принадлежал зычный голос, разносившийся от ворот по всему двору.
Противные ветры задержали императора на пути, и его корабль вошел в гавань только около полуночи.
Он приветствовал ожидавшего его Титиана как доброго старого друга, с сердечной теплотой, и тотчас же сел с ним и с Антиноем в колесницу префекта. Его секретарь Флегон, врач Гермоген и раб Мастор должны были следовать за ним в другом экипаже вместе с багажом, в состав которого входили и походные кровати.
Портовые сторожа вздумали было сердито преградить дорогу колеснице, во весь опор мчавшейся по темной дороге, и огромному догу, громким лаем нарушавшему ночную тишину, но, узнав Титиана, они почтительно посторонились.
Послушные приказанию префекта, привратник и его жена не ложились спать, и как только певец услыхал стук приближавшейся колесницы, в которой ёхал император, он поспешил к дворцовым воротам и отворил их.
Развороченная мостовая и люди, занятые восстановлением ее, заставили Титиана и его спутников выйти из экипажа и пройти мимо самого домика Эвфориона.
Адриан, от глаз которого не могло укрыться ничего, казавшегося ему достойным внимания, остановился перед широко отворенной дверью жилища привратника и заглянул в приветливую комнату, украшенную цветами, птицами и статуей Аполлона. На пороге стояла Дорида, в новом платье, ожидая префекта. Титиан от души приветствовал ее; он привык обмениваться с нею несколькими веселыми и умными словами каждый раз, как посещал Лохиадский дворец.
Собачонки уже заползли в свои корзинки, но, почуяв чужую собаку, с громким лаем кинулись мимо своей госпожи на двор, так что, отвечая на любезное приветствие своего покровителя, Дорида не раз была принуждена унимать Евфросину, Аглаю и Талию, выкликая их звонкие имена.
– Великолепно, превосходно! – вскричал Адриан, указывая на внутренность дома. – Идиллия, настоящая идиллия! Кто мог бы ожидать, что найдет такой веселенький, мирный уголок в самом беспокойном, в самом хлопотливом городе империи.
– Мы с Понтием тоже были изумлены при виде этого гнездышка и потому оставили его нетронутым, – сказал префект.
– Понятливые люди понимают друг друга, и я благодарю вас за то, что вы пощадили этот домик, – сказал император. – Какое предзнаменование, какое благоприятное, в высшей степени благоприятное предзнаменование. Грации принимают меня здесь в старых стенах: Аглая, Евфросина, Талия.
– Приветствую тебя, господин! – сказала префекту Дорида.
– Мы являемся поздно, – заметил Адриан.
– Это не беда, – засмеялась старуха. – Здесь, на Лохиаде, вот уже с неделю как мы и без того разучились отличать день от ночи, и притом хорошее никогда не приходит слишком поздно.
– Сегодня я привез с собой достойнейшего гостя, – сказал Титиан, – великого римского архитектора, Клавдия Венатора. Он только несколько минут тому назад сошел с корабля.
– В таком случае глоток вина принесет ему пользу; есть хорошее мареотское белое[74] из виноградника моей дочери, что живет на берегу озера. Если твой друг желает оказать честь простым, скромным людям, то я попрошу его войти к нам. Не правда ли, господин, у нас чисто, а из кубка, который я подам ему, подобало бы пить самому императору. Кто знает, что найдете вы там, наверху, в этой ужасной суматохе?
– Я с удовольствием принимаю твое приглашение, матушка, – отвечал Адриан.
Дорида наполнила кубок вином и сказала:
– А вот вода для смешения.
Император взял кубок работы Поллукса, с удивлением посмотрел на него и сказал, прежде чем поднес его к губам:
– Мастерское произведение, матушка. Из чего же здесь будет пить император, если привратники употребляют такие сосуды. Кто выполнил эту превосходную работу?
– Мой сын вырезал этот кубок для меня в свободные часы.
– Он дельный скульптор, – прибавил Титиан.
Выпив вино с большим удовольствием, император поставил кубок на стол и сказал:
– Отличное питье. Благодарю тебя, матушка!
– И я тебя за то, что ты называешь меня матерью. Нет более прекрасного названия для женщины, которая вырастила хороших детей, а у меня их трое, и их не стыдно показать.
– Так желаю тебе счастья для них, моя матушка, – сказал император. – Мы еще увидимся, потому что я останусь несколько дней здесь, на Лохиаде.
– Теперь, среди этой суматохи?
– Этот великий архитектор, – сказал Титиан в пояснение, – будет помогать Понтию.
– Понтий не нуждается ни в чьей помощи! – вскричала старуха. – Это человек крепкого закала. Его предусмотрительность и энергия, по словам моего сына, несравненны. Да и сама я видела, как он распоряжался, а я умею различать людей.
– А что тебе в нем более всего понравилось? – спросил Адриан, которому пришлось по сердцу непринужденное обращение умной старухи.
– Он ни на минуту не теряет спокойствия при всей этой спешке. Говорит не больше и не меньше, чем нужно, умеет быть строгим, где это необходимо, и ласков с нижестоящими. На что он способен как художник – об этом я не могу судить, но знаю наверное, что он действительно дельный человек.
– Я сам его знаю, – сказал император, – и ты правильно его описываешь, но мне он показался несколько строже.
– Как мужчина, он должен уметь быть твердым. Но он тверд только там, где нужно; а каким добрым он может быть – это он нам показывает ежедневно. Когда часто сидишь одна, то видишь его отношение. И вот я заметила: кто надменен и крут с маленькими людьми, тот и сам не больно велик, ибо он считает нужным так поступать из опасения, как бы его не сочли таким же ничтожным, как тот бедняк, с которым он имеет дело. Кто чего-нибудь стоит, тот знает, что его сразу отличат, даже если он обращается с нашим братом как с равным. Так поступают Понтий и высокородный наместник, а также и ты, его друг. Что ты приехал – это хорошо, но, как сказано, наш архитектор управился бы и без тебя.
– Ты, по-видимому, не особенно высокого мнения о моей будущей работе; это огорчает меня, потому что ты прожила жизнь с открытыми глазами и научилась правильно судить о людях.
Тут Дорида умно и пытливо посмотрела на императора своими ласковыми глазами и отвечала уверенным тоном:
– От тебя… от тебя веет величием, и, может быть, твои глаза увидят многое, что ускользнет от Понтия. К некоторым избранным людям музы особенно расположены, и ты, видимо, принадлежишь к их числу.
– Что наводит тебя на эту мысль?
– Я узнаю это по твоему взгляду и по челу.
– Ясновидица!
– Нет, я вовсе не ясновидица. Но я – мать двух сыновей, которым бессмертные тоже даровали нечто особливое, что я не в силах описать. У них я заметила это впервые, а когда потом примечала то же у художников и у некоторых других, то эти люди всегда оказывались самыми выдающимися в своем кругу. А что ты далеко превосходишь всех остальных – в этом я готова поклясться.
– Не принимаю клятвы так легко, – засмеялся император, – мы еще поговорим с тобой, матушка, а при прощании я спрошу тебя, не обманулась ли ты во мне? Теперь пойдем, Телемах. Тебя, кажется, в особенности занимают птицы этой женщины.
Эти веселые слова были обращены к Антиною, который переходил от одной клетки к другой и с любопытством и удовольствием рассматривал спящих пернатых, любимцев старухи.
– Это твой сын? – спросила Дорида, указывая на юношу.
– Нет. Это мой ученик, но я обращаюсь с ним как с сыном.
– Красивый парень!
– Посмотри, наша старуха еще засматривается на юношей.
– Этого мы не оставляем до столетнего возраста или до тех пор, пока парки не перережут нити нашей жизни.
– Какое признание!
– Дай мне договорить до конца. Мы никогда не отучаемся радоваться, глядя на красивых молодых людей; но только пока мы молоды, мы спрашиваем, чего мы можем от них ожидать; в старости же для нас вполне довольно оказывать им дружеское расположение. Послушай, молодой господин, ты всегда найдешь меня здесь, если понадобится что-нибудь такое, чем я могу служить тебе. Я – как улитка и лишь изредка покидаю свой домик.
– До свидания, – сказал Адриан и вышел на двор со своими спутниками. Развороченная мостовая требовала большой осторожности; нужно было искать точки опоры для ног. Титиан пошел впереди императора и Антиноя, и властитель мог обменяться со своим наместником лишь немногими радостными словами по поводу их дружеской встречи.
Адриан осторожно подвигался вперед, улыбаясь про себя с видимым удовлетворением. Приговор простой умной женщины из народа доставил ему больше удовольствия, чем высокопарные оды, в которых воспевали его Мезомед и ему подобные, или льстивые слова, которыми обыкновенно осыпали его риторы и софисты.
Старуха считала его простым художником; она не могла знать – кто он, и, однако, признала… Или же Титиан был неосторожен?
Знала ли, догадывалась ли женщина, с кем она говорит?
Крайняя подозрительность Адриана не давала ему покоя. Он уже начинал считать слова привратницы заученной ролью, ее радушный прием – подготовленной сценой. Вдруг остановившись, он попросил префекта подождать его, а Антиною велел остаться с собакой. Сам он повернул назад и вовсе не по-царски подкрался к домику привратника.
Он остановился возле все еще настежь отворенной двери домика и начал подслушивать разговор, который вела Дорида со своим мужем.
– Видный мужчина, – сказал Эвфорион, – он несколько похож на императора.
– Ну нет, – возразила Дорида. – Вспомни только о статуе Адриана в саду Панейона[75]: там выражение лица недовольное и насмешливое, а у архитектора, правда, серьезный лоб, но черты сияют приветливой добротой. Если, глядя на одного из них, вспоминаешь другого, так только из-за бороды. Адриан мог бы радоваться, если бы походил на гостя префекта.
– Да притом он и красивее и… как бы мне выразиться… и более похож на богов, чем холодная мраморная статуя, – продекламировал Эвфорион. – Он, конечно, важный господин, но все-таки он вместе с тем и художник. Нельзя ли посредством Понтия, Папия, Аристея или кого-либо из великих живописцев уговорить его при торжественном зрелище представить в нашей группе прорицателя Калхаса? Он изобразил бы его иначе, чем этот сухой резчик по слоновой кости, Филемон. Подай мне лютню, я уже забыл начало последнего стихотворения. Ох, эта проклятая память!
Эвфорион с силой провел пальцами по струнам и запел еще довольно звучным и хорошо выработанным голосом:
– «Слава тебе, о Сабина! Слава, победная слава могучей богине Сабине!» Если бы Поллукс был здесь, он опять напомнил бы мне настоящие слова. «Слава, победная слава стократной Сабине!..» Бессмыслица. «Слава, бессмертная слава Сабине, уверенной в громкой победе». И это не то! Если бы крокодил пожелал проглотить эту Сабину, я с удовольствием отдал бы ему на закуску вон тот свежий пирог на блюде. Но постой! Теперь вспомнил: «Слава, стократная слава могучей богине Сабине!»
Адриану было достаточно слышанного.
Между тем как Эвфорион, посредством беспрестанных повторений, старался запечатлеть в своей упрямой памяти стихи, император повернулся спиной к домику и, не без труда пробираясь со своими спутниками между сидевшими на корточках работниками, не раз хлопнул Титиана дружески по плечу, а в ответ на приветствия Понтия вскричал:
– Я благословляю свое решение приехать сюда сегодня. Хороший вечер, превосходный вечер!
Уже много лет Адриан не чувствовал себя в таком беззаботном и веселом настроении, как в этот день. И когда он, несмотря на поздний час, нашел всюду усердно трудящихся работников и увидал, что в старом дворце многое было восстановлено или уже находилось на пути к обновлению, неутомимый монарх выразил свое удовлетворение, обращаясь к Антиною:
– Вот где можно убедиться, что даже в наш трезвый век добрая воля, усердие и умение могут творить великие чудеса. Объясни мне, Понтий, как ты соорудил эти чудовищные леса?







