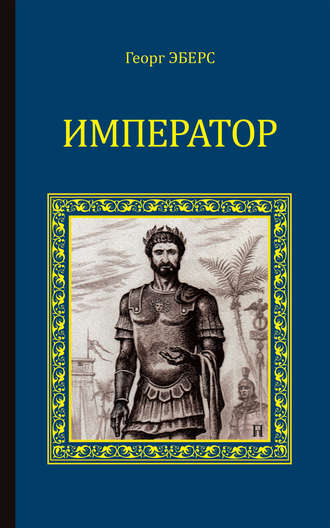
Георг Эберс
Император
– Ах, как это стыдно, стыдно! – вздохнула девушка.
– Нисколько. Даже верховный жрец Сераписа[42] может заболеть. Только предоставь действовать мне.
– Если он увидит тебя, это снова взволнует его. Он так на тебя сердит, так сердит!
– Всемогущий Зевс! Какое же великое преступление я совершил? Боги прощают тягчайшие грехи мудрецов, а человек не может извинить шалость глупого мальчишки!
– Ты осмеял его.
– Вместо отбитой головы толстого Силена[43] там у ворот я поставил на плечи статуи глиняную голову, которая была похожа на твоего отца. Это была моя первая самостоятельная работа.
– Ты сделал это, чтобы уколоть его.
– Право, нет, Селена, мне просто хотелось подшутить. Только и всего.
– Но ведь ты знал, как он обидчив?
– Да разве пятнадцатилетний повеса думает о последствиях своей шалости? Если бы только он отстегал меня по спине, его гнев разразился бы громом и молнией и воздух очистился бы снова. Но поступить таким образом! Он отрезал ножом лицо моей статуи и медленно растоптал валявшиеся на земле куски. Меня он только раз ткнул большим пальцем (я, впрочем, до сих пор это чувствую), а затем начал поносить меня и моих родителей так жестоко, с таким горьким презрением…
– Он никогда не бывает вспыльчив, но обида въедается в его душу, и я редко видела его таким рассерженным, как в тот раз.
– Если бы он покончил со мною расчет с глазу на глаз, – продолжал Поллукс, – но при этом присутствовал мой отец. Посыпались горячие слова, к которым моя мать прибавила кое-что от себя, и с тех пор завелась вражда между нашими домами. Меня огорчало больше всего то, что он запретил тебе и твоим сестрам приходить к нам и играть со мною.
– Мне это тоже испортило много крови.
– А весело было, когда мы наряжались в театральные тряпки или плащи моего отца!
– И когда ты лепил нам куклы из глины!
– Или когда мы изображали олимпийские игры!
– Когда мы с малышами играли в школу, я всегда была учительницей.
– Больше всего хлопот было у тебя с Арсиноей.
– Как приятно было удить рыбу!
– Когда мы возвращались домой с рыбой, мать давала нам муки и изюма для стряпни… А помнишь ли ты еще, как я на празднике Адониса остановил рыжую лошадь нумидийского всадника, когда она понесла?
– Конь уже сбил с ног Арсиною, а по возвращении домой мать дала тебе миндальный пирожок.
– Но твоя неблагодарная сестрица, вместо того чтобы сказать мне спасибо, принялась уплетать его, а мне оставила только крохотный кусочек. Сделалась ли Арсиноя такой красавицей, какой обещала стать? Два года тому назад я видел ее в последний раз. Восемь месяцев я проработал не отрываясь для своего учителя в Птолемаиде и даже со своими стариками виделся лишь по разу в месяц.
– Мы тоже редко выходили из дому, а заходить к вам нам запрещено. Моя сестра…
– А очень она красива?
– Кажется, очень. Чуть раздобудет где-нибудь ленту, сейчас же вплетет ее в волосы, и мужчины на улице смотрят ей вслед. Ей уже шестнадцать лет.
– Шестнадцать лет маленькой Арсиное! Сколько же времени прошло со дня смерти твоей матери?
– Четыре года и восемь месяцев.
– Ты хорошо помнишь время ее кончины… Да и трудно забыть такую мать! Она была добрая женщина. Приветливей ее я никого не встречал, и мне известно, что она пыталась смягчить твоего отца! Но это ей не удалось, а потом ее настигла смерть.
– Да, – глухим голосом сказала Селена. – Как только боги могли это допустить! Они часто злее самых жестоких людей.
– Бедные твои сестрички и братец!
Девушка грустно кивнула головой, и Поллукс тоже некоторое время стоял молча и потупившись. Но затем он поднял голову и воскликнул:
– У меня есть для тебя нечто, что тебя должно порадовать!
– Меня уже ничто не радует с тех пор, как она умерла.
– Полно, полно, – с живостью возразил скульптор. – Я не мог забыть эту добрую женщину и раз в часы досуга слепил ее бюст по памяти. Завтра я принесу его тебе.
– О! – вскричала Селена, и ее большие глаза сверкнули солнечным блеском.
– Не правда ли, это радует тебя?
– Конечно, очень радует. Но если мой отец узнает, что ты подарил мне изображение…
– Так он в состоянии уничтожить его?
– Если даже и не уничтожит, то, во всяком случае, не потерпит его в своем доме, как только узнает, что это твоя работа.
Поллукс снял компресс с головы смотрителя, помочил его снова и, положив опять на лоб спящего, вскричал:
– Мне пришла в голову мысль! Ведь дело идет здесь только о том, чтобы этот бюст напоминал тебе по временам черты твоей матери. Нет надобности, чтобы голова стояла в вашем жилище. На круглой площадке, которая видна с вашего балкона и мимо которой ты можешь проходить, когда захочешь, стоят бюсты женщин из дома Птолемеев. Некоторые из них сильно попорчены и требуют починки. Я возьмусь за восстановление Береники и приделаю ей голову твоей матери. Выйдя из дому, ты можешь смотреть на нее. Это разрешает вопрос, не правда ли?
– Да, ты все-таки хороший человек, Поллукс!
– Разве я не сказал тебе, что начинаю исправляться? Но время, время! Если я займусь еще Береникой, то мне придется скупиться даже на минуты.
– Так вернись к своей работе, а примочки я и сама отлично умею делать.
При этих словах Селена откинула назад материнскую накидку так, чтобы освободить руки, и, стройная, бледная, обрамленная красивыми складками этой изящной накидки, стояла перед художником подобно статуе.
– Оставайся так… вот так… не двигайся! – вскричал Поллукс изумленной девушке так громко и горячо, что она испугалась. – Плащ лежит на твоем плече изумительно свободно. Ради всех богов, не трогай его! Если ты позволишь мне снять с него слепок, то в течение нескольких минут я выиграю целый день работы для нашей Береники. Примочки я буду делать во время перерывов.
Не дожидаясь ответа Селены, скульптор поспешил за перегородку и вернулся оттуда сперва с рабочими лампами, по одной в каждой руке, и маленьким инструментом во рту, а затем с восковой моделью и поставил ее на край стола, за которым спал смотритель.
Поллукс потушил свечи и стал двигать свои лампы вправо и влево, вверх и вниз; добившись наконец удовлетворительного освещения, он опустился на кресло, отставил ноги, вытянул шею и голову с горбатым носом далеко вперед, словно коршун, стремящийся уловить взором отдаленную добычу… потупил глаза, поднял их снова, чтобы уловить ими что-нибудь новое, а затем надолго устремил их на слепок. При этом его пальцы бегали по поверхности восковой фигуры, погружались в мягкий материал, прикрепляли новые куски к, казалось бы, уже оформленным частям, решительными движениями устраняли другие и округляли их с лихорадочной быстротой, давая им новое назначение. Движение рук его казалось судорожным, но под сдвинутыми бровями блестели его глаза, серьезные, сосредоточенные, спокойные и вместе с тем исполненные невыразимо глубокого одушевления.
Селена ни одним словом не дала ему разрешения воспользоваться ее услугами в качестве натурщицы, но, казалось, рвение художника передалось ей, и она точно онемела в неподвижной позе. И когда во время работы взгляд Поллукса падал на нее, то она чувствовала глубокую серьезность, которая в этот час овладела душой ее веселого товарища. Несколько времени ни он, ни она не открывали рта. Наконец он отступил от своей модели назад, низко нагнулся, быстрым, пытливым взглядом посмотрел сперва на Селену, потом на свою работу и сказал, счищая воск с пальцев и глубоко переводя дух:
– Так! Так оно должно быть! Теперь я сделаю твоему отцу новую примочку, а затем будем продолжать. Если ты устала, можешь двигаться.
Она воспользовалась этим дозволением лишь отчасти, и вскоре работа началась снова. Когда он стал заботливо оправлять сдвинувшиеся складки ее плаща, она отставила было ногу, чтобы отступить назад; но он сказал серьезным тоном: «Не шевелись!» – и она повиновалась. Пальцы и стеки Поллукса двигались теперь с большим спокойствием, в его взгляде не было прежнего напряжения, и он снова начал разговаривать.
– Ты очень бледна, – сказал он. – Правда, свет лампы и бессонная ночь…
– Я и днем такая же, но я не больна.
– Я думал, что только Арсиноя будет похожа на твою мать, но теперь нахожу многие черты ее в твоем лице. Овал ваших лиц одинаков, нос твой, так же как у нее, составляет почти прямую линию со лбом, твои большие глаза и изгиб бровей точно взяты с ее лица; но у тебя рот меньше и изящнее очерчен, и вряд ли твоя мать могла завязать волосы позади таким пышным узлом. Мне кажется также, что твои – светлее…
– Говорят, что в девушках у нее волосы были еще пышнее, а ребенком она была такой же белокурой, как и я. Теперь я черноволоса.
– То, что твои волосы, не будучи курчавыми, мягкими волнами облегают голову, – это тоже от нее.
– Их легко причесывать.
– Ты ведь не выше ее?
– Пожалуй что нет; но она была полнее и потому казалась ниже ростом… Ты скоро кончишь?
– Ты устала стоять?
– Не очень.
– Так потерпи немножко… Смотря на тебя, я все больше вспоминаю минувшие годы. Мне приятно, что в тебе я вижу опять Арсиною. Мне кажется, как будто время сильно отодвинулось назад. Чувствуешь ли ты то же самое?
Селена покачала головой.
– Ты несчастлива?
– Да.
– Я знаю, что тебе приходится выполнять обязанности, тяжелые для девушки твоих лет.
– Все идет своим чередом.
– Нет, нет, я знаю, что ты не позволяешь, чтобы все в доме шло как попало; ты как мать заботишься о сестрах и брате.
– Как мать! – повторила Селена, и ее губы искривились горькой улыбкой,
– Правда, материнская любовь – вещь совершенно особенная, но говорят, что твой отец и дети вполне основательно могут быть довольны и твоими заботами.
– Может быть, маленькие и наш слепой Гелиос, но Арсиноя делает что хочет.
– Я вижу, ты ею недовольна. Я по голосу слышу. А прежде ты сама была живая и веселая, хотя и не такая шалунья, как твоя сестра.
– Да, прежде.
– Как печально это звучит! Однако же ты молода, целая жизнь лежит перед тобой.
– Какая жизнь?
– Какая? – спросил ваятель, отнимая свои руки от работы; и, пылающим взором глядя на прекрасную, бледную девушку, он с сердечной искренностью вскричал:
– Жизнь, которая могла бы быть вся полна счастья и веселой любви!
Девушка отрицательно покачала головой и спокойно сказала:
– Любовь – это радость, говорит христианка, которая наблюдает за нашей работой в папирусной мастерской, но с тех пор как умерла мать, я уже никогда не радовалась. Я насладилась всем моим счастьем за один раз – в детстве. Теперь же я бываю рада, когда нас не постигает какое-нибудь тягчайшее бедствие. С тем, что приносят мне остальные дни, я примиряюсь, потому что не могу ничего изменить! Мое сердце совершенно пусто, и если оно действительно способно чувствовать что-нибудь, так это страх. Я давно уже отучилась ждать чего-нибудь хорошего от будущего.
– Девушка, девушка! – вскричал Поллукс. – Что с тобою стало? Впрочем, я понимаю только половину того, что ты говоришь. Каким образом ты попала в папирусную мастерскую?
– Не выдай меня, – тревожно просила Селена. – Если бы отец услышал…
– Он спит, и того, что ты скажешь мне здесь по секрету, не узнает никто.
– Зачем мне таиться? Я каждый день хожу в сопровождении Арсинои в эту мастерскую и работаю там, чтобы добыть сколько-нибудь денег.
– За спиной отца?
– Да. Он скорее позволил бы нам умереть с голоду, чем потерпел бы это. Каждый день мне приходится выносить отвращение к этому обману, но делать нечего, потому что Арсиноя думает только о себе, играет с отцом в тавлеи, завивает ему кудри и возится иногда с детьми, как с куклами, а на мне лежит обязанность заботиться о малютках.
– И ты, ты говоришь, что в тебе нет любви! К счастью, никто тебе не верит, и я меньше всех. Недавно мне рассказывала о тебе моя мать, и я тогда подумал, что из тебя могла бы выйти именно такая жена, как нужно.
– А сегодня?
– Сегодня я знаю это наверное.
– Ты можешь ошибиться.
– Нет, нет! Тебя зовут Селеной, и ты так же кротка, как приветливый свет луны. Имена нередко соответствуют своему значению.
– Мой слепой брат, никогда не видевший света, носит имя Гелиос, – возразила девушка с иронией.
Поллукс говорил с большим жаром, но последние слова Селены испугали его и умерили его пыл.
Так как он ничего не отвечал на ее горькое восклицание, то она заговорила снова, сперва холодно, затем все с большим пылом:
– Ты начинаешь мне верить, и ты прав, так как то, что я делаю для малюток, происходит не от доброты, не от любви и не потому, что их счастье для меня выше моего собственного. От отца я унаследовала гордость, и для меня было бы невыносимо, если бы мои сестры ходили в лохмотьях и если бы люди считали нас такими бедными, какие мы на самом деле. Самое ужасное для меня – это болезнь в доме, потому что она усиливает страх, никогда не оставляющий меня, и поглощает последние сестерции; а дети не должны терпеть нужды. Я не хочу выставлять себя более дурною, чем на самом деле; мне тоже горько видеть, что они пропадают. Но из того, что я делаю, ничто не доставляет мне радости; все это разве только умеряет страх. Ты спрашиваешь, чего я боюсь? Всего – да, всего, что может случиться, потому что у меня нет никакого основания ожидать чего-нибудь хорошего. Когда стучатся к нам в дверь, то это может быть кредитор; когда на улице мужчины таращат глаза на Арсиною, я уже вижу, как бесчестие подкарауливает ее; когда отец поступает вопреки приказанию врача, то мне кажется, что мы уже стоим на улице, без крова. Разве я что-нибудь делаю с радостью в сердце? Я, конечно, не провожу времени в праздности, но завидую каждой женщине, которая может сидеть сложа руки и иметь рабынь к своим услугам. И если бы я вдруг разбогатела, я более не пошевельнула бы пальцем и спала бы каждый день до полудня. Я предоставила бы рабам заботиться о моем отце и о детях. Моя жизнь – настоящее бедствие. Если иногда выдается какой-нибудь час лучше других, я удивляюсь ему, и он проходит, прежде чем я опомнюсь от удивления.
Слова Селены повеяли холодом, и его сердце, широко раскрывшееся навстречу подруге его детских игр, теперь болезненно сжалось.
Прежде чем он мог найти истинные слова ободрения, которых искал, из залы, где спали работники и рабы, послышался звук трубы, призывавший их к пробуждению.
Селена вздрогнула, плотнее закуталась в накидку, попросила Поллукса позаботиться об отце и спрятать от людей стоявшую возле него винную кружку, а затем быстро пошла к двери, позабыв свой светильник.
Поллукс поспешил за нею, чтобы посветить ей, и, провожая ее домой, он теплыми, настойчивыми и удивительно трогательными для ее сердца словами выудил у нее обещание еще раз позировать ему в той же накидке.
Пока смотритель дворца спал в своей постели, Поллукс, растянувшись на своем ложе, долго думал о бледной девушке с оцепеневшей душой. Когда же он наконец заснул, то в приятном сновидении явилась ему прелестная маленькая Арсиноя, которая, не подоспей он на помощь, неминуемо была бы растоптана пугливой лошадью нумидийца во время праздника Адониса; ему снилось, будто она отнимает у своей сестры Селены миндальный пирожок и отдает ему. А обокраденная мирится с этим и только, вся бледная, спокойно улыбается холодной улыбкой.
VI
Александрия волновалась.
Ввиду предстоящего в скором времени прибытия императора трудолюбивые граждане, оставив свои дела, теперь спешили, давя друг друга, получить хлеб и другую пищу. Они стремились только к тому, чтобы свободные от работы часы наполнить до краев радостью и весельем.
Во многих мастерских и складах колесо трудолюбия остановилось, так как все промышленные классы и сословия были одушевлены одинаковым стремлением праздновать прибытие Адриана с неслыханным блеском.
Все, кто среди граждан Александрии отличался изобретательным умом, богатством, красотою, были призваны к участию в играх и процессиях, которые должны были длиться много дней.
Богатейшие из граждан-язычников взялись доставить средства для предполагавшихся театральных зрелищ, показательных морских сражений, которые предполагали разыграть в присутствии императора, а также кровавых зрелищ в амфитеатре; и число желающих платить богачей было так велико, что средств оказывалось больше, чем требовалось.
Однако постановка отдельных частей шествия, в котором могли принять участие и люди бедные, выполнение построек на ипподроме, украшение улиц и угощение римских гостей требовали таких громадных сумм, что они казались чрезмерными даже префекту Титиану, который привык видеть, как его римские собратья по званию сорили миллионами.
В качестве императорского наместника он должен был давать свое согласие на каждое развлечение, предназначенное для услаждения слуха или зрения его повелителя. В целом он предоставил гражданам великого города полную свободу действий, но не раз был принужден энергично восставать против излишеств, так как хотя император и мог долго предаваться удовольствиям, но то, что александрийцы первоначально хотели заставить его видеть и слышать, превосходило самые неутомимые человеческие силы.
Наибольшие затруднения причиняли не только ему, но и избранным распорядителям празднеств никогда не прекращавшиеся раздоры между языческой и еврейской частями александрийского населения, а также распорядок торжественного шествия, потому что ни одна часть не хотела быть последней, ни один член ее – быть третьим или четвертым.
Наконец на одном совещании все мероприятия, вследствие строгого вмешательства префекта, были бесповоротно одобрены, и затем Титиан отправился в Цезареум к императрице, требовавшей, чтобы он ежедневно являлся к ней.
Он был рад, что достиг по крайней мере такого результата, потому что прошло уже шесть дней с тех пор, как были начаты работы в Лохиадском дворце, и время прибытия императора приближалось.
Префект застал Сабину возлежавшей, по обыкновению, на кушетке, но она скорее сидела, чем лежала, прислонясь к подушкам. По-видимому, она оправилась от утомительного морского пути; в знак лучшего самочувствия она положила больше румян на щеки и губы, чем три дня тому назад, а так как она только что принимала у себя скульпторов Папия и Аристея[44], то велела сделать себе прическу Венеры-Победительницы, с атрибутами которой она за пять лет до этого позволила (хотя и неохотно) изобразить себя в мраморной статуе.
Когда копию этого изваяния выставили в Александрии, чей-то злой язык бросил замечание, часто затем повторявшееся среди местных граждан:
– Афродита действительно победоносна: тот, кто видит ее, спешит убежать подальше. Ее следовало бы назвать Кипридой, обращающей в бегство.
Титиан явился к императрице, взволнованный ожесточенными спорами и неприятными выходками, при которых он только что присутствовал. На сей раз он застал ее без посторонних, кроме постельничего и нескольких прислужниц. На почтительный вопрос префекта об ее здоровье она, пожимая плечами, ответила:
– Как мое здоровье? Если я скажу «хорошо» – то будет ложь; а если скажу «плохо» – увижу соболезнующие физиономии, на которые неприятно смотреть. Жизнь нужно терпеть так или иначе. Однако множество дверей в этих комнатах убьет меня, если я буду вынуждена долго здесь оставаться.
Титиан взглянул на двери покоя, в котором пребывала императрица, и принялся выражать сожаление по поводу изъяна, которого он не заметил; но Сабина прервала его и сказала:
– Вы, мужчины, никогда не замечаете того, что нас, женщин, огорчает. Наш Вер – единственный человек, который это чувствует и понимает… вернее, угадывает чутьем. Тридцать пять дверей находятся в занимаемых мною покоях. Я велела сосчитать их! Тридцать пять! Если бы они не были так стары и сработаны из драгоценного дерева, я бы подумала, что они устроены в насмешку надо мною.
– Может быть, некоторые из них можно заменить драпировками.
– Оставим это! Несколькими пытками больше или меньше в моей жизни – не все ли равно? Покончили ли александрийцы со своими приготовлениями?
– Надеюсь, – ответил префект со вздохом. – Они из кожи лезут вон, чтобы сделать получше, но в своих усилиях протиснуться вперед каждый из них ведет войну против каждого, и я нахожусь еще под впечатлением отвратительной перебранки, при которой должен был присутствовать целыми часами и нередко укрощать ее грозным «Quos ego!»[45].
– Да? – спросила императрица и улыбнулась, точно она услышала что-нибудь приятное. – Расскажи мне подробнее об этом собрании. Я скучаю до смерти, так как Вер, Бальбилла и другие просили у меня позволения посмотреть на работы, которые производятся на Лохиаде. Я привыкла наблюдать, что людям приятнее быть где угодно, только не со мною. Могу ли я удивляться, если мое присутствие недостаточно даже для того, чтобы заставить друга моего мужа забыть легкую дисгармонию, какие-то мелкие неприятности. Мои беглецы что-то долго не возвращаются: на Лохиаде, должно быть, есть на что посмотреть.
Префект сдержал свое неудовольствие; он ни одним словом не выдал своего опасения, что архитектору и его помощникам могут помешать, и тоном вестника в трагедии начал:
– Первый спор поднялся по поводу распорядка шествия.
– Отступи немножко назад, – сказала Сабина, прижав правую, покрытую кольцами руку к уху, как будто чувствуя боль.
Щеки префекта слегка покраснели, но он повиновался и, понизив голос, продолжал:
– Итак, спокойствие было нарушено сперва по поводу шествия.
– Я уже это слышала, – отвечала матрона и зевнула. – Я люблю процессии.
– Но, – сказал с легким волнением префект, – люди и здесь, как в Риме и везде, если они не подчиняются приказанию одного человека, являются сынами раздора и отцами распри даже в том случае, когда дело идет об устройстве какого-нибудь мирного празднества.
– Тебе, по-видимому, неприятно, что Адриана желают почтить такими пышными празднествами?
– Ты шутишь. Именно потому, что я особенно желаю, чтобы они вышли как можно блистательнее, я самолично вхожу во все подробности, и, к моему удовольствию, мне удалось укротить даже строптивых. Едва ли я по должности был обязан…
– Я думала, что ты не только слуга государства, но и друг моего супруга.
– Я горжусь тем, что имею право называть себя этим именем.
– Да, у Адриана стало много, очень много друзей с тех пор, как он носит багряницу. Ну, теперь ты забыл свое дурное расположение духа? Ты, должно быть, сделался очень впечатлительным, Титиан; у бедной Юлии очень раздражительный супруг.
– Она не столь достойна сожаления, как ты думаешь, – возразил Титиан с достоинством, – так как моя должность до такой степени погружает меня в заботы, что жена редко имеет возможность замечать мое возбужденное состояние. Если я забыл скрыть от тебя свое волнение, то прошу простить меня и приписать это моему горячему желанию обеспечить для Адриана достойный его прием.
– Не думай, что я сержусь на тебя… Однако вернемся к твоей жене. Значит, она разделяет мою участь. Бедные, мы не получаем от своих мужей ничего, кроме объедков после государственных дел, которые все поглощают. Но рассказывай же, рассказывай!
– Самые тяжелые часы я пережил из-за неприязни между евреями и другими гражданами.
– Я ненавижу эти проклятые секты евреев, христиан, или как они там называются! Не отказываются ли они внести свою долю пожертвований для приема императора?
– Напротив, алабарх[46], их богатый глава, вызвался взять на себя все издержки на целую навмахию[47], а его единоверец Артемион…
– Ну? Так пусть возьмут от них деньги, пусть возьмут!
– Эллинские граждане чувствуют себя достаточно богатыми, чтобы принять на свой счет все издержки, которые будут составлять много миллионов сестерциев, и добиваются того, чтобы исключить евреев везде из своих процессий и зрелищ.
– Они правы.
– Позволь мне спросить тебя: справедливо ли было бы помешать половине александрийцев оказать почет своему императору?
– Адриан с удовольствием откажется от этой чести. Титулы «Африканский», «Германский», «Дакийский» служили к славе наших победителей, но, после того как Тит разрушил Иерусалим, он не позволил назвать себя «Иудейским»[48].
– Он поступил так потому, что его пугало воспоминание о потоках крови, которые он вынужден был пролить, чтобы сломить упорное сопротивление этого народа. Приходилось ломать побежденному сустав за суставом, палец за пальцем, прежде чем он наконец решил покориться.
– Ты опять говоришь почти как поэт. Уж не выбрали ли тебя эти люди своим адвокатом?
– Я знаю их и стараюсь оказывать им справедливость, как всем гражданам этой страны, которой управляю от имени государства и императора. Они платят такие же подати, как и другие александрийцы, даже больше других, потому что между ними есть очень много богатых людей, они прославились в области торговли, ремесел, науки и искусства, и потому я мерю их тою же меркой, какой и остальных жителей этого города. До их суеверия мне так же мало дела, как и до суеверия египтян.
– Но оно выходит из границ. В Aelia Capitolina[49], которую Адриан украсил многими зданиями, они отказались принести жертву статуям Юпитера и Геры. Это значит, что они отказываются воздавать честь мне и моему супругу.
– Им запрещено служить какому-либо другому богу, кроме их собственного. Aelia была выстроена на развалинах их Иерусалима, а статуи, о которых ты говоришь, стоят на священнейших для них местах.
– Какое нам дело до этого?
– Тебе известно, что и Гай не мог убедить их поставить свою статую в святая святых их храма. Даже наместник Петроний должен был согласиться, что принудить их к тому – значит поголовно истребить их[50].
– В таком случае пусть будет с ними то, чего они заслуживают. Уничтожить их! – вскричала Сабина.
– Уничтожить? – спросил префект. – В одной Александрии почти половину граждан, то есть несколько сот тысяч верноподданных… уничтожить?
– Так много? – спросила императрица с испугом. – Но это ужасно! Всемогущий Зевс! Что, если эта масса восстанет против нас? Никто не говорил мне об этой опасности… В Киренаике и в Саламине на Кипре они грабили десятки тысяч своих сограждан.
– Их раздражили до крайности, и они оказались сильнее своих угнетателей.
– А в их собственной стране, говорят, восстание следует за восстанием.
– Все из-за тех жертвоприношений, о которых мы сейчас говорили. Теперь легатом в Палестине Тинний Руф[51]. У него, правда, противный, резкий голос, но, по-видимому, он не такой человек, чтобы позволить шутить с собой, и сумеет укротить это опасное отродье.
– Может быть, – сказал Титиан, – но боюсь, что одной строгостью он не достигнет цели, а если достигнет, то обезлюдит целую провинцию.
– В империи слишком много народа.
– Но полезных граждан никогда не бывает достаточно!
– Мятежные ненавистники богов – полезные граждане?
– Здесь, в Александрии, где многие из них вполне применились к нравам и образу мыслей эллинов и все усвоили их язык, они, конечно, полезные граждане и, несомненно, искренне преданы императору.
– Принимают ли они участие в празднествах?
– Да, насколько позволяют им эллины.
– А постановка морского сражения?
– Им не будет дана; но Артемиону дозволено поставлять диких зверей для игрищ в амфитеатре.
– И он не выказал скупости?
– Ты бы поразилась его щедрости. Должно быть, этот человек умеет, подобно Мидасу[52], превращать камни в золото.
– И много подобных ему между вашими евреями?
– Изрядное число.
– В таком случае я желаю, чтобы они попытались взбунтоваться, потому что, если возмущение уничтожит богатых, нам достанется их золото.
– А до тех пор я постараюсь сохранить их живыми как хороших плательщиков податей.
– Разделяет ли это желание Адриан?
– Без сомнения.
– Твой преемник, может быть, внушит ему другие мысли.
– Адриан всегда действует по своему собственному разумению, а я еще состою в должности, – гордо сказал Титиан.
– И да сохранит тебя в ней иудейский бог на многие лета, – насмешливо отвечала Сабина.







