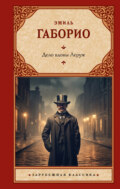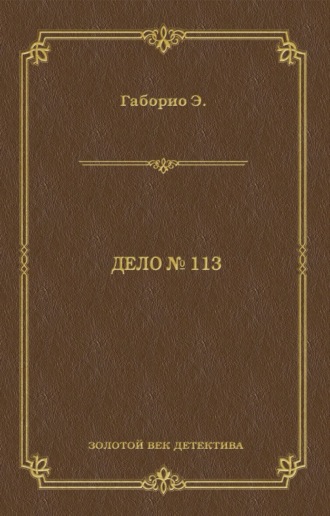
Эмиль Габорио
Дело № 113
Глава VII
Истекали уже девятые сутки, как Проспер находился в секретной тюрьме, когда в четверг утром явился к нему тюремщик и объявил ему, что он свободен.
Его привели в канцелярию, возвратили ему отобранные у него при обыске часы, кое-какие драгоценности и приказали ему расписаться на большом листе бумаги.
Затем его провели по какому-то темному коридору, очень длинному и прямому, перед ним с шумом растворилась и затворилась дверь, и он оказался на улице.
Он был один и на свободе.
Но что это за свобода! Юстиция только признала себя бессильной доказать преступление, в котором его обвиняли! Теперь он мог идти, куда хотел, вдыхать в себя свежий воздух, но все двери были перед ним заперты. Что это за свобода?
И в этот самый момент, когда ему была возвращена свобода, Проспер вдруг почувствовал весь ужас своего положения и не мог удержаться, чтобы не воскликнуть:
– Но ведь я же невиновен, невиновен!
Двое прохожих остановились, посмотрели на него и пошли далее: они подумали, что это сумасшедший.
У него есть Сена. Не покончить ли самоубийством?
– Нет! – воскликнул он. – Нет! Я не имею права убивать себя. Нет, я не желаю умирать, пока не докажу, что я невиновен!
Но как это доказать, как убедить в этом всех?
В отчаянии, но не падая духом, он побрел к себе домой. Тысячи беспокойных мыслей приходили ему в голову. Что-то произошло за эти девять дней, пока он был вычеркнут из числа людей? Что, если бы у него были теперь друзья! Но единственный друг – его отец – и тот в самую критическую для него минуту отказался ему поверить.
И он вспомнил о Нине Жипси.
Он не любил ее никогда… Бедная девушка! Бывали моменты, когда он даже ее ненавидел, но сейчас воспоминание о ней наполнило его душу радостью.
Дойдя до улицы Шанталь, он остановился перед своим домом и долгое время простоял в нерешимости, боясь позвонить. Он испытывал стыд человека, который был заподозрен в преступлении, и боялся встретить знакомых. Тем не менее, постояв на тротуаре, он вошел. При виде его швейцар обрадовался и воскликнул:
– Наконец-то! Ведь я же говорил, что вы чисты как стеклышко и что вас отпустят!
Это приветствие с болью отозвалось в сердце у кассира.
– Без сомнения, мадам уже уехала? – спросил он у швейцара. – Не знаете ли, куда именно?
– Не знаю, сударь. В день вашего ареста она послала за извозчиком, и с тех пор о ней ни слуху ни духу, точно в воду канула.
Новое горе прибавилось к испытаниям кассира.
– А что моя прислуга?
– Все ушли, сударь. Ваш батюшка заплатил им деньги и рассчитал их всех.
– Ключ от квартиры у вас?
– Никак нет, сударь. Ваш батюшка уехал, а сегодня утром в восемь часов в вашу квартиру переехал один его большой приятель. Ваш батюшка приказал мне до самого вашего возвращения относиться к нему как к хозяину. Вероятно, вы его знаете… Такой высокий, с рыжими бакенбардами…
Проспер был этим очень удивлен. Друг его отца, у него в квартире!.. Что это значит?
– Ах да, да… Знаю! – отвечал он и стал быстро подниматься по лестнице.
На его звонок ему отворил сам друг его отца.
– Очень рад с вами познакомиться, – сказал он Просперу.
Он был у Проспера как у себя дома. На столе в гостиной лежала книга, которую он вытащил из библиотеки. Еще немного, и он мог бы казаться собственником всей обстановки.
– Чем могу быть вам полезен? – спросил кассир.
– Вы удивлены, найдя меня здесь, не правда ли? Я знал это. Ваш батюшка хотел представить меня вам, но сегодня утром его вызвали в Бокер. Я должен засвидетельствовать от его имени и от своего, что оба мы убеждены в том, что вы не взяли у господина Фовеля ни сантима!
Эта новость обрадовала кассира.
– А вот и письмо к вам от вашего отца, – продолжал высокий господин. – Он просил меня передать его вам. В нем, надеюсь, он рекомендует вам меня.
Кассир принял протянутое к нему письмо, распечатал его, и, по мере того, как он читал, выражение лица его прояснялось и на бледных щеках стал появляться румянец.
Закончив чтение, он протянул высокому господину руку.
– Мой отец пишет мне, – сказал он, – что вы его лучший друг. Он советует мне быть с вами вполне откровенным и слушаться ваших советов.
– Превосходно! Сегодня утром ваш милый отец сказал мне: «Вердюре – это мое имя, – Вердюре, сказал он, мой сын попал в передрягу, надо его спасать!» И я ему ответил: «К твоим услугам». И вот я здесь. Но перейдем к делу. Что вы рассчитываете предпринять?
– Что я рассчитываю предпринять? – ответил с дрожью в голосе Проспер. – Найти несчастного, который погубил мою жизнь, указать на него суду и затем – отомстить!
– Отлично сказано! Я помогу вам в этом, Проспер. В доказательство этого я придумал кое-что и для вас. Вот мой план. Начните с того, что продайте поскорее эту обстановку, покиньте эту квартиру и скройтесь.
– Скрыться? – воскликнул возмущенный кассир. – Скрыться? Да разве вы не знаете, милостивый государь, что это было бы равносильно признанию себя виновным, что это перед всем светом подтвердило бы то, что я скрылся нарочно, чтобы втихомолку распорядиться украденными тремястами пятьюдесятью тысячами франками!
– Полноте! – холодно ответил господин с рыжими бакенбардами. – Лучший пловец, которого злодеи бросят в воду, никогда не станет тотчас же выплывать наружу. Наоборот, он нырнет, будет плыть под водою, насколько хватит ему дыхания, будет стараться уплыть как можно дальше и выйдет на сушу только там, где его уже не увидят, и когда будут считать, что он уже погиб, утонул, – вот тут-то для него и время мстить. У вас есть враг? Только одно его неблагоразумие может погубить его. И чем более вы будете вооружены против него, тем более он будет вас бояться.
С удивлением и в то же время с покорностью Проспер внимал этому человеку, который хотя и был другом его отца, но был ему совершенно незнаком. И сам того не сознавая, он подчинился влиянию натуры более энергичной, чем его собственная. И он был счастлив, что нашел в нем для себя опору.
– Я последую вашему совету, – ответил Проспер после долгого раздумья.
– Я знал это, мой друг. Я знал это настолько, что уже заранее пригласил мебельщика. За всю вашу обстановку, исключая картины, он дает вам двенадцать тысяч франков. Это жестоко с моей стороны, но необходимо. У вас нет вовсе денег, а они-то именно теперь и нужны. Вы мой больной, а я ваш врач. И если мне приходится резать вас по живому, то не мешайте мне резать. Это необходимо для вашего же спасения.
– Режьте! – отвечал с решимостью Проспер.
– Отлично. Но… надо торопиться! Есть у вас друг Лагор?
– Рауль? Да, я его близкий товарищ.
– Что это за тип?
– Это племянник господина Фовеля, очень молодой человек, богатый, воспитанный, остроумный, лучший и корректнейший из всех, кого я знаю.
– Гм!.. – ухмыльнулся Вердюре. – Вот смертный, одаренный сразу всеми добродетелями! Я с нетерпением ожидаю с ним знакомства. Я должен сознаться перед вами, Проспер, что от вашего имени я написал ему письмо, в котором просил его пожаловать сюда, и он дал мне ответ, что приедет непременно.
– Как! – воскликнул Проспер, ошеломленный этим сообщением. – И вы можете предполагать…
– Ничего я не предполагаю! – отвечал Вердюре. – Мне единственно нужно повидаться с этим господином. У меня есть даже маленький план разговора с ним, и я вам его сообщу…
В это время звонок прервал слова Вердюре.
– Да вот и он! – воскликнул Вердюре. – Прощай, мой план! Где бы мне скрыться, откуда бы можно было все видеть и слышать!
– Вот в этой комнате… Оставьте дверь открытой и спустите портьеру.
Раздался звонок во второй раз.
– Иду, иду! – крикнул кассир.
– Заклинаю вас вашей жизнью, Проспер, – сказал ему Вердюре, – ни одним словом не обмолвитесь перед этим человеком о ваших планах и обо мне. Оставайтесь для него убитым горем, разочарованным, не знающим, с чего начать…
И он скрылся, а Проспер пошел отворять Раулю. Первым движением Рауля было броситься на шею к кассиру.
– Мой бедный друг! – воскликнул он, пожимая ему руки. – Дорогой мой Проспер!
Но в этих демонстративных излияниях было нечто принужденное, что если и осталось незамеченным для Проспера, то, во всяком случае, было отлично видно Вердюре.
Они вошли в гостиную.
– Твое письмо, – продолжал Рауль, – меня прямо-таки поразило. Оно задело меня за живое. Я даже подумал: не сошел ли ты с ума? Но я все бросил и вот приехал к тебе.
Проспер едва понимал его, озабоченный содержанием письма, которого он вовсе даже и не писал. Что ему было отвечать? Что же это был за человек, который принимал в нем такое участие?
– Бодрись! – продолжал Лагор. – Зачем отчаиваться? Мы еще молоды, еще хватит времени начать жизнь сначала. У тебя друзей сколько угодно. И если я приехал сейчас к тебе, то только для того, чтобы сказать тебе: рассчитывай на меня вполне. Я богат, и половина моего состояния к твоим услугам.
Это благородное предложение, сделанное с редкой простотой, глубоко тронуло Проспера.
– Благодарю, Рауль, – отвечал он растроганным голосом. – Но никакие деньги в мире не в состоянии мне помочь.
– Неужели? Что же ты предполагаешь делать? Не думаешь же ты оставаться в Париже?
– Не знаю, мой друг. Ничего я не предполагаю. Я совсем потерял голову.
– Да ведь я же сказал тебе, что нужно начать новую жизнь! Прости меня за откровенность, я от души. Пока эта таинственная кража не будет объяснена, до тех пор тебе в Париже оставаться невозможно.
– А если она не будет вовсе объяснена?
– Самое главное, чтобы о тебе все забыли. На этих днях я говорил о тебе с Кламераном. Ты несправедлив к нему, он очень к тебе расположен. На месте Проспера, сказал он, я все распродал бы и уехал в Америку, нажил бы там состояние и, возвратившись обратно миллионером, убил бы конкуренцией Фовеля.
Этот совет затронул в Проспере его самолюбие. Он не возразил ничего. То же самое советовал ему и этот неизвестный для него Вердюре.
– Ну? – спросил Рауль.
– Я подумаю, – отвечал кассир, – посмотрю… Хотелось бы узнать, что говорит теперь господин Фовель?
– Мой дядя? Ты ведь знаешь, что с тех пор, как я отклонил его предложение поступить к нему в банкирскую контору, мы с ним не разговариваем. Вот уже месяц, как я у него не бываю. Но я получаю оттуда кое-какие сведения…
– Через кого?
– Через твоего протеже, Кавальона. Дядя после кражи чувствует себя еще хуже, чем ты. Его очень редко стали видеть в банкирской конторе, говорят, что он выдержал какую-то ужасную болезнь.
– А госпожа Фовель и… – робко спросил кассир, – и Мадлена?
– О, – весело отвечал Рауль, – тетка ударилась в религию и все молится об отыскании виновного. А что касается до моей прелестной кузины, то она не снисходит до вульгарных вопросов и вся поглощена приготовлениями к костюмированному балу, который будет послезавтра у Жандидье. Одна из ее подруг передавала мне, что она увлечена теперь какою-то совершенно неизвестной швейкой, которая шьет для нее костюм фрейлины Екатерины Медичи и у которой он выходит чудесно.
Проспер очень страдал, но последнее известие его доконало.
– Мадлена!.. – прошептал он. – Мадлена!..
Лагор сделал вид точно не расслышал и стал прощаться.
– Мне пора, дорогой Проспер, – сказал он. – В субботу я увижу на балу этих дам и привезу тебе новостей. Не падай же духом и помни, что, что бы ни случилось, ты можешь рассчитывать на меня вполне.
В последний раз Рауль пожал руку Проспера и удалился. А несчастный кассир так и остался недвижимый и уничтоженный. И нужен был веселый голос господина с рыжими бакенбардами, чтобы вывести его из оцепенения.
– Вот друзья! – воскликнул Вердюре, выйдя из засады.
– Да, – грустно отвечал Проспер. – Слышали? Он предлагал мне сейчас половину своего состояния.
– Это очень скупо с его стороны, – пожал плечами Вердюре. – Почему бы ему не предложить вам всего своего состояния? Я уверен, что этот красивый молодой человек с удовольствием дал бы вам миллион, чтобы только видеть вас по ту сторону океана.
– Он? Но почему же?
– Кто знает? Быть может, по той самой причине, которая заставила его дать вам понять, что вот уже целый месяц он не бывает у своего дяди.
– Но это совершенно верно, я знаю это!
– Да я этого и не отрицаю! А теперь приоденьтесь, и мы отправимся вместе к господину Фовелю.
Это предложение вывело Проспера из себя.
– Ни за что на свете! – закричал он. – Никогда! Я видеть его не могу!
Это нисколько не удивило Вердюре.
– Я вас понимаю, – отвечал он, – и вполне вас оправдываю, но я надеюсь, что вы согласитесь со мною. Я хотел повидаться с господином Лагором, теперь мне надо познакомиться с господином Фовелем. Понимаете ли, это необходимо! Неужели вы не можете потерпеть каких-нибудь пяти минут? Я ему представлюсь как ваш родственник, и вам не придется сказать ему ни единого слова.
– Если это действительно необходимо, – сказал Проспер, – если вы этого хотите…
– Да, я этого хочу. Идем, черт возьми! Ну, живее переодевайтесь! Уже поздно, и хочется есть. Мы позавтракаем по дороге.
Едва кассир вошел в спальню, как раздался новый звонок.
Вердюре пошел отпирать. Это был швейцар, принесший объемистый пакет.
– Письмо к господину Бертоми! – сказал он.
Это было совсем особенное письмо. Адрес был написан не от руки, а составлен из печатных букв, тщательно вырезанных из книги или из газеты и наклеенных на конверт.
– Вот так письмо! – воскликнул Вердюре. И, обратившись к швейцару, он сказал: – Подождите здесь, через минуту я выйду.
Он оставил швейцара в столовой, вошел в гостиную и затворил за собою дверь. Здесь он нашел Проспера, который, услыхав звонок и чужой голос, шел было узнать, кто это пришел.
– Посмотрите-ка, что вам принесли! – сказал Вердюре и без церемоний разорвал пакет.
Оттуда посыпались банковые билеты. Он сосчитал их. Оказалось десять. Проспер побагровел.
– Что это должно означать? – спросил он.
– А вот узнаем! – отвечал Вердюре. – Кстати, вот и записка!
Записка, как и адрес, тоже была составлена из печатных букв, вырезанных из книги и наклеенных на бумагу.
Она была коротка, но выразительна:
«Дорогой Проспер, друг, которого ужасает ваше положение, посылает вам эту помощь. Это от всего сердца. Уезжайте, бросьте Францию, вы еще молоды, будущее еще перед вами. Уезжайте, и пусть эти деньги послужат вам на счастье».
– Весь мир сговорился против меня! – воскликнул Проспер. – Все хотят, чтобы я уехал!
Вердюре самодовольно улыбнулся.
– Наконец-то! – сказал он. – Открыли глаза, начинаете понимать! Да, мой друг, на свете есть люди, которые вас ненавидят за причиненное вам зло; есть люди, для которых ваше присутствие в Париже будет служить постоянной угрозой и которые желают откупиться от вас деньгами.
– Но кто эти люди? Скажите мне! Объясните, кто прислал мне эти деньги?
Вердюре печально покачал головой.
– Если бы только их знать! – ответил он. – Тогда бы я считал свою миссию исполненной, так как знал бы, кто совершил ту кражу, которую приписывают вам. Но мы еще поищем! Начнем со швейцара!
И он отворил дверь и крикнул:
– Подите-ка сюда, любезный!
Швейцар подошел.
– Кто вам передал этот пакет? – спросил его Вердюре.
– Комиссионер. Он сказал мне, что доставка уже оплачена.
– Он вам известен?
– Даже очень хорошо. Он стоит всегда у винного погреба на углу улицы Цигаль.
– Позовите его ко мне.
Швейцар вышел, а Вердюре достал из кармана памятную книжку, разложил перед собою банковые билеты и, глядя то на них, то в книжку, старался сличить номера с написанными в книжке.
– Эти билеты присланы вам не вором, – сказал он решительно.
– Вы думаете?
– Я в этом уверен. У меня выписаны все номера украденных билетов.
– Как! Их не было даже у меня!
– Зато они были в банке. И это к счастью. Ну-с, посылка эта исходит не от вора. Очевидно, эти деньги посылает вам то другое лицо, которое находилось у кассы в момент кражи, которое не могло помешать и страдает теперь угрызениями совести. Вероятность присутствия при краже двоих лиц, подтверждаемая царапиной, теперь становится очевидной. Ergo – я прав.
Кассир из всех сил старался понять эти слова, боясь перебивать Вердюре.
– Поищем теперь, – продолжал высокий господин, – поищем теперь, кто это второе лицо, находившееся при краже.
И он взял письмо, медленно прочитал его три или четыре раза, изучая построение фраз и каждое слово.
– Да, это несомненно, – проговорил он. – Это письмо составлено женщиной. Мужчина, оказывая приятелю денежную услугу, никогда не написал бы «помощь». Это обидно для получателя. Мужчина в этом случае употребил бы слово «взаймы», «безделицу», или попросту – «эти деньги», но никогда не «помощь». Только одна женщина, которой непонятны глупые мужские условности, может выражаться так прямо. А фраза «Это от всего сердца» – уже совсем бабья.
– Вы ошибаетесь, – обратился к нему Проспер. – В этом деле не может быть замешана никакая женщина.
Вердюре не обратил на его слова внимания.
– Посмотрим теперь, – продолжал он, – откуда вырезаны все эти буквы.
Он подошел к окну и с вниманием ученого стал рассматривать наклеенные слова.
– Эти буквы не из газеты, – сказал он, – не из романа и даже не из прейскуранта. Они такие характерные, что, кажется, я их где-то видел!
Он остановился, полуоткрыл рот, стараясь припомнить, а затем вдруг ударил себя по лбу.
– Знаю! – воскликнул он. – Знаю! Черт возьми! Как я об этом сразу не догадался! Все эти буквы вырезаны из молитвенника. Надо проверить…
И осторожно он провел кончиком языка по бумаге, смочил им наклеенные буквы, и как только клей растаял, он стал их отдирать булавкой. На другой стороне одного из слов было напечатано по латыни «Бог».
– Ну что же? – улыбаясь от удовольствия, воскликнул Вердюре. – Я прав. Но что сталось с этим несчастным молитвенником? Сожгли его? Нет, книгу в кожаном переплете не скоро сожжешь. Ее забросили куда-нибудь в угол.
В это время возвратился швейцар, приведший с собою комиссионера с угла улицы Цигаль. Вердюре пришлось прервать свои изыскания.
– А, ты очень кстати! – ласково воскликнул он. И он показал комиссионеру конверт. – Ты принес сюда сегодня утром это письмо? – спросил он его.
– Так точно, сударь. Я даже адрес заметил. Сроду таких не видал…
– Кто тебе вручил его? Мужчина или женщина?
– Нет, сударь, мне передал его комиссионер.
– Ты знаешь его?
– Никак нет.
– Какой он из себя?
– Так, небольшой и не маленький, одет в зеленый кафтан, медаль имеет!
– Да ведь это приложимо ко всем комиссионерам сразу! Не сказал ли он тебе, кто его посылал?
– Никак нет. Он только дал мне десять су и сказал: «Неси на улицу Шанталь, дом тридцать девять; сейчас на бульваре мне передал это письмо какой-то кучер».
– А ты узнаешь этого комиссионера в лицо?
– Да, если посмотреть на него, то узнаю.
– Сколько ты зарабатываешь в день?
– Как случится, сударь. Я стою на бойком месте. Может быть, франков восемь или десять в день.
– Отлично, я буду тебе платить каждый день по десять франков только за то, чтобы ты ничего не делал, а только искал того комиссионера. Каждый вечер в восемь часов приходи в гостиницу «Архистратиг» на набережной Сен-Мишель, и я буду платить тебе за твои прогулки. Спросишь Вердюре. А если ты найдешь этого комиссионера, то я дам тебе сразу тридцать франков. Идет?
– Очень вами благодарен, сударь…
– Итак – проваливай! Не трать ни одной минуты зря! А теперь, – обратился Вердюре к кассиру, – пора и к Фовелю! Да и позавтракать было бы недурно!
Глава VIII
Рауль Лагор нисколько не преувеличивал, говоря о перемене, происшедшей в Андре Фовеле.
С того самого проклятого дня, когда по его доносу был арестован его кассир, банкир, этот бодрый до наглости человек, впал в меланхолию и был совершенно не способен заниматься текущими делами. Запершись у себя в кабинете на ключ, он стал безучастно относиться ко всему, и все его поступки говорили о том, что какой-то тайный недуг овладел всем его существом.
В тот день, когда Проспер был выпущен на свободу, в три часа, Фовель, по обыкновению, сидел у себя за письменным столом, положив локти на сукно и подперев ладонями лоб, и потерянным взором смотрел перед собою. Как вдруг к нему ворвался из банкирской конторы служитель.
– Сударь! – воскликнул он в страхе. – Там пришли бывший кассир Бертоми и его родственник. Они желают вас видеть непременно!
При этих словах банкир вскочил так, точно около него упала молния.
– Проспер! – воскликнул он, едва владея собою от гнева. – Да как он смел!..
Но, сообразив, что при прислуге неудобно выходить из себя, он овладел собою и холодно ответил:
– Проси.
Если Вердюре и ожидал от этого свидания чего-нибудь любопытного, то его ожидания сбылись. Ничего нельзя было представить себе более страшного, чем позы этих двоих людей, стоявших друг перед другом, – банкир, красный как рак, точно после апоплексического удара, а Проспер еще более бледный, чем раненый солдат, истекающий кровью; безмолвные, дрожавшие, они стояли в двух шагах один от другого и, едва обменявшись взглядами, полными смертельной вражды, готовы были броситься друг на друга. В течение доброй минуты Вердюре с любопытством наблюдал этих двух врагов, чуждый им обоим, и с хладнокровием философа, который даже в самых бурных душевных движениях человека видит только предмет для наблюдения и размышлений, изучал их.
Под конец молчание начинало становиться опасным, он решился нарушить его и обратился к банкиру:
– Вы, вероятно, уже слышали, – сказал он, – что мой родственник выпущен на свободу?
– Да, – отвечал Фовель. – За недостаточностью улик.
– Совершенно верно, милостивый государь. Эта-то недостаточность улик, или, другими словами, это «нахождение под подозрением» настолько портит будущее моего родственника, что он решил удрать в Америку.
При этих словах физиономия Фовеля сразу изменилась.
– Ах он удирает! – повторил он несколько раз. – Он удирает!..
Нельзя было сомневаться в интонации. Слово «удирает» было произнесено с явным намерением оскорбить. Вердюре заметил это.
– Мне кажется, – весело сказал он, – что решение моего родственника довольно резонно. Я хотел только, чтобы перед отъездом он засвидетельствовал свое почтение своему бывшему патрону.
Горькая усмешка пробежала по лицу банкира.
– Господин Бертоми, – возразил он, – мог бы с успехом избавить нас обоих от этой неприятной обязанности. Нечего мне больше выслушивать от вас и нечего мне сказать вам и самому.
Это уже была форменная просьба оставить его в покое, Вердюре так ее и понял, раскланялся с Фовелем и вышел вместе с Проспером, который за все время свидания не проронил ни слова.
И только на улице кассир нарушил молчание.
– Вы этого хотели, – грубо сказал он, – вы настаивали, и я послушался вас. Довольны ли вы? Добыл ли я хотя что-нибудь, прибавив это кровное унижение к тому, что уже испытал?
– Вы – нет, а я – да, – отвечал Вердюре. – Без вас я не мог бы пробраться к банкиру. И я узнал сейчас все, что требовалось узнать: Андре Фовель непричастен к краже.
– А разве нельзя прикинуться барашком?
– Без сомнения, можно, но не в этом отношении. И это еще не все: мне нужно было узнать для некоторых целей, подозревает ли кого-нибудь сам Фовель? И я теперь смело могу сказать, что да.
Они остановились отдохнуть на углу улицы Лафит на месте, только что освобожденном от хлама после сломанного дома. Вердюре казался озабоченным, хотя и болтал, и то и дело оглядывался по сторонам, точно кого-то поджидал. Вскоре он вскрикнул от удовольствия, так как увидел появившегося Кавальона. Тот был без головного убора и бежал. На этот раз он был так взволнован, что не догадался даже поздороваться со своим другом Проспером и подать ему руку. Он прямо обратился к Вердюре.
– Поехали, – сказал он.
– Давно?
– Нет, с четверть часа тому назад.
– Ах, черт возьми! Если так, то нам дорога каждая минута!
И, достав записочку, которую он ранее написал у Проспера, он вручил ее Кавальону.
– Вот, – сказал он ему, – доставьте по адресу и возвращайтесь поскорее к себе, чтобы не заметили вашего отсутствия. Нехорошо выбегать без шляпы: это может возбудить подозрения.
Кавальон не заставил дважды повторять эти слова и бросился бежать. Проспер был поражен.
– Как? – воскликнул он. – Вы знакомы с Кавальоном?
– Как видите, – отвечал с улыбкой Вердюре. – Не стоит об этом говорить, и давайте поспешим.
– Куда еще?
– Узнаете. Идемте же, бегом, бегом!..
И они побежали по улице Лафайет. Добежав до дома № 81, Вердюре сразу остановился.
– Здесь, – сказал он Просперу. – Войдем!..
Они поднялись на второй этаж и остановились перед дверью, на которой была прибита вывеска: «Моды и платья».
Вдоль косяка висела роскошная сонетка, но Вердюре даже и не прикоснулся к ней. Вместо этого он как-то особенно постучал в дверь пальцем, и, точно там кто-то уже заранее дожидался этого сигнала, – дверь отворилась.
Им отперла женщина лет сорока, простая, но довольно прилично одетая, и без всяких разговоров проводила Проспера и его компаньона в небольшую столовую, в которую выходило несколько дверей. При виде Вердюре женщина эта ему низко поклонилась, точно была чем-то обязана ему. Он ответил ей на поклон и взглядом спросил ее: «Здесь?»
Женщина утвердительно кивнула.
– Да.
– В той комнате? – шепотом спросил Вердюре, указав на одну из дверей.
– Нет, – так же шепотом отвечала ему женщина, – вот здесь, в маленькой гостиной.
Вердюре тотчас же отворил указанную ему дверь и ласково втолкнул в нее Проспера.
– Входите… – сказал он ему на ухо. – Побольше хладнокровия!
Но предупреждения оказались напрасными. Переступив порог, Проспер не мог удержаться и громко воскликнул:
– Мадлена!
То действительно была она, прекраснее, чем когда-либо, очаровательная той спокойной и искренней красотой, которая так возбуждает удивление и в то же время требует для себя благоговейного почитания. Она сидела у стола, сплошь покрытого материями, приготовленными, без сомнения, для костюма фрейлины Екатерины Медичи.
При виде Проспера кровь бросилась ей в лицо и, чтобы не упасть, Мадлена ухватилась за край стола. Затем она овладела собой, и чувство обиды и негодования засветилось вдруг в ее чудных глазах.
– Как у вас хватило смелости шпионить за мной? – сказала она дрожащим от оскорбления голосом. – Как вы могли снизойти до того, чтобы следить за мной, стараться проникнуть в этот дом? Вы клялись мне своей честью, что никогда не будете искать со мной свидания. Так-то вы держите ваше обещание?
– Да, я клялся вам в этом, – отвечал он ей, – но…
Он остановился.
– Продолжайте, – сказала она.
– Столько событий произошло с того дня, что я мог думать, что клятва эта уже позабыта вами, тем более что она вырвана у меня благодаря моей же слабости. Совершенно случайно, совсем не по своей воле я сейчас имею честь вновь видеться с вами. Но, увы! При виде вас мое сердце трепещет от радости. Я не думаю, нет, я даже не могу себе вообразить, что вы настолько безжалостны, чтобы отнестись ко мне, такому глубоко несчастному человеку, хуже, чем отнеслись ко мне другие.
– Вы отлично знаете меня, – отвечала она ему, – знаете и то, что все, что касается вас, касается и меня. Вы страдаете… Я скорблю о вас так, как только может скорбеть сестра о горячо любимом брате.
– Сестра! – с горечью воскликнул Проспер. – С этим же самым словом вы тогда запретили мне встречаться с вами. Сестра! Зачем же было целых три года поддерживать во мне надежды? Значит, я был для вас братом и тогда, когда – помните? – мы клялись друг перед другом в вечной любви перед алтарем и вы повесили мне на шею священный амулет? «Из любви ко мне храните его, – сказали вы мне тогда, – он принесет вам счастье…»
Она сделала нетерпеливый жест.
– И вот год тому назад, – продолжал Проспер, – вы возвратили мне мое слово назад и вырвали у меня обещание никогда с вами больше не встречаться. И я не знал, что было этому причиной. Вы даже не удостоили меня сообщением ее. Вы меня изгнали, и, чтобы повиноваться вам, я старался убедить всех, что это я сам добровольно избегаю вас. Вы сказали мне, что какое-то непобедимое препятствие стало между нами, и я вам поверил. Глупый! Да ведь это препятствие – само ваше сердце, Мадлена! А тем не менее я благоговейно ношу на себе ваш амулет. Но он не принес мне добра!
Мадлена оставалась неподвижной, бледная как статуя, и обильные слезы катились у нее по щекам.
– Ведь я же вас просила позабыть обо мне… – пробормотала она.
– Позабыть! – воскликнул Проспер, возмущенный так, точно услышал богохульство. – Позабыть! Да разве же я мог?… Это значит – вы никогда не любили! Чтобы позабыть, чтобы сладить со своим сердцем, остается только одно средство… умереть.
Это слово, произнесенное с суровой решимостью, встревожило Мадлену.
– Несчастный! – воскликнула она.
– Да, несчастный! В тысячу раз более несчастный, чем вы можете себе вообразить! Вы никогда не поймете моих мучений. И вы говорите мне о забвении… Я искал его в вине и не нашел, я старался потушить это воспоминание о прошлом и не мог. И как только изнемогало мое тело, неумолимая мысль о вас начинала бодрствовать вновь. Теперь вы видите, что самоубийство для меня – это то, о чем только я могу мечтать.
– Я запрещаю вам произносить это слово.
– Что вам запрещать тому, кого вы не любите, Мадлена!
Мадлена хотела говорить, но какая-то внезапная мысль удержала ее. В отчаянии она воскликнула:
– Господи! За что такие страдания!
Проспер не понял смысла этого восклицания.
– Ваша жалость ко мне приходит слишком поздно, – возразил он с раздирающей сердце решимостью. – Счастье уже невозможно для такого человека, как я, который уже раз испытал неземное блаженство. Ничто больше не в состоянии привязать меня к жизни. Вы убили во мне мои лучшие мечты, я выхожу из тюрьмы обесчещенный моими врагами. Чего же ожидать еще? Напрасно я стараюсь заглянуть в будущее: в нем нет для меня ни надежд, ни радостей, ни счастья… Я оглядываюсь вокруг себя и вижу только беспомощное положение, отчаяние и позор.
– Проспер, мой друг, мой брат, если бы вы только знали…
– Я знаю только то, что вы меня не любите, Мадлена, что вы меня не любили никогда и что я вас люблю!
Он замолчал в ожидании ответа. Но его не последовало.
Вдруг молчание нарушилось, и кто-то зарыдал.
Это заплакала горничная Мадлены, скромно сидевшая в уголке у камина. Мадлена совсем забыла о ней, а Проспер, поглощенный горем, не заметил ее.
Он посмотрел на нее.
Эта молодая девушка была одета, как и все горничные, но нельзя было обмануться в том, что это был не кто иной, как… сама Нина Жипси.
Удивление Проспера было настолько велико, что он не мог произнести ни одного слова и даже не вскрикнул.
Ужас положения овладел им. Он был здесь в обществе этих двух женщин, которые играли такую разную роль в его жизни: одну любил он, но она его презирала, а другая любила его, но он был к ней совершенно равнодушен.