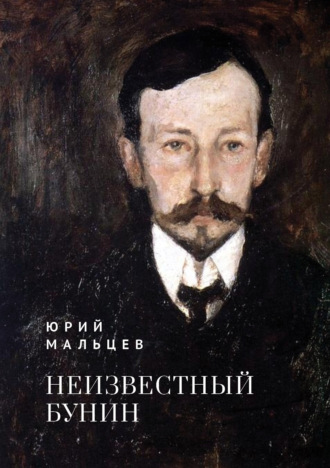
Юрий Мальцев
Неизвестный Бунин
IV. Перелом
«Я увидел сразу целых четыре литературных эпохи: с одной стороны Григорович, Жемчужников, Толстой; с другой – редакция – "Русского Богатства", Златовратский; с третьей – Эртель, Чехов; а с четвертой – те, которые, по слову Мережковского, уже "преступали все законы, нарушали все черты"», – писал Бунин о своих первых поездках в Петербург и Москву и о своем вхождении в большой литературный мир142.
В самом деле, для нас Жемчужников и Бальмонт, с которыми Бунин познакомился почти одновременно, принадлежат к двум разным векам, так же как Лев Толстой и Григорович кажутся писателями иной эпохи нежели Мережковский.
Всеобщий подъем, начавшийся в русском обществе в конце прошлого века и, всё нарастая, продолжавшийся во всех областях – экономической, политической и культурной – вплоть до начала Первой мировой войны, привел, как всегда бывает при бурном росте, к взаимному перекрещиванию самых разных явлений и к пестрому смешению старого и нового. «Начало моей новой жизни совпало с началом нового царствования, – скажет Бунин позже, – над всеми чувствами и мыслями преобладало одно – сознание того перелома, который совершился со смертью Александра III: всё сходилось на том, что совершилось нечто огромное – отошла в прошлое долгая пора тяжкого гнета, которого не было в русском обществе и политической жизни России со времен Николая I, и настала какая-то новая…»143.
Это новое проявлялось и в бурном экономическом росте, и в постепенной либерализации всей жизни общества, что в свою очередь привело к небывалому расцвету русской культуры. В философии, науке, искусстве и литературе начали возникать всё новые и новые течения, теории, школы, небывалого размаха достигло книгоиздательское дело, один за другим рождались новые журналы, альманахи, писательские кооперативные издательства.
Перелом наступил и в жизни Бунина. После того, как Варвара Пащенко бежала от него, оставив коротенькую записку (бежала она, по странному стечению обстоятельств 4 ноября 1894 года, то есть в день присяги новому царю, так что новая жизнь Бунина началась буквально в один день с новой эпохой), Бунина, близкого к самоубийству, оба брата отвезли в село Огневка к родным. (Имение Озерки уже более года как было продано, брат Евгений купил себе в Огневке небольшую усадьбу и упорным трудом создавал свое хозяйство). Прожив в деревне несколько месяцев, Бунин в январе 1895 года впервые поехал в Петербург, где завел первые литературные знакомства, в том числе с редакторами народнического журнала «Новое слово» А. Скабичевским и С. Кривенко.
Затем в феврале и марте жил в Москве. «Это начало моей новой жизни, – вспоминал он впоследствии, – было самой темной душевной порой, внутренно самым мертвым временем всей моей молодости, хотя внешне я жил тогда очень разнообразно, общительно, на людях, чтобы не оставаться наедине с самим собой»144. Эта замкнутость в себе и глубокое внутреннее одиночество при внешней общительности останутся в нем навсегда. Элегантный, стройный, с острой испанской бородкой и тонким аристократическим лицом, он будет появляться в столичных салонах, сверкая остроумием и пленяя обаянием, но нося в себе глубокую печаль и тревогу неразрешимых дум.
Вернувшись из Москвы в деревню, писатель снова занялся своим самообразованием, как он выразился, «по книгам и по жизни». Ходил по деревням, по ярмаркам, записывал народные песни, знакомился с нищими и юродивыми, основательно изучил английский язык и сделал блестящий перевод «Песни о Гайавате» Генри Лонгфелло. Перевел он ее напевным четырехстопным хореем, нерифмованным и с одними лишь женскими окончаниями. Этой находкой Бунина впоследствии будут пользоваться многие русские переводчики эпосов. За перевод «Песни о Гайавате» Академия Наук присудит Бунину в 1903 году Пушкинскую премию.
К Лонгфелло Бунин затем вернется еще раз и переведет части из его «Золотой легенды». Переведет также «Каина», «Манфреда» и «Небо и земля» Байрона, «Годива» А. Теннисона, кое-что из Мицкевича, из Леконт де Лиля и Мюссе.
В конце 1895 года к Бунину пришел первый большой успех: его рассказ о крестьянах-переселенцах на Дальний Восток «На край света» (довольно слабый и мало чем отличающийся от всей ранней бунинской прозы, но зато очень актуальный145), опубликованный в октябрьском номере журнала «Новое слово», был расхвален критиками. «Это уже не жанр, не бытописание, не этнография, не сухой и холодный протоколизм, а сама поэзия!» – писал, например А. Скабичевский146. Бунина пригласили в Петербург прочесть свой рассказ в знаменитом зале «Кредитного общества» на вечере 21 ноября 1895 г., организованном Обществом попечения о переселенцах, при участии таких светил того времени как Михайловский, Потапенко, Засодимский, Минский, Савина. Бунин имел огромный успех. После этого его пригласили сотрудничать во влиятельном петербургском журнале «Мир Божий», а издательница «Нового слова» О. Попова предложила ему издать первый сборник рассказов, который и вышел в Петербурге в январе 1897 года под тем же названием, что и нашумевший рассказ – «На край света».
Но после такого успеха, когда все дороги перед ним раскрывались, Бунин вдруг замолкает на целых три года (за это время им написано лишь два небольших рассказа и несколько стихотворений). «Сам чувствуя свой рост и в силу многих душевных переломов, уничтожал я тогда то немногое, что писал прозой, беспощадно; из стихов кое-что (то, что было менее интимно, преимущественно картины природы) печатал…», – пишет он в своей автобиографии (Пг. VI. 329). Он переживает глубокий внутренний кризис, переоценивает многое в своем миросозерцании, его духовное созревание протекает мучительно. «Внешне эта пора была одна, внутренне другая: тогдашние портреты мои, выражение их глаз неопровержимо свидетельствуют, что был я одержим тайным безумием», – именно к этой поре относится это уже цитировавшееся нами его высказывание147.
Только пройдя через этот кризис, он обретает наконец свое собственное писательское лицо и освобождается от конформизма. С этих пор твердая уверенность в собственных взглядах, бескомпромиссность и искренность станут отличительными чертами его творчества.
По дороге из Петербурга домой в деревню Бунин знакомится в Москве (12 декабря 1895 года) с Чеховым и дарит ему (два дня спустя) оттиск своего рассказа «На хуторе», в котором многие критики находят, на наш взгляд ошибочно, «чеховское настроение». С Чеховым у Бунина установится затем очень близкая дружба – оба они были людьми весьма одинокими и в общем-то «старомодными» среди шумной, суетливой и подчас морально неразборчивой литературной публики. Их сближала внутренняя отъединенность ото всех, острая ясность ума и наблюдательность, нравственная требовательность к окружающим.
Бунин не хочет постоянно жить в Москве или в Петербурге, как другие писатели. «В Петербург? Зачем? Будь они прокляты, эти большие города!» – пишет он брату Юлию (3 апреля 1895 г.)148. Позже, когда Юлий переселится в Москву и станет редактором педагогического журнала «Вестник воспитания», пребывания Бунина в Москве станут более долгими. Бунин войдет в литературный кружок «Среда» (к которому позже присоединятся Горький, Мамин-Сибиряк, Андреев, Куприн, Вересаев, Зайцев, Гарин-Михайловский). Но плодотворно работать и вольно дышать Бунин сможет только в деревне. Первое время он будет обычно работать у брата Евгения в Огневке, а потом чаще в имении своей кузины С. Пушешниковой в Васильевском.
Начиная с 1897 года, Бунин часто бывает в Одессе, где сближается с группой художников («Товарищество южно-русских художников»). На дружеских вечеринках здесь говорили не только о живописи, но и обсуждали литературные новинки, а Бунин читал свои стихи, но они не пользовались успехом, так как в них, как пишет художник П. Нилус, «не было гражданской скорби, они были наивны и благородны – качества, доступные не всем»149.
Здесь, в Одессе, Бунин в 1898 году знакомится с девятнадцатилетней красавицей, пустоватой Анной Цакни, дочерью издателя газеты «Южное обозрение», в которой Бунин сотрудничал. Пораженный ее красотой, Бунин почти сразу же делает ей предложение (23 сентября состоялась их свадьба). «Цакни была моим языческим увлечением», – скажет он сам впоследствии150. И действительно, если прибегнуть снова к греческой терминологии, Цакни была настоящая «Афродита пандемия». Ничего прочного, разумеется, не могло выйти из этого брака. Полное взаимное непонимание и неприятие Буниным богемной обстановки дома Цакни привели к скорому разрыву, который Бунин, тем не менее, опять очень остро переживал. В 1900 году, уже после разрыва с Буниным, Цакни рожает сына Николая, но этот единственный ребенок Бунина проживет всего лишь 4 года. Его смерть оставит в душе Бунина незаживающую рану. Фотографии сына будут постоянно с ним до самых последних дней жизни.
После разрыва с женой Бунин уезжает (в мае 1900 г.) к родным в деревню, Огневку, и пишет здесь свою лучшую поэму «Листопад» и знаменитый рассказ «Антоновские яблоки». В это же время (октябрь 1900 г.) Бунин вместе с художником В. Куровским совершает свое первое заграничное путешествие: Берлин, Париж, Женевское озеро, Бернские Альпы, Мюнхен. А два с половиной года спустя – отправится в первый раз на «Восток» – в Константинополь, где проживет около месяца и обогатится очень важными для него поэтическими переживаниями и духовными прозрениями.
Примерно в это же время его жизнь становится более обеспеченной и приятной, по крайней мере внешне. Ему начинают платить большие гонорары, и он может позволить себе жить широко, не стесняя себя ни в чем: останавливается в дорогих отелях, ночи напролет проводит в великолепных ресторанах в веселых и непринужденных артистических компаниях, часто ездит за границу, пользуется успехом у женщин и одерживает многочисленные победы. Бунин принимает участие в бурной, разнообразной и яркой художественной жизни того времени с оживленными и свободными дискуссиями, чтениями и публичными обсуждениями новых произведений, спорами о новых идеях в просторных и гостеприимных московских и петербургских домах (в некоторые дома гости съезжались лишь к полуночи после театра или концерта и засиживались до 6 утра). Впоследствии Бунин вспоминал: «Как всё было сказочно хорошо! Подумайте только – зимняя Москва, молодость, льстящая известность, рестораны, веселые кутежи, "литературно-художественный кружок", "писательские среды", беззаботность и легкость жизни… Однажды в середине зимы, рассердившись на Любу (некто Люба Р., мимолетная любовь Бунина – Ю. М.) из-за какого-то нелепого и не стоящего замечания пустяка, я взял плацкарту в спальном вагоне теплого и уютного экспресса Москва-Вена и ни с того, ни с сего ускакал в Ниццу. В Вене я столкнулся со старым другом, драматургом Найденовым, который тоже не знал толком, что его принесло в австрийскую столицу <…>. Остановились мы в Ницце в отличной гостинице. Солнце, море, нарядная толпа… Но мне не сиделось на одном месте. Дня через два мы укатили в Венецию <…>. Всё было доступно – только и жди, чего твоя левая нога захочет!»151.
Весной 1899 года Чехов в Крыму познакомил Бунина с Горьким, и с этого момента начинается многолетняя (до 1917 г.) их близость, которую многие со стороны принимали за дружбу, но которая дружбой на самом деле не была, а была некой странной и сложной смесью взаимной симпатии и антипатии, любви и ненависти, уважения и презрения, согласия и чуждости. Советские критики много потрудились для того, чтобы еще больше запутать этот сложный вопрос. Например, бытует утверждение, что Бунин якобы очень высоко ценил Горького как писателя и даже чему-то «учился» у него152, что в определенный период, примыкая к горьковской группе «Знания», он разделял «прогрессивно-демократические» идеи Горького и т. д. Для доказательства этих недоказуемых утверждений цитируются абстрактно-вежливые фразы из интервью Бунина и фразы из его писем к Горькому с выражением дружеских чувств. Письма Бунина к знакомым писателям вообще на редкость неинтересны, его внутреннее одиночество делало их поверхностными, натянуто-шутливыми или сухо-деловыми, а в письмах к Горькому, при всем их дружеском тоне нет ни одного конкретного положительного высказывания о произведениях последнего (а когда Бунину действительно что-то нравилось, он высказывался четко, точно и профессионально). Произведения Горького отталкивали Бунина своей фальшью, натужной риторикой, идеологической тенденциозностью, а главное – графоманским многословием и языком, то совершенно бесцветным и штампованным, то, напротив, напыщенно безвкусным и «красочным» (у художников «красочный» – бранное слово, не раз говорил Бунин)153. Однажды при чтении Горьким своего рассказа («поэмы») «Человек», это отвращение Бунина было так сильно, что он даже не смог скрыть его. Горький это заметил и стал смущенно извиняться перед Буниным, писательское превосходство которого над собой он ясно сознавал: «Вы правы, грубовато еще пишу, Иван Алексеевич, грубовато»154.
Нужно отдать Горькому справедливость, он одним из первых почувствовал силу и оригинальность Бунина и увлеченно пропагандировал Бунина как самого крупного из всех живущих русских писателей: «А лучший современный писатель – Иван Бунин, скоро это станет ясно для всех, кто искренне любит литературу и русский язык» (письмо И. А. Белоусову, 28 декабря 1911 года)155. «Знаете – он так стал писать прозу, что если скажут о нем: это лучший стилист современности – здесь не будет преувеличения» (письмо В. И. Качалову, 17 февраля 1912)156. Это же он откровенно говорил и самому Бунину: «Вы для меня – первейший мастер в современной литературе русской, – это не пустое слово, не лесть, вы знаете» (письмо 29 августа 1916 г.)157.
Чтобы доказать обратное, то есть восхищение Бунина горьковскими писаниями и его «ученичество» у Горького, советским критикам опять приходится прибегать к подтасовкам158. Идейную близость Бунина к Горькому стараются доказать и тем, что Бунин печатался в журнале Горького «Жизнь», в его сборниках «Знания» и издавал свои книги в одноименном издательстве. Но, во-первых, Бунин, чуждый всякой политике и политической борьбе, всегда относился с большим безразличием к тому, где печататься: он публиковался и в народнических журналах, и в декадентских альманахах, и в марксистских сборниках, а позже, в эмиграции, как в социалистических эмигрантских изданиях, так и в монархических. К тому же, литературная продукция, публиковавшаяся как в «Жизни», так и в сборниках «Знания» была намеренно отделена от политической линии издательства. Это даже поразило В. Короленко, который писал в «Русском богатстве» (под псевдонимом «Журналист»): «Прежде беллетристика выступала в союзе с теми или иными общественно-политическими течениями, теперь она порывает эту связь. Беллетристы "Знания” считают более удобным выступать самостоятельно, легким строем, без тяжелой артиллерии и других родов литературного оружия»159. Горьковские сборники «Знания» расходились большими тиражами, они были свободны от предварительной цензуры, авторам платили большие гонорары, и напечататься там было мечтой многих. Несомненно, откладывало свой отпечаток на отношение Бунина к Горькому и сознание своего превосходства, при его второстепенном и зависимом по отношению к Горькому положении в общественной игре. (Теперь такое соотношение представляется просто абсурдным, как невероятным кажется, что Потапенко затмевал своей славой Чехова. Время всё поставило на свои места, Горький сегодня – лишь предмет принудительного изучения в советских школах, тогда как интерес к Бунину растет с каждым днем160.) Со своей стороны и Горький, опьяненный успехом и преклонением перед ним прогрессистской общественности, которая в те времена задавала тон, при всем его осознании бунинского гения, чувствовал себя гораздо значительнее, и это тоже отравляло их отношения.
И тем не менее, Бунина многое привлекало в Горьком: и его страстная любовь к литературе, готовность жить ради нее, и его искренние, восторженные, часто наивные порывы к прекрасному, доброму, возвышенному, и его нелюбовь к декадентству. Оба, сознавая свою несхожесть, как художническую, так и мировоззренческую, бывали часто взаимно неискренними и расчетливыми в своих отношениях, но бывали у них и моменты подлинной близости и любви. После окончательного разрыва в 1917 году, когда они стали открытыми врагами и резко полемизировали в печати, оба тем не менее с какой-то ревностью и грустью следили друг за другом. Горький часто поминал в публичных выступлениях имя Бунина (пренебрегая тем, что оно уже было запрещено в СССР) как великого мастера русской литературы, а Бунин, узнав о насильственной его смерти от рук сталинских слуг, испытал вдруг, неожиданно для самого себя, приступ глубокой скорби и жалости…
Впервые подлинное мироощущение Бунина проявляется в таких рассказах как «На хуторе» («Фантазер»), «На Донце» («Святые горы»), «Перевал».
Уже в рассказе «На хуторе» (1895 г.) есть и сожаление о быстротечности и печали человеческой жизни («Как, в сущности, коротка и бедна человеческая жизнь!»); и проклятая мысль о неизбежности смерти («Как же это так? – сказал он вслух. – Будет всё по-прежнему, будет садиться солнце, будут мужики с перевернутыми сохами ехать с поля… будут зори в рабочую пору, а я ничего этого не увижу, да не только не увижу – меня совсем не будет!» (здесь и далее: Пг. II. 27); и одиночество человека («один – как всегда»); и иллюзорность жизненной перспективы («Сколько лет представлялось, что вот там-то, впереди, будет что-то значительное, главное…»). Бунин говорит о невозможности счастья и – в то же время – о неистребимом и мучительном человеческом желании невозможного, об отчуждении человека от собственного «я», о загадочной трансцендентности сознания («Он чувствовал, что он сам следит за своею походкою и фигурою, представляет себя как другого человека, шагающего в полусвете старинной залы…»).
Но в то же время есть тут и сознание, что с такой безнадежностью нельзя ни жить, ни писать. Спасительное успокоение приходит от созерцания безмятежной гармонии природы и от сознания ее непостижимой тайны («Звезды в небе светят так скромно и загадочно; сухо трещат кузнечики, и убаюкивает и волнует этот шепот-треск…»). Позже стрекот насекомых и пение ночных цикад станет у Бунина постоянным символом неиссякаемой силы жизни, ее безостановочного и загадочного потока.
Но неубедительным, не разрешающим трагедии, а лишь смягчающим ее остроту, представляется в финале рассказа «На хуторе» умиротворение героя (и автора). Чувствуя эту неубедительность, Бунин значительно переработал его для последующих изданий. В первой журнальной версии161 было: «Поднимались тревожные мысли о смерти, о прожитом, в сущности на них был ответ, он ощущал в себе другое настроение, другой голос, который говорил: "Ну, так что же? Всё это было во веки веков и всегда будет"». Здесь утверждение «в сущности на них был ответ» – звучит категорически и обобщенно, как авторское резюме.
Позднее Бунин убрал его и свел всё лишь к субъективному ощущению героя: «И от этой глубины, мягкой темноты звездной бесконечности ему стало легче <…>. Он легко, свободно вздохнул полной грудью. Как живо чувствовал он свое кровное родство с этой безмолвной природой!» (Пг. II. 28). Смягчать безысходность тоски Бунина побуждало, вероятно, не только сознание абсолютной невозможности такой жизненной позиции, но – всё еще – и оглядка на прогрессистскую критику. Так в рассказе «Перевал», представляющем собой развернутую метафору в духе символизма: жизнь – трудное восхождение на вершину, спуск и снова непрерывное восхождение до тех пор, пока неизбежный конец не оборвет его, – «прогрессивный» критик остался недоволен фразой: «Дойдем – хорошо, не дойдем – всё равно»162, и Бунин убрал ее из всех последующих изданий рассказа.
Это же устранение безнадежности успокаивающим слиянием с природой, мы находим и в тогдашней лирике Бунина, в ней такое преодоление выглядит гораздо более убедительным, ибо из плана философского переносится в план экзистенциальный. Проблема решается экзистенциально, а не умозрительно, точнее не решается совсем, ибо решение ее просто отменяется в плане экзистенциальном как ненужное. «Ужели в жизни цели нет?» – восклицает разум. «Безумец, погляди кругом», – отвечает чувство («Он говорил в тоске тревожной»). И отчаяние из-за того, что «не разрешит твой ум тревожного сомненья, не объяснит он смысл земного бытия» («Поэту»), устраняется как «больная мысль» здоровой радостью жизни, «счастьем в жизни потонуть», упоением «счастьем жизни». Много лет спустя он запишет в дневнике (4 августа 1917 г.): «Способность ждать счастья – это и есть счастье»163. Он всегда повторял слова отца, что печаль сама по себе и есть самое большое несчастье.
Вопрос разума остается без ответа, ибо поэт уходит из сферы разума в область чувства и инстинкта, который говорит ему: «Не верю, что умру, устану». Эта разорванность человеческого существа между двумя сферами: разумом и чувством, духом и природой, – где в одной – трагическая неразрешимость вопросов, а в другой – бездумное опьянение жизнью, останется навсегда драматической доминантой всего творчества Бунина. Она находит свое замечательное выражение в прекрасном стихе «На распутье»:
Жизнь зовет, а смерть в глаза глядит.
Но упоение жизнью – лишь моменты экстаза, оно не может быть длительным состоянием. Очнувшимся сознанием оно начинает пониматься как обман. В программном рассказе «Перевал» (им Бунин открывает первый том прозы своего собрания сочинений в издании Маркса) мы читаем: «День опять обрадует меня людьми и солнцем, и опять надолго обманет меня». Приходится убеждать себя, что надо довольствоваться хотя бы той малой долей радости, которую способна дать жизнь нам ежедневно, что надо «счастьем простым дорожить»:
С открытой бродить головой,
Глядеть, как рассыпали дети
В беседке песок золотой…
Иного нет счастья на свете
(«Нет солнца, но светлы пруды»)
И тогда снова зовет и прельщает «радость, которой в жизни нет» («К прибрежью моря длинная аллея») и манит мечта:
И мечта, быть может, воплотится,
Что земным надеждам и печалям
Суждено с небесной тайной слиться!
(«Не устану воспевать вас, звезды!»)
Так поэт приходит к своему эстетическому и жизненному кредо:
Ищу я в этом мире сочетанья
Прекрасного и вечного.
(«Ночь»)
…Это не красота Достоевского, которая «спасет мир»: она у Бунина лишена всякого этического содержания, она связана лишь с вечностью и с огромностью навсегда закрытой и непостижимой для человека тайны мира. Бунин не верил в соловьевское триединство Красота-Добро-Справедливость. И не случайно как антитезисная перифраза Дантовского финала («LAmore che muove il sole e 1’altre stelle» – «Любовь, что движет солнце и планеты»), звучит бунинская строка: «Красота, что мир стремит вперед» («Огни небес»).
Отчужденность человека от мира и странная обособленность его натуры – уже в этот период предстают у Бунина как тема некоммуникабельности (один из лучших его стихов этого времени так и озаглавлен «Одиночество»). Одиночество человека представляется как неустранимое состояние.
Но кому и как расскажешь ты,
Что зовет тебя, чем сердце полно!
(«Ночь печальна, как мечты мои», на слова этого прекрасного стихотворения С. Рахманинов написал свой знаменитый романс).
Здесь и тютчевский мотив невыразимости внутреннего опыта:
Зачем и о чем говорить?
……………………………
И чем же? – одними словами!
……………………………
Никто не сумеет понять
Всю силу чужого страданья!
(«Зачем и о чем говорить?»)
В это же время и в стихах и в прозе – выявляется уже ясно бунинское представление странной антиномичности человеческой души, столь отличное от толстовской логически-после-довательной «диалектики души». По Бунину противоположные чувства одновременно живут в душе человека, и движения ее часто совершенно непонятны, во всяком случае, не объяснимы в рациональных терминах. Это открытие эмоциональной синхронности разных чувств равнозначно джойсовскому открытию синхронности различных мыслей в потоке сознания (которая, впрочем, тоже есть и у Бунина, как мы увидим позднее).
Уже в рассказе «Перевал» читаем, что «сладостна безнадежность», что «отчаяние начинает укреплять меня» и «злобный укор кому-то за всё, что я выношу, радует меня». То же в стихах. Противоположные чувства взаимосвязаны и взаимообратимы: страдание – наслаждение, скорбь – радость и т. д.
Ужель есть счастье даже и в утрате?
(«Растет, растет могильная трава»)
И еще настойчивее и определеннее:
О, ночь любви! Ужель и в счастье
Нам нужен хоть единый вздох?
(«Тень»)
Позже он будет формулировать это с вызывающей парадоксальностью: «Как бесконечно я несчастен, томясь своим счастьем, которому всегда не достает чего-то» («Цикады»)164.
Мелькает даже чувство сладостности смерти («как смерть был сладок и тяжел» – «Геймдаль искал…»). Смесь сладости и печали характеризует само присутствие в мире, ранящем и радующем своей вечной красотой, нам недоступной.
И гул сосны, и ветерка
Однообразный шелест в чаще…
Невыразима их тоска,
И нет ее больней и слаще!
(«Вирь»)
Тоску по «Божественной гармонии Созданья» Бунин приписал даже Джордано Бруно и вложил в его уста свое собственное ощущение:
В радости моей – всегда тоска,
В тоске всегда – таинственная сладость!
(«Джордано Бруно»)
Бунин склонен считать, что такая антиномичность присуща более всего «загадочной русской душе»: «На севере отрадна безнадежность» («Безнадежность»). И именно в русской глуши «скорбной песни красота полна неотразимой силы!» («Вирь»).
Как раз с этим бунинским открытием следует соотнести появление в его языке оксюморонов, контрастных составных эпитетов и составных наречий («печально-веселые песни», «дико-радостно билось сердце», «насмешливо-грустно кукует», «жалобно-радостный визг», «таинственно-светлые дебри», «страдальчески-счастливое упоение», «грустно-празднично», «знойно-холодный ветер», «счастье вины», «несчастен счастьем», «ужас восторга», «радостный гнев», «восторженно рыдала» и т. д.). Впоследствии в использовании их Бунин достигнет виртуозного мастерства. Они будут придавать его стилю драматичность, волнующую тайну и одновременно выразительную лаконичность.
Очень интересен для понимания миросозерцания Бунина рассказ «На Донце» («Святые горы»), собственно, не рассказ, а скорее опять очерк, но, конечно, в бунинском понимании этого жанра, а не в духе «физиологического очерка» натуральной школы, столь модного в 40–60 годы и носившего четко выраженный социологический характер. Для Бунина же очерк – это жанр, позволяющий свободно выражать авторское отношение к описываемому, выводящий авторскую речь из сухой
* Оксюмороны любил также и Тургенев, но у него они всегда строятся на довольно понятном, и до некоторой степени даже привычном контрасте («леденящая вежливость», «горделивая скромность», «застенчивая развязность», «трусливая дерзость» и т. и.), а не на взаимоисключающем противоречии, как у Бунина. Бунинскому оксюморону скорее ближе экстравагантно-смелые и парадоксальные оксюмороны Ломоносова и Тредиаковского. нейтральности и делающий ее одним из основных эмоционально и идейно действующих компонентов художественной структуры. Очерк позволяет не связывать себя рамками сюжета, повествующее «я» целиком совпадает с реальным авторским.
Бунин рассказывает о своем путешествии в Святогорский монастырь. Здесь мы находим и его мысли о «ничтожестве земного существования», и отчужденное равнодушие природы, сталкиваясь с которым, «человек убеждается в суетности и слабости своих земных порывов» (Пг. II. 96), и представление об изначальной, экзистенциальной тоске человека, свойственной, по его мнению, даже кочевнику древних времен, который «видел молчаливое небо и тосковал невыразимой тоскою, чуял невнятный голос природы, говорящий нам, что не на земле наша родина…» (Пг. II. 96)1б5. И в то же время мы видим тут бездумную и беспричинную радость существования («Солнце согревало меня, и я закрывал глаза, чувствуя себя вполне счастливым» (там же – Ю. М.)).
В очерке «На Донце» в полную силу звучит мотив, который станет одним из основных во всем творчестве Бунина – мотив прошлого, еще не соединенный, правда, здесь с его субъективным аспектом, то есть с проблемой памяти.
Прошлое предстает овеянное поэзией, как сказочное, более счастливое и более истинное существование. Древний курган «вспоминает далекое былое, прежние степи и прежних людей, души которых были роднее и ближе ему, лучше нас умели понимать его шепот» (теория регресса). Автор-герой весь под властью обаяния прошлого. Без прошлого настоящее бессмысленно и не имеет цены, если оно не соединено вневременной сущностной связью с вечным и неизменным в основе потоком жизни:
«Я всё думал о той чудной власти, которая дана прошлому. Откуда она и что она значит? Не в ней ли заключается одна из величайших тайн жизни? И почему она управляет человеком с такой дивной силой? В чувстве религиозном наше часто не сознаваемое преклонение перед прошлым, наше таинственное родство с мыслями и делами всех отживших играет великую роль…» (Пг. II. 98)166.
Впервые эта тема прошлого – как центральная – появляется в рассказе «Байбаки» («В поле») и потом развивается в рассказах «Антоновские яблоки», «Руда» («Эпитафия»), «Скит» («Мелитон»), «Сосны», «Новая дорога», «Над городом», чтобы позднее получить свое наивысшее выражение в повести «Суходол». Почти во всех этих рассказах печаль о прошлом переплетается с грустным созерцанием «запустения» и упадка помещичьих усадеб, исчезновения старых форм жизни и замены их новыми, гораздо менее привлекательными.
Вся советская критика рассматривает эту тему в свете марксистской доктрины замены феодального строя капиталистической системой, которая была, мол, Бунину как дворянину чужда. Но в рамках этой догматической схемы невозможно понять всё богатство аспектов бунинского творчества этих лет и даже самый его смысл.
В разрушении помещичьих усадеб Бунин видит проявление общего страшного закона жизни – энтропии и неумолимое самоутверждение самого жуткого для него и таинственного феномена – Времени. С такой же печалью будет он затем бродить на востоке по руинам древних великолепных храмов, дворцов и городов, пожранных чудовищем-Временем, хотя никакой новой (не то что высшей, а хотя бы новой) «общественно-экономической формации» там на смену старой не пришло, и жизнь людей осталась столь же первобытно-дикой или даже еще более дикой чем прежде. «…Меня влекли все некрополи, кладбища мира! Это надо заметить и распутать», – скажет он потом167.



