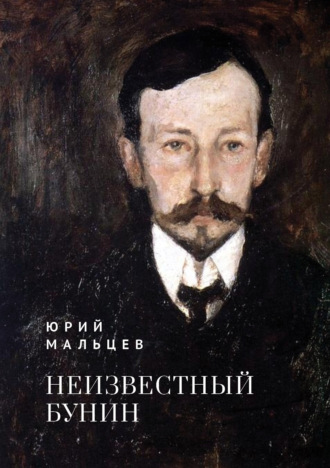
Юрий Мальцев
Неизвестный Бунин
Определенную антитолстовскую направленность советские критики усматривают в рассказах Бунина «В лесах» и «В августе». Но интерпретировать эти рассказы как антитолстовские можно лишь с большой натяжкой, и совершенно игнорируя тот факт, что в последующие годы Буниным созданы произведения, в которых явно звучат толстовские нотки (например, «Старуха», 1916 г.). Отношение Бунина к толстовству (а не к толстовцам) никогда не было однозначным: он никогда не принимал его целиком и никогда целиком не отрицал, а главное, никогда не ставил сознательно себе задачи в своем творчестве соизмеряться с толстовством.
Почти одновременно с «Антоновскими яблоками» Бунин написал свой первый поэтический шедевр – «Листопад», осеннюю поэму, как сказано в подзаголовке. Под этим же заглавием он выпустил и сборник стихотворений, принесший автору большой успех. Бунин был назван одним из лучших поэтов современности и потом еще целое десятилетие во мнении широкой публики был прежде всего поэтом, а его проза (плохо понимавшаяся современниками) считалась чем-то второстепенным.
В «Листопаде» можно уже видеть все отличительные особенности, присущие зрелой поэзии Бунина: простоту, заземленную, без «поэтического» (ложнопоэтического) пафоса интонацию, намеренную традиционность стиха с малозаметными для неопытного взгляда новшествами в метрике и рифмах и, наконец, непринужденность речи, своей свободою и намеренными прозаизмами приближающуюся к разговорной (и как следствие – обилие enjambement).
Бунин постоянно говорил, что не видит различия между стихами и прозой – и тому и другому, по его мнению, в равной степени должны быть присущи как музыкальность, ритмичность, эмоциональность, так и безыскусная простота. Это единство стихов и прозы он подчеркивал и тем, что не делил свои книги на сборники стихов и сборники рассказов, а комбинировал одно с другим, что было довольно важным новшеством для того времени. «Прежде всего я не признаю деления художественной литературы на стихи и прозу. Такой взгляд мне кажется неестественным и устарелым. Поэтический элемент стихийно присущ произведениям изящной словесности одинаково как в стихотворной, так и в прозаической форме. Проза тоже должна отличаться тональностью. <…> К прозе не менее, чем к стихам, должны быть предъявлены требования музыкальности и гибкости языка. <…> Мне думается, я буду прав, если скажу, что поэтический язык должен приближаться к простоте и естественности разговорной речи, а прозаическому слогу должна быть усвоена музыкальность и гибкость стиха», – говорил Бунин в одном из своих интервью194.
Отметим сразу же, что многие критики впоследствии считали прозу Бунина гораздо более поэтичной, музыкальной и магически напряженной, нежели его стихи, что немало огорчало его.
О «Листопаде» написали хвалебные рецензии А. Куприн («Журнал для всех», 1902, № 2), С. Глаголь («Курьер», 14 ноября 1901 г.), К. Чуковский («Одесские новости», 26 февраля 1903 г.), а Блок (заклятым врагом которого станет впоследствии Бунин) даже сопоставил Бунина с Пушкиным, отметив, что такие стихи, как например, «Сапсан» (о призрачной птице, «гении зла») мог написать «только поэт, проникший в простоту и четкость пушкинского стиха»195.
V. «Модерность»
Бунин по-настоящему вошел в русскую литературу почти одновременно с появлением русского модернизма, и соотношение его творчества с литературным авангардом полно интереснейших созвучий и контрастов. Правда, никто не способствовал так затуманиванию этого вопроса, как сам Бунин. Его яростные выступления против декадентов, символистов, футуристов, акмеистов и т. д., и ненавязчивость новаторских приемов в собственном творчестве, его «модерность» (как он сам выразился196), привели к тому, что долгое время он считался старомодным писателем, целиком вписывавшимся в классическую реалистическую традицию. Этому способствовала его близость к «знаньевцам», выступавшим в защиту реализма, хотя группа эта на самом деле была очень разнородна и в отличие от других литературных группировок никогда не провозглашала общих программных принципов.
Мы уже говорили о том, сколь далек Бунин от традиционного реализма и своим мироощущением и своей поэтикой (эту несхожесть всегда сознавал и он сам197). И тем более был далек он от описательного бытовизма «знаньевцев». Даже традиционные на первый взгляд для реализма темы и жизненные ситуации решаются Буниным совершенно по-иному и очень своеобразно. Но особенно эта несхожесть с реализмом бросается в глаза при чтении его произведений, созданных в первое десятилетие нашего века.
Близость Бунина к символистам в конце 90-х – начале девятисотых годов признают сегодня почти все критики, за исключением ортодоксальных советских. В этот период Бунин был в близких дружеских отношениях с Бальмонтом и Брюсовым. В период близости к Цакни Бунин был фактическим руководителем газеты «Южное обозрение» и охотно публиковал в ней произведения Бальмонта и Брюсова. Газета «Южное обозрение» одна из первых начала печатать произведения русских модернистов Н. Минского, Д. Мережковского, Ф. Сологуба, 3. Гиппиус и других. Брюсов замечает в своем дневнике: «Мои стихи напечатаны Буниным в своей газете. Что бы там ни было, всё же это первые мои стихи, напечатанные не мною самим»198. В свою очередь Брюсов позже (1901 г.) издал в символистском издательстве «Скорпион» бунинский сборник «Листопад».
В 1901 году, когда отношения Брюсова и Бунина стали разлаживаться, Бунин писал Брюсову (5 февраля 1901 г.): «…Огорчен Вами. Почему я исключен из "Северных цветов?" <…> Вы знаете, что ко всем Вам я питаю очень большое расположение, как к товарищам, к немногим товарищам, дорогим мне по настроениям и единомыслию во многом»199.
Но даже разрыв с Брюсовым не помешал Бунину в последующие годы печатать свои произведения в символистских журналах, альманахах, сборниках и издательствах («Золотое руно», «Перевал», «Карабли», «Факел», «Гриф», «Шиповник» и др.) Любопытно отметить, что критика тех лет была полностью дезориентирована этой непонятной двойственностью Бунина, и в то время как одни поносили его или хвалили за модернизм200, другие хвалили за верность традициям201. Но в целом, надо сказать, что русские модернисты не поняли всю огромность и необычность Бунина. Позже Вейдле воскликнет с удивлением: «И как ухитрились проглядеть бунинское искусство в том самом литературном лагере, где только и была художественная культура, достаточная для его оценки»202. Один лишь Белый, правда, с запозданием, признал это203. Высказывания же о Бунине Брюсова, Гумилева, Ремизова, Мандельштама, Цветаевой и др. поражают своей слепотой. Как, впрочем, и высказывания Бунина о них. Непонимание было взаимным и объяснялось в первую очередь причинами внелитературными.
Бунин, при всей своей кажущейся традиционности, выразил все (или почти все) мотивы, присущие новому искусству. Но только у него, в отличие от авангардистов, поиски художественной формы и приема никогда не становились самоцелью. Форма рождается вместе с содержанием и неотделима от него, утверждал он. Она «рождается сама собой из содержания» (М. IX. 374). Бунину было чуждо стремление Белого и других сделать именно форму содержанием. «Самосознание» формы, ищущей самое себя и поглощающей все силы художника, было Бунину непонятно. Бунин – пример такой редкой цельности и органичности творчества, какую мы находим в русской литературе лишь у немногих. И именно поэтому, в то время как творения некоторых его экстравагантных современников для нас сегодня сохраняют ценность лишь исторических курьезов, создания Бунина поражают как открытие, будят чувство и мысль, и при каждом их новом прочтении ощущаешь в них что-то новое.
Первое, что обычно отмечают в бунинских рассказах начала века – их бессюжетность и лиричность. В самом деле, «Туман» – описание чувств лирического героя в туманную ночь на корабле, контраст ночной и дневной душевной жизни; «Костер» – рассказ об одном взгляде незнакомой девушки и связанных с этим переживаниях лирического героя; «В августе» – летний послеобеденный зной и портрет женщины; «Осенью» – прогулка влюбленных; «Новый год» – новогодняя ночь супругов в уединенном деревенском доме; «Тишина» – рассказ о тишине на Женевском озере; «Надежда» – любование парусником в море и мысли в связи с этим; «В Альпах» – прогулка в горах; «Ночлег» – ночевка в лесной сторожке; «С высоты» – переезд через перевал и сопутствующие ему мысли, чувства; «Сны» и «Золотое дно» – картинки народной жизни, лиризм здесь приглушен интересом к наблюдению; «Счастье» (первое название «Свидание», потом «Счастье» и, наконец, «Заря всю ночь») – переживания девушки в ночь накануне сватовства.
Рассказы этого типа не есть нечто исключительное, присущее только этому периоду бунинского творчества. Такие рассказы он писал и в последующие годы в период создания своих знаменитых «сюжетных» вещей (например, «Пост» 1916 г. – думы, чувства, видения в предпасхальный вечер, или «Забота» 1913 г. – портрет зажиточного мужика Авдея Забота, или «Будни» 1913 – каникулы семинариста в деревне и т. д.). А в последние годы они стали доминирующим жанром его прозы, став еще короче, бессюжетнее и «модернее». Можно сказать, что Бунин создал новый жанр в русской литературе. Ильин дал, на наш взгляд, не совсем удачное название этим бессюжетным рассказам Бунина – «мечтания»204. Точнее было бы определить их как «фрагменты». Фрагмент как жанр. В этом и отличие бунинских миниатюр от, скажем, стихотворений в прозе Тургенева, которые более фабульны, рациональны, сухи и «прозрачны», нежели бунинские: нет в них той глубокой скрытой музыки и той магии, что у Бунина. Лишь немногие из них приближаются по характеру к бунинским фрагментам, такие как «Когда меня не будет…», «Я встал ночью», «Когда я один», «Как хороши, как свежи были розы». Пожалуй, ближе бунинским миниатюрам «Опавшие листья» Розанова, можно даже сказать, что Бунин дал музыкальный эквивалент медитациям Розанова (хотя у Розанова исповедальная искренность становится приемом, тогда как самозабвенное бунинское излияние немыслимо без предельной искренности).
Неудовлетворенность традиционными формами повествования чувствовали тогда все большие писатели, включая Толстого. «Начал было продолжать одну художественную вещь, – писал он Лескову в 1893 году, но, поверите ли, совестно писать про людей, которых не было и которые ничего этого не делали. Что-то не то. Форма ли эта художественная отжила или я отживаю?»205. И примерно в то же время он записывал в своем дневнике: «Форма романа не только не вечна, но она проходит. Совестно писать неправду, что было то, чего не было. Если хочешь что сказать, скажи прямо»206. И еще: «Напрашивается то, чтобы писать вне всякой формы»207.
То же самое чувствовал и Бунин. 18 июля 1899 года он писал Н. Телешову: «С удовольствием узнал, что ты совершенно то же испытываешь, что и я, то есть ищешь сюжеты и выплевываешь. Ей-Богу это верно, но верно и то, что всё это подлость. К черту сюжеты, не нужно выдумывать, а пиши, что видел и что приятно вспомнить»208. А первого июля 1901 года В. С. Миролюбову, издателю «Журнала для всех», в ответ на замечание того об обилии описаний природы Бунин пишет: «Это у нас еще старых вкусов много – всё "случай", "событие" давай»209. Именно в эти годы уже созревает в нем желание «писать ни о чем». Это страдание от условности литературной формы и стремление найти безыскусный прямой способ выражения своего внутреннего опыта будет мучить Бунина всю жизнь. «Зачем герои и героини? Зачем роман, повесть, с завязкой и развязкой? <…> И вечная мука – вечно молчать, не говорить как раз о том, что есть истинно твое и единственно настоящее, требующее наиболее законно выражения, то есть следа, воплощения и сохранения хотя бы в слове!» – скажет он в рассказе «Книга» в 1924 г. Еще раз заметим, что Бунин оставался пленником своих принципов: если бы он «дал себе волю» и, как модернисты, занялся открытым экспериментаторством, он бы создал произведения, ошеломляющие своим новаторством (на это указывают многие его черновики), но он смирял себя. Очень важно бунинское признание: «Я никогда не пишу того, что мне хочется, и так, как мне хочется. Не смею»210.
Страдание из-за условности литературной формы у него осложнено еще большим страданием от принципиальной невозможности адекватного выражения своего чувствования и своего понимания, выражения того «глубокого, чудесного, невыразимого, что есть в жизни и во мне самом и о чем никогда не пишут как следует в книгах» (М. V. 179). «Я всю жизнь испытываю муки Тантала. Всю жизнь я страдаю от того, что не могу выразить того, что хочется»211. При писании, как и при исчислении бесконечно малых величин, остается всегда иррациональный остаток.
Такое же чувство невыразимости мучило Андрея Белого, который даже возвел эту невыразимость в принцип и теоретизировал по поводу возможных литературных приемов ее преодоления (см., например, его предисловие к «Четвертой Симфонии»). И это очень близко тому «гносеологическому одиночеству», о котором позднее говорил А. Крученых: «Переживание не укладывается в слова (застывшие понятия) – муки слова – гносеологическое одиночество» (А. Крученых, «Взорваль»). Но если русские футуристы находили очень легко простой выход из этого в заумном «свободном» языке, то есть практически узаконивали это гносеологическое одиночество, то Бунин всю жизнь терзался попытками выразить общепонятными словами невыразимое.
Все традиционные литературные формы казались обветшавшими, писатели ощущали кризис культуры. Казалось, сбывалось пророчество Гегеля о конце художественной литературы. Многие писатели-модернисты видели выход в открытом афишировании условности («неправды» по Толстому). Выставляемая на показ художественная форма становилась предметом особого внимания автора и публики. Но открытость приема в конце концов тоже превращалась в прием и заводила искусство в тот порочный круг, где оно теряло свой возвышенный статус и становилось игрой.
Бунин же видел выход в противоположном: в отказе от всякого притворства и всякой условности. «Я», о котором повествовалось, сливалось у него с «я» повествующим, а «я» повествующее спивалось с «я» авторским. В этой открытой и серьезной исповедальности искусства он видел спасение не только от фальши и условности, но и от времени, от забвения, от смерти.
В десятилетие, предшествовавшее эмиграции, и в 20-е гг. Бунин создал свои самые прославленные сюжетные произведения (никогда, впрочем, не отказываясь, как мы уже заметили, и от бессюжетных композиций). Но никогда сюжетная интрига не была у него в центре внимания. Драматизм его произведений не в сюжетной коллизии, а в самой атмосфере и в тоне повествования. Иногда фабула сообщается им в первых же фразах («Сосны», «Исход», «Захар Воробьев», «Легкое дыхание»), задается как музыкальная тема и всё последующее является лишь ее развитием. То, что должно было бы быть кульминацией сюжета оказывается оттесненным на задний план, акцент падает совсем на другое: не на «что», а на «как». Бунину было знакомо то, что Ролан Барт назовет впоследствии «приключением языка».
В некоторых бунинских рассказах вообще отсутствуют кульминация и развязка, а есть только зачин сюжета, как например, в рассказах «Отто Штейн» или «Клаша», где происходит знакомство молодого человека с девушкой, а о дальнейшем читатель может только догадываться212.
Начало и завершение события почти никогда не совпадают у Бунина с началом и концом рассказа. Началу действия часто предшествуют автономные и даже как бы «излишние» картины. А за завершением действия часто следует «постскриптум», неожиданно открывающий нам новую перспективу, в которой надо рассматривать всё рассказанное (например, рассказ «Красный генерал»). Иногда в самых последних строках («Иоанн Рыдалец», «Клаша», «Легкое дыхание» и др.) вдруг появляется новое действующее лицо. Действие («сюжет») таким образом намеренно низводится с центрального места, рамки рассказа раздвигаются в бесконечность жизни и он обретает характер «фрагмента». Литература «преодолевается» устранением барьера между рассказанным и нерассказанным, главным и второстепенным. Причинно-следственная связь утрачивает свою рациональную прямолинейность. Незаконченность и недосказанность повышают активность читательского восприятия.
Многие рассказы Бунина начинаются длинным рядом назывных предложений, без глагола (например, начало рассказа «Новая шубка»: «Париж в снегу, серый день, бледный от снега, и Париж весь бледный и просторный. Свежий воздух, ясно слышны запахи – автомобильного бензина, каменного угля»213, или начало рассказа «Пост»: «Деревенская усадьба, начало марта, первые недели великого поста. Дни темные, однообразные. Но это уже канун весны…» (М. IV. 416)). Да уже и «Сосны» начинаются так: «Вечер, тишина занесенного снегом дома, шумная лесная вьюга наружи…» (Пг. II. 196). В поздних рассказах, когда Бунин будет добиваться максимального лаконизма, такие «назывные» начала рассказов станут напоминать киносценарий (или театральные ремарки) – см., например, начало рассказа «Русь града взыскующая» (1930): «Деревня, усадьба, предвечернее летнее время…»214.
Иногда весь рассказ написан телеграфным слогом и каждая фраза с новой строки, как новый кадр. А подчеркнутый ритм придает описанию некую сюрреальность:
«Как вдруг вошел сын.
Изба была вся голубая от дыму.
Старик кончал двадцатую чашку.
И сын так крепко стукнул его костылем в темя, что он мгновенно отдал Богу душу»215.
Как будто читаешь Даниила Хармса!
Но не только начало многих рассказов статично и «излишне». Автономные картины то и дело перебивают ход действия, задерживая наше внимание. Чаще всего это картины природы, которая, как мы уже говорили, у Бунина никогда не фон, а главное действующее лицо – вездесущая стихийная сила жизни. Картины природы у Бунина завораживают, опьяняют, затягивают в тот магический круговорот, в котором начинаешь ощущать само дыхание вечной жизни. Это великолепно выразилось в конце рассказа «Старая песня»: лирический герой («я») бессонной ненастной ночью смотрит в окно, слушает ветер, вспоминает радость любовного свидания в подмосковном лесу и радость письма от любимой на крымском перевале Ляй-Лю и думает: «То, что так радостно сыпало дождем сквозь солнце под Москвой, что так вольно звало в даль над Ляй-Лю, теперь смотрело в окошечко таким тусклым, тусклым оком!» (Пг. IV. 91, курсив мой. – Ю. М.) Замечательно тут это безличное «то». Стихия, вечная жизнь космоса, которую постоянно ощущает Бунин – не может быть названа бесцветным и слишком педантичным словом «природа». Тому нет определения и нет названия.
Эти описания, как и отступления (иногда целые вставные истории), у Бунина разрушают линейный (рациональный) ход действия, а само действие часто разъято на независимые параллельные ряды: несколько независимых друг от друга действующих лиц («Братья») или набор независимых сценок и картин («Старуха»). Как отметил Вудворд216, техника блоков или «сегментная структура» – преобладающий конструктивный принцип в бунинской прозе. Разрушение сюжетной связи событий, контрастные переходы и пропуски некоторых логических звеньев расширяют границы текста и вносят элемент иррациональности, соответствующий иррациональному характеру человеческой жизни217. А Фигуровский замечает, что даже бунинскому синтаксису присуще сочетание констатирующих предложений, синтаксическая доминанта однородности218. И это тоже подтверждает отсутствие причинно-следственных связей.
Таким образом и на уровне самых малых стилистических единиц, и на уровне общей композиционной конструкции мы находим у Бунина равноположение независимых элементов. (Вспомним вышесказанные соображения о роли детали у Бунина.) Бунин движется не путем логических переходов, связей и выводов. Рациональный анализ и синтез для него низшая и неадекватная (искажающая своей искусственностью и ограниченностью) форма познания по сравнению с интуицией и созерцанием, питающимися более глубокими источниками (такими как подсознание, прапамять, чувства и т. д.). Последовательная логика сюжета уступает место многозначным сопоставлениям, а сам сюжет часто излагается не в его временной последовательности, а скачками через пропуски («Чаша жизни») и временными возвратами («У истока дней», «Жизнь Арсеньева» и др.).
Начиная с 10-х годов техника блоков у Бунина начинает приобретать характер контрастного монтажа (впоследствии этим кинематографическим приемом будет широко пользоваться модернистская литература). Таким контрастным монтажом завершается, например, уже рассказ «Князь во князьях» (1912 г.): блестящая и веселая ночная жизнь столицы и – дремучая ночь в крестьянском доме; а рассказ «Старуха» весь целиком построен на контрастном монтаже, как и рассказ «Братья». Такой прием дает неожиданное расширение угла обзора, и жизнь вдруг предстает во всей своей контрастной противоречивости и разнообразии. Но если у Белого (впервые в своей «Второй симфонии», задолго до симультанеизма Жида, Хаксли, Дос Пассоса и Бютора, введшего в литературу как структурный принцип сюжетный параллелизм) – это прежде всего декларируемый прием, то у Бунина контрастное столкновение параллельных блоков – есть прямое следствие его глубокого ощущения внутренней антиномичности мира.
Иногда Бунин прибегает и к такому нарушению традиционного «рассказывания» сюжета как устранение всякой экспозиции вообще. Рассказ начинается сразу с диалога, герои нам не представлены и даже не названы (см., например начало рассказа «Новый год»: «Послушай, – сказала жена, – мне жутко» (Пг. II. 232). Часто герои так и остаются не названными до конца. Просто «Он» и «Она» в потоке бытия, который один лишь (вернее, фрагмент которого) и интересен автору. Иногда герои появляются даже не названные личными местоимениями. Так в начале рассказа «Новая шубка» читаем: «Шли вниз по Елисейским Полям»219. Читатель в первый момент не понимает даже, сколько человек охватывает это «шли». И лишь из последующих фраз узнает, что их двое – «он» и «она». Этот модернистский принцип in medias res, эта безэкспозиционная и ничего не объясняющая заранее манера, активизирующая воображение читателя (которой впоследствии особенно прославился Фолкнер) получили в современной критике название – «эффект тумана». Бунин практиковал ее уже в первые годы нашего века.
И столь же часта (особенно у позднего Бунина) незамкнутая композиция, отсутствие формального завершения. Например, при переиздании своих ранних рассказов «Астма» («Белая лошадь»), «Старая песня» («Маленький роман») и «Беден бес» («Птицы небесные») он просто-напросто отрезал у них концовки. В результате «Белая лошадь» завершается просто многоточием, о смерти героя мы можем только догадываться.
Большим новшеством было и употребление местоимения второго лица. Например, рассказ «Велга» начинается так: «Слышишь, как жалобно кричит чайка над шумящим взволнованным морем? <…> Видишь, как бесприютно вьется она в тусклом осеннем тумане» (Пг. II. 139). Здесь «ты» дает эффект соприсутствия читателя, приближения его к описываемому. В рассказе «Надежда», с началом: «Помнишь ли ты один из последних дачных дней, проведенных нами в прошлом году у моря?» (Пг. II. 243), – «ты» служит приближению читателя к автору и разрушению между ними барьера. (Интересно отметить, что в ранней редакции после «ты» стояло «Леонид», затем Бунин убрал имя, относя таким образом это «ты» непосредственно к читателю). Непринужденная естественность лирической прозы Бунина, не ограничиваясь повествующим «я», усиливается еще читательским «ты». «Ты» становится лирически обобщенной формой некой универсальной субъективности.
Несколько иная функция «ты» в рассказе «Цифры». Здесь повествователь на «ты» обращается к тому, о ком повествуется. Таким образом, само действие и рассказ о нем как бы сливаются в одном временном измерении, которое нельзя уже определить ни как прошлое, ни как настоящее, а скорее как некое время – «читаемое» и вступающее в свои права всякий раз, как раскрываешь эти страницы. А в рассказе «У истока дней» мы находим удивительное стирание граней между «я», «ты» и «он». Пользуясь механизмом памяти, позволяющей смотреть на самого себя со стороны, Бунин сначала переходит от «я» к «он», а затем, пользуясь переходной формой (обобщающе-безличного значения) второго лица («радостно уже одно то, что обладаешь ими», или: «существует ли она, когда не смотришь на нее?») переходит от «я» и «он» к «ты». Местоименный строй полностью нарушается и вместе с ним как бы разрушается условность письменной речи.
Таким образом, в отличие от авторов школы «нового романа» (например, М. Бютора), у которых «ты» служит обезличиванию текста и устранению авторского субъекта, чтобы придать книге характер как бы «самопишущейся», – у Бунина «ты» служит, напротив, усилению лиричности и эмоциональной насыщенности. (Заметим в скобках, что не случайно наиболее оригинальную прозу в России в нашем веке писали поэты – Бунин, Белый, Гумилев, Пастернак, Цветаева, Мандельштам.) Это подводит нас к одному из самых замечательных новшеств Бунина, к тому, что мы назвали уже «феноменологическим» характером его творений. Этим феноменологическим характером в большей или меньшей степени отмечено всё великое искусство нашего времени. (Заметим тут, что Вл. Соловьев с его «всеединством» был прямым предшественником феноменологической школы.)
В русской прозе вслед за Буниным последовательно пошли по этому пути лишь Набоков и Пастернак, а в новейшее время большинство наиболее интересных современных наших писателей – Аксенов, Битов, Синявский, Саша Соколов и др.
Феноменологический переворот в искусстве, равный перевороту, произведенному в физике эйнштейновской теорией относительности, состоит в устранении разрыва между субъектом и объектом. Происходит их слияние, или точнее радикально переосмысливается отношение «субъект-объект», так что наивная «объективность» традиционной «реалистической» литературы в итоге оказывается фикцией.
Прежнее же понятие субъективности как чего-то недостоверного и почти предосудительного утрачивает свой смысл. Восприятие действительности художником оказывается единственно достоверным и единственно достойным содержанием искусства220.
Отсюда, между прочим, и возрастающая роль памяти как силы, освобождающей прошлое и открывающей его истинность (вспомним юношеское письмо Бунина, гл. III, прим. ю).
Художник уже не представляет нам «объективный» мир с наивной уверенностью в обязательности и общезначности своего изображения, а доносит до нас сигналы своих восприятий огромного и таинственного мира (характерно многозначительное название рассказа Бунина «Цифры» – о стремлении мальчика познать неизвестные еще ему знаки-цифры, эти «таинственные полные какого-то божественного значения черточки», – зашифрованность мира (Пг. IV. 37). Художник не объясняет нам самоуверенно жизнь, а сам лишь старается ее понять и сообщает нам о этих своих попытках. Он не формулирует сентенции о мире, а преподносит нам саму сырую материю мира в ее неоформленном виде, так как она видится его удивленному и внимательному взгляду.
У Бунина это качество усиливается еще тем, что он не комментирует свои впечатления и ощущения, а старается передать нам в непосредственном виде само ощущение, заразить нас, загипнотизировать чувством (отсюда роль звука, внутренней музыки текста, столь важная у Бунина). В этом его кардинальное отличие от Толстого, который почти никогда не мог удержаться от комментария.
Со всей мощью и блеском это новое качество прозы проявляется у Бунина позже, особенно в его феноменологическом романе «Жизнь Арсеньева». Но уже и в рассказах начала века эта тенденция ощущается достаточно явно. В одном из писем конца века сам Бунин так формулирует свое феноменологическое кредо: «Мир – зеркало, отражающее то, что смотрит в него. Всё зависит от настроения. Много у меня было скверных минут, когда всё и вся казалось глупо, пошло и мертво, и это было, вероятно, правда. Но бывало и другое, когда всё и вся было хорошо, радостно и осмысленно. И это была правда»221.
Вот описание месяца в туманную ночь на море (рассказ «Туман»): «Среди тумана, озаряя круглую прогалину для парохода, вставало нечто подобное светлому мистическому видению: желтый месяц поздней ночи, опускаясь на юг, замер на бледной завесе мглы и, как живой, глядел из огромного, широко-раскинутого кольца. И что-то апокалиптическое было в этом круге… что-то неземное, полное молчаливой тайны, стояло в гробовой тишине, – во всей этой ночи, в пароходе и в месяце, который удивительно близок был на этот раз к земле и прямо смотрел мне в лицо с грустным и бесстрастным выражением» (Пг. II. 216). Это не «реалистическое» описание месяца, а сообщение о восприятии его художником. Поначалу он даже отказывается от общепринятого слова «месяц», а именует его как «нечто». И не субъект смотрит на месяц, а объект-месяц смотрит в лицо «с грустным и бесстрастным выражением».
Иногда, чтобы уточнить, что речь идет о личном восприятии художника, Бунин пользуется такими вспомогательными выражениями как «казалось», «как будто», «точно», «похож» и т. п. «Пароход был похож на воздушный корабль <…> и матрос, который курил невдалеке от меня <…> казался мне порою таким, точно я видел его во сне» (Пг. II. 215), «Пароход представлялся легко и стройно выросшим кораблем-привидением, оцепеневшим на этой бледно-освещенной прогалине среди тумана» (Пг. II. 216). «И в этой улыбке, в молодом изящном лице, в черных глазах и волосах, даже, казалось в тонкой нитке жемчуга на шее и блеске брильянтов в серьгах – во всем была застенчивость девушки, которая любит впервые» (Пг. II. 226). «Ночь, которая, казалась в городе обычной ненастной ночью, была здесь, в поле, совсем иная. В ея темноте и ветре было теперь что-то большое и властное…» (Пг. II. 229). «Море гудело <…>. Оно как будто хотело выделиться из всех шумов этой тревожной и сонной ночи <…>. Море гудело ровно, победно и, казалось, всё величавее в сознании своей силы» (Пг. II. 230). «Гудели черные тополи, а под ними, как бы в ответ им, жадным и бешеным прибоем играло море» (Пг. II. 230). «Петухи как бы убаюкивали нежно-усталый, склоняющийся полумесяц» (Пг. IV. 97). «Казалось, что и комната ждет чего-то вместе со мной» (Пг. IV. 41). «Дорога казалась фиолетовой» (Пг. IV. 53) (курсив везде мой. – Ю. М.).
Эти переходные слова как бы перекидывают мостик и облегчают переход от личного восприятия к коллективному (переход к той феноменологической «свободной» субъективности надиндивидуального субъекта, о которой мы уже говорили выше. Отсюда всего шаг до «объективной субъективности» Пастернака и русских футуристов с их лозунгом: «Чем истина субъективней – тем объективней!»)



