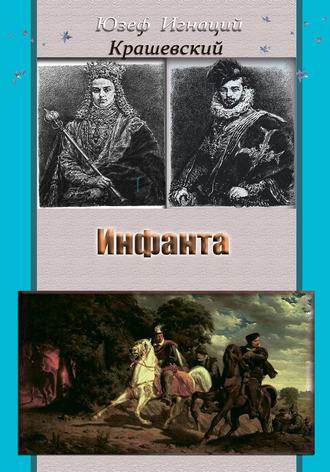
Юзеф Игнаций Крашевский
Инфанта (Анна Ягеллонка)
Этот огромный мост, постройка для своего времени трудная и дорогая, уже наполовину было оконченным. Ездил король, когда чувствовал себя более здоровым, осматривать его, присматривалась принцесса, гордился им Вольский.
Увидев его у себя, Анна которая, как всегда, так и в этот день, вышла к нему с заплаканными глазами, думала, что он прибыл похвастаться своей работой.
– Давно вас не видела, пане староста, – отозвалась она грустно, – и ни весна, ни зима не помешали вашим работам, которые, конечно, должны были продвинуться далеко.
– Не отдыхаем, – ответил староста весело, потому что всегда привык показывать ясное лицо, – страшусь только теперь, чтобы нам боязнь эпидемии не не рассеяла людей.
Принцесса вздохнула. Вольский, поведавший ещё что-то о мосте, внезапно изменил предмет разговора.
– У меня есть интересный гость, – сказал он, – которого я бы и вашей милости рад показать, но без позволения не смел.
Кто же это такой? – равнодушно спросила Анна.
– Польский шляхтич, Крассовский, но от долгого пребывания во Франции на дворе королевы-матери, которой был и есть любимцем, наполовину уже француз. Зовут Крассовский. Господь Бог его коснулся физическим недостатком, потому что я этого иначе назвать не могу, так как не знаю, выше ли он ростом локтя, но Локетек этот разумом, остроумием, учёностью и даже фигурой и лицом ни одного гиганта превосходит. Нужно его видеть, чтобы этому поверить. Так ему эта карликовость, что имела быть ограничением, стала инструментом фортуны. Долгие годы пребывая на французском дворе, он собрал и имущества достаточно, и приобрёл популярность. Заскучал он, однако, по Польше и теперь тут пребывает. Самое интересное то, что он рассказывает о французском дворе, королеве-матери, короле и его семье, стоит послушать.
– Мой староста! – вздохнула Анна. – Сегодня у нас так грустно, что красивейшей сказочкой о королях развлечь нас трудно.
Вольского не обидел этот ответ.
– А я бы, – сказал он, – несмотря на это, смиренно просил бы его на аудиенцию. Если бы король был поздоровее, наверняка, принял бы его, вместо него хоть ваша милость захотите учинить ему эту благосклонность.
Довольно равнодушно, не поднимая глаз, принцесса сказала:
– Ежели это обязательно необходимо, а вам будет приятно?
Староста поклонился в колена.
– Я хотел бы ему это выхлопотать, так как он имел из Кракова ко мне рекомендательные письма, – проговорил он. – Человек, впрочем, интересный, потому что насколько он маленький, настолько в нём много ума, и стоит видеть эту особенность, потому что подобное не быстро появляется.
Карлов мы все знали и видели много, особенно злобных и детских, этот же совсем другой и позора польскому народу у французов не учинил.
Староста спросил, когда бы он мог Крассовского с собой привести, а принцесса немного огорчилась.
– Когда хотите, – сказала она, – только не тогда, когда мне у брата, у его величества короля аудиенцию выхлопочут, так как её не сегодня-завтра ожидаю.
– Сомневаюсь насчёт сегодня, – сказал староста, – он с ксендзем подканцлером занят и знаю, что не скоро это кончится. Поэтому, если бы ваша милость дозволила, ближе к вечеру его сюда мог бы привести.
Принцесса не казалась ни любопытной, ни жадной до знакомства с таким оригинальным созданием, которого ей рекомендовал староста, но не хотела прекословить Вольскому.
– Итак, хорошо, – ответила она холодно, – а говорит он по-польски или по-итальянски?
– Знает оба эти языка, а французский естественно, потому что к этому привык долгим пребыванием во Франции.
Вольский, так недолго побыв, отъехал, а принцесса Анна засмущалась сразу тем, что карлик, который привык к великолепию парижского двора, найдёт у неё такое убожество и простоту. Она велела Доси постараться, чтобы комната для аудиенций выглядела немного красивей.
Но откуда же здесь было взять предметы интерьера для неё и украшения?
Заглобянка из иных комнат повыносила, что могла, постаралась о цветке и немного обновила грустную и тёмную комнату.
Как объявлял староста, перед вечером заехала колебка в малый замковый двор, где находились несколько особ из службы, и недоумевали, видя проходящего Крассовского.
Действительно, эта фигурка была такая особенная, что ей дивился весь Божий свет и надивиться не мог. Карлик был очень изысканно одет по французской моде, а так как ловкий был и полный жизни, хотя немолодой, поворачивался резко, выставлял себя очень смело и гордо – было приятно на него поглядеть. Начиная с волос, искусно уложенных, всё, что имел на себе, было тщательно подобранное, дорогостоящее и красивое. Цепочка, мечик были специально сделаны для него.
Личико, хотя постаревшее и морщинистое, имело много жизни, глаза – огня, движения – изящества.
Привыкший к большому двору, к обществу королей и герцогов, обращался бодро, смело, отнюдь не смущённый и уверенный в себе.
Принцесса, нарядившись немного аккуратней, хотя наряжаться не очень любила, вышла навстречу старосте, который представил ей Крассовского.
Карлик со шляпкой в руке, приняв осанку придворного, поклонился принцессе и весьма смело выпалил свой комплемент по-итальянски.
Голос его, не такой писклявый, какой обычно бывает у карлов, звучал приятно, и Крассовский в целом произвел на Анну хорошее впечатление.
Она спросила его, как долго он не был в стране. Тогда карлик начал отвечать, как почти двадцать лет назад он случайно попал во Францию, как из-за своего порока был представлен на королевском дворе, полюбили его там и вынудили остаться.
– Хотя мне там было очень хорошо и тешился милостями всей королевской семьи, – говорил он далее, – неоднократно я скучал по родине и никогда о ней забыть не мог.
Королева-мать, в услугах которой я имел честь быть, не хотела меня отпустить, я даже должен был ей обещать, что вернусь, посетив мою родину, и так очутился теперь здесь.
– В довольно грустное время, – сказала принцесса Анна. – Наш двор по причине слабости короля покрыт грустью, разделён, а вот и о чуме нас извещают. Скоро, ваша милость, наверное, убедившись, что у нас делается, и как тут тяжко живут, вернётесь в более весёлую Францию.
Крассовский ответил, что ему здесь, однако, приятно среди своих и что столько испытал уже хорошего, будучи милостиво принятым панами Зборовскими и иными, более значительными, что не рад покидать Польшу и, конечно, не быстро. Затем ловко карлик повернул беседу на королевскую семьи, правящую во Франции, на её мощь, богатства, великие качества, привязанность к костёлу и верность апостольской столице.
Он рассказывал, как у королевы-матери, правящей наравне со своим сыном Карлом, было много горя, пытаясь противостоять посягательствам гугенотов, которые привили ересь и единое до сих пор и согласное королевство пытались разделить на два лагеря.
– Что-то подобное и у нас вижу, – добавил Крассовский, – потому что и мы своих гугенотов имеем, таких же могущественных, как французские; дай только Боже, чтобы нашли таких деятельных защитников костёла, как королева-мать во Франции, которая, конечно, гугенотам преимущества взять не позволит.
Поскольку принцесса прислушивалась с достаточным интересом, бросила несколько вопросов и казалась живо заинтересованной повествованием о французском дворе, Крассовский начал во всю рассказывать о его забавах, вежливости, образованности, великой изысканности и элегантности обычая.
– Сам король, – добавил он, – мало до сих пор занимался управлением страны, больше забавы и охоту предпочитая, зато королева-мать очень деятельна. Особенно она любит второго своего сына, молодого герцога Анжуйского, Генриха, который несомненно является самым милым и красивым сеньором своего времени в Европе.
Он есть также любимцем матери, которая как раз ищет для него помещение за пределами страны, так как боится, чтобы король к нему не ревновал, и сторонники Карла чтобы против него не интриговали…
Хотели для него создать новое королевство из земель, подчинённых язычникам, но трудно так сделать, чтобы дало результат. Я думал, – добавил смело Крассовский, – что если бы когда наше королевство от бездетности пана осталось осиротевшем, не могло бы лучшего сделать выбора, как привести на трон Генриха.
Слыша это, принцесса сильно зарумянилась, а карл живо прибавил:
– Герцог Анжуйский не женат и лучшего для наследницы трона мужа пожелать бы и выдумать нельзя.
Это немного смелое выступление не понравилось принцессе, потому что сделала вид, словно его не слышала или не понимала, но карлика это нисколько не остановило.
– Меня следует простить, – сказал он, кланяясь, – что к обеим королевским семьям будучи привязанным, плету себе такие планы и такое будущее рад бы им обеспечить. Для Польши не было бы союзника более сильного и верного, чем Франция, и гораздо более безопасного, чем император Максимилиан, который имеет тут своих приятелей, но также боятся его тут многие по той причине, что ожидают той участи, какая встретила Чехию и Венгрию.
Королевна Анна начала внимательно слушать.
– Видно, – сказала она, – что ваша милость использовали короткое время, какое пребывали в Польше, и уже немного прослышали, что тут у нас делается. Это грустные прогнозы, о которых мне особенно не пристало думать.
Крассовский повернул к королевской семье Франции.
– Герцог Анжуйский, – сказал он, – как очень ревностный католик, быстро бы у нас себе сердца приобрёл… Он лично также полон качеств, которые делают его милый. Молодой, весёлый, остроумный, любящий развлекаться, умеющий всегда придумать себе развлечения… внешностью даже всем нравится…
Говоря это, Крассовский, из плащика и одежды, застёгнутой на груди, начал что-то доставать.
– При расставании её величество королева, которая всегда со мной была такой ласковой, – добавил он, – самым дорогим мне подарком и памяткой удостоила… Ношу её всегда при себе. Это изображение её величества королевы, которая до сих пор ещё величием и красотой превосходит даже более молодых, его величество короля, брата его, молодого герцога Анжуйского.
Говоря это, Крассовский достал наконец оправленный в алый бархат род бумажника, и, становясь на одно колено, ловко подал его принцессе.
Анна сначала заколебалась, может ли поглядеть эти изображения, но, после минуты раздумья взяла из рук Крассовского бумажник и начала поочерёдно просматривать изображения.
Карлик тем временем особенно старался её внимание обратить на последнюю из этих миниатюр, изображающую очень лестно приукрашенного герцога Анжуйского.
Староста Вольский, который стоял близко, мог заметить, как бледное лицо принцессы зарумянилось и выразило некоторое смущение…
Крассовский между тем рассказывал: о достатках, великолепии, о развлечениях на дворе, маскарадах, танцах, турнирах и о великой изысканности, с которой там всё проходило.
– Ничем есть при том, – говорил он, – славящиеся изысканностью и великолепием дворы итальянских герцогов, из которых не один достатками и могуществом с королём Франции сравнится не может.
Со всей Европы, также из Италии самые выдающиеся артисты, художники, скульпторы собираются сюда для служения могущественному монарху. Нет жизни, как там.
Принц Генрих, который с колыбели к ней привык, везде вертится, несомненно, с собой понесёт то, что ему необходимо, как воздух… Счастлива пани, которая сумеет получить его руку и сердце.
Постоянно делая акцент на качествах принца Генриха, как-то это было значительно, что принцесса не могла его ни понять, краснела, молчала, но каждое слово Крассовского глубоко врезалось в её память.
Время на этих его историях, остроумием и весёлостью оживлённых, уходило так быстро, что принцесса не заметила, как наступил вечер.
Староста дал знак Крассовскому, что пора было попрощаться с принцессой.
Карлик оставил в её руках свой бумажник с изображениями и не упомянул о возврате его, а принцесса положила его рядом с собой на столике; но Крассовский не посягнул на эту свою собственность и уже прощался, когда принцесса напомнила ему о ней.
– Ежели ваша милость позволит, – сказал он, – могу эти изображения, для лучшего их просмотра, оставить тут, до тех пор, пока их задержать у себя подобает… Может, их кто ещё захочет видеть, а я очень рад бы, чтобы они тут себе сердца приобрели… для дорогой мне, благодетелей моих, семьи.
Прежде чем Анна имела время опротестовать, карлик прытко поклонился и вышел с Вольским, оставив на столе бумажник.
Едва они были за порогом, когда принцесса дрожащей рукой схватила книжечку с миниатюрами и изображение принца Генриха жадно начала разглядывать.
Лицо её то краснело, то бледнело, дрожало; было видно, что какая-то мечта, надежда овладела ею. Она стала задумчивой, уставившись в эти почти женски нежные черты молодого принца, которым художник придал выразительность, обаяние и красоту молодости, какую, может, в натуре не имел.
В Генрихе даже наименее опытный глаз мог вычитать насмешку и холодную какую-то жестокую иронию человека, который умеет любить только себя; на картинке он представлялся совсем иначе: мягким, вежливым, милым.
Принцесса почувствовала странное влечение к этому незнакомцу, который мог быть ей предназначен, ей, что так долго ждала кого-то, на этого провиденциально для неё указанного мужа и пана. Бедное её сердце так очень давно желало кого-то любить, кому-то посвятить себя, привязаться к какому-нибудь существу, которое бы ей хоть капелькой любви за всё сердце отплатило.
Сколько же это раз она завидовала сестре Екатерине, разделяющей заключение Яна, страдающей с ним, отвечающей тем, что её хотели отделить от мужа: «Бог нас соединил, верной буду ему до смерти…»
Этому сердцу бедной принцессы на протяжении всей её жизни только самые болезненные наносили удары. Отец был к ней безразличен, мать любила прежде всего Изабеллу… брат был холоден… Она была преданна Екатерине, которой уступила права своего старшинства, не получив сердца. Служила Софии Брунсвицкой, унижалась перед ней, падала перед ней, редко получая доказательства памяти и привязанности.
Все проекты выдать её замуж сползали по очереди по пустякам… становилась всё более одинокой, одинокой, а теперь брат от неё отказался, знать не хотел, и смерть его в любую минуту могла её, без опеки, без друзей, бросить на добычу домашних разборок о выборе господина.
Помнили о ней или нет польские и литовски паны? Среди них насчитывалось друзей не много, неприязненных и равнодушных тысячи.
Надежда, хоть слабая, обманчивая, какого-то счастья, возрождения, омоложения, тронула её сердце. Генрих ей понравился, что-то, казалось, говорит, что он был тем предназначенным!
В блаженной и вместе грустной мечте Анна потратила значительную часть времени… Она села, задумчивая, и, боясь, как бы её изображений не отобрали, как бы не высмеивали, может быть, заинтересованность ими, тщательно их спрятала.
Жалинская, которая вечно и всегда теперь кормила её оправданиями, гонялась, гневалась, дулась – и эту мечту, верно, нашла бы грешной… и неподходящей.
С этой мечтой о Генрихе, молчащая… начала, наконец, молиться, чтобы прогнать навязчивые мысли.
* * *
Талвощ из-за любви к принцессе Анне, а немного и из-за красивых глаз Доси Заглобянки, набегавшись утром с серебром и счастливее, чем ожидал, получив деньги, в этот день почивал уже на лаврах и весело разговаривал с Боболой, который сидел, нахмуренный, на своём тарчане, горюя, когда в дверь постучали, и в ту же минуту открыли её; головка подростка, девушки с коротко остриженными волосами показалась в ней, поискала глазами Талвоща и воскликнула:
– Пана Талвоща просят!
Не спрашивая кто, и думая, что либо Жалинская в нём нуждается, либо принцесса приказывает позвать его, схватил литвин шапку и побежал.
Девушка предшествовала ему, скача через коридор аж до передней, в которой со сложенными на груди руками, с гордо поднятой головой, стояла ожидающая его Заглобянка.
Неожиданное счастье для влюблённого Талвоща.
Девушка, которая привела его сюда, указала пальцем на Досю. Талвощ поклонился, сердце его билось…
Задумчивая Дося, казалось, размышляла, что ему сказать.
– Мне не нужно вас спрашивать, – сказала она, – так ли вы привязаны к принцессе, как я. Хотя вы недавно на её дворе, но я считаю вас верным слугой нашей пани.
– И можете за это поручиться, – прервал Талвощ, кладя руку на грудь.
Заглобянка провела белой ручкой по лбу.
– А! – сказала она грустно. – Если бы она столько имела друзей, сколько имеет врагов… Против неё все сговариваются и объединяются. Оставил её король и забросил… а другие, когда он закроет глаза, будут всё делать в интересе каких-то там пришлых панов, которым захотят продать себя… а о принцессе, хотя ей принадлежит это государство и корона, не подумают!!
Дося вздохнула, и вдруг, понизив голос, начала живей:
– Император Максимилиан имеет уже здесь больше друзей, чем она… Все за ним и с ним… Принцесса знает наверняка, что кардинал Коммендони думает только об императорских интересах, а о её судьбе вовсе не заботится. Как и откуда мы это знаем, в этом у меня нет необходимости вам признаваться, но верно то, что кардинал, который ежедневно выезжает в Беланский лесок ради свежего воздуха, сегодня там имеет встречу с кем-то… по-видимому, из Литвы. Там будут какие-то совещания.
Она посмотрела на Талвоща, не смея докончить. Литвин зарумянился.
– Неприятная это вещь, – сказал он, – подслушивать и шпионить и, если кому, то мне она не пристала… но когда речь идёт о принцессе…
– О спасении её, быть может! – прервала Дося горячо. – Потому что об опасности достаточно иногда знать, чтобы её избежать… Если бы ваша милость хотя бы узнали о том, кто там ожидает кардинала, с кем и… о чём будет совещание.
Взгляд девушки, которая отлично знала, что склонит Талвоща на что захочет, стал таким настаивающим, что литвин почувствовал себя готовым на всё.
– Уже когда кардинал, – добавила Заглобянка, – использует такие способы, что за городом в лесу назначает свидания, дело должно быть не малого значения и особы, на него приглашённые.
– Я наших литвинов всех знаю, и Ходкевичей и Радзивиллов, и сколько их там есть, – сказал Талвощ.
Дося прервала его.
– Поскольку Коммендони уже раньше сносился с поляками, с воеводой Фирлеем, с Зебжидовскими даже… а теперь литвинов приводит, очевидная вещь, что речь идёт о важном деле, о наследстве после короля, которого уже считают умершим.
Талвощ стоял задумчивый, терзая усы и закусывая губы.
– Кардинал, хитрый итальянец, как никто здесь, – сказал он, – достаточно вспомнить, что он сломил короля, когда дело было о разводе; ваша милость считаете, если он в лесок едет по причине секретности, поставит, наверное, стражей и приблизиться к ним будет невозможно.
Дося пожала плечами.
– На это, сударь, ты имеешь разум и хитрость, – отозвалась она резко. – Несомненно, что так, как стоишь, не приблизишься, но…
Талвощ рассмеялся.
– А! Правда, – воскликнул он, – хоть в холопа или в бабу, идущую по грибы, могу переодеться.
– Достаточно в нищего, – вставила Заглобянка живо.
– Не знаете, в котором часу состоится это свидание в лесу? – спросил Талвощ.
– Перед вечером, много времени терять нельзя, а хотя бы вы какой-нибудь час прогулялись, ожидая, не такое это тяжёлое мучение.
Литвин ничего определённого ещё не отвечал, Заглобянка начала терять терпение.
– Пойдёте или нет? – спросила она.
– Должен, – произнёс послушный литвин, – но как я сумею то, что вы мне приказываете… один Бог знает.
– Я вам не приказываю, – прервала Дося, – не для меня это делаете, но для принцессы.
Талвощ, ей казалось, взглядом говорит, что, по крайней мере, для неё также, как для Анны, предпринимал очень небезопасное и неприятное шпионство.
Не прошло потом часа, когда ободранный нищий с грязным лицом, в дырявом сукмане, в лаптях, с посохом, из замка через сад спустился к Висле, отвязал у берега прикреплённый маленький чёлн, сел в него, незамеченный, и сильно работая веслом, поплыл, оглядываясь вокруг, по течению реки к Беланам.
Трудно в нём было признать молодого и красивого парня, который любил наряжаться, и заботился о том, чтобы не хуже других выглядеть. Но чего же не сделают любовь и честное сердце.
Талвощ много делал для Доси, это верно, не менее, однако, желал услужить принцессе, которую её двор и те, что её видели теперь в этом сиротском положении, любили сильней, чем когда-либо, оттого, что её преследовали.
Талвощ не напрасно воспитывался на берегах Немана, с маленькой лодкой умел отлично справляться, управлял ею ловко, и очень не много потребовалось времени, чтобы доплыть до леса, который заросшим берегом доходил даже до реки.
Спрятав лодку в тростнике и камыше, выскочил из неё и, согнувшись, с посохом, разглядываясь между соснами, начал подниматься наверх, пытаясь угадать, где кардинал и эти таинственные литвины собирались сойтись. Он немного знал этот лесок, потому что в него ходили на прогулки из города.
Он не заметил в нём сначала никого, было пусто… Только пройдя немного дальше, на маленькой полянке, показались кони, которых вёл конюший. По сёдлам и попонам, хотя и скромным, он понял, что не абы кто из этих всадников должен был спешиться.
Но, кроме слуги, при конях никого не было. Осторожно переходя от дерева к дерева так, чтобы стволы и заросли его заслоняли, проник Талвощ даже вглубь леса, постоянно обращая глаза во все стороны и настораживая уши.
Долго ничего не было слышно.
Идя далее, ему показалось, что послышался тихий разговор… Следовательно, он пошёл в ту сторону, из которой он доходил. Вскоре мелькнули перед ним две фигуры. Почти ползком по земле литвин старался теперь как можно ближе к ним приблизиться.
Сделав более десяти шагов, он мог уже разглядеть лица… и чрезвычайно удивился, когда ему показалось, что в них он узнал пана Ходкевича и Николая Кшиштофа Радзивилла.
Не особам он удивился, но тому, что они могли сблизиться друг с другом и спокойно беседовать. Ибо ему было ведомо, что Ходкевичи в данное время с Радзивиллами были на ножах по поводу того, кто на Литве владетельней.
Никто не слышал и не допускал примирения. Чудом выдалось Талвощу, когда он заметил их спокойно стоящих рядом и каждую минуту обменивающихся несколькими словами.
Большой сердечности по ним видно не было. Ходкевич стоял подбоченясь, с тем огромным высокомерием, которое никогда его не покидало, даже рядом с троном. Радзивилл немного подальше, с равнодушным лицом, с притворным, может, холодом, внимательно смотрел на него, не давая себя впечатлить этим выражением гордости.
Радзивилл был как бы тем, который уже чувствовал себя уверенным в своём приобретённом положении. Ходкевич, казалось, только хочет его приобрести и обеспечить себя.
Говорили мало.
Талвощ, идя в направлении их глаз, так как оба обратили взор в одну сторону, догадался, что оттуда, несомненно, ожидали кардинала.
Прошёл добрый отрезок времени. Талвощ начал внимательно разглядываться, желая узнать, где происходит разговор, чтобы приблизиться к нему и хотя бы на земле в кустах прилечь.
В лесу, тогда достаточно заросшем, полном поломанных ветвей, суши и лому, прохаживаться было невозможно, не подобало искать в нём каких-то углов; следовало допустить, что кардинал подъедет дорогой из Варшавы и что на этом тракте задержится с ожидающими для переговоров.
Вдалеке уже послышался грохот кареты и литвин поднял голову, пытаясь её разглядеть, но вскоре всё стихло. Радзивилл и Ходкевич посмотрели друг на дружку, сделали несколько шагов вперёд, как бы навстречу, а из деревьев в глубине выступили две фигуры, идущие пешими.
Талвощ не один раз видел кардинала, но всегда в его официальных одеяниях. Сейчас он имел на себе только тёмно-фиолетовую нижнюю часть, а сверху длинный костюм и чёрный плащик. На голове такую же шляпу с широкими полями.
Тут же за ним, так же одетый, шёл только другой духовный – никого больше. Служба и карета остались, вероятно, у опушки леса.
Кардинал шёл всё живее, внимательно оглядываясь вокруг. Было это то же самое известное Талвощу лицо итальянца, в котором неимоверную хитрость, невероятную ловкость покрывало выражение такой мягкости и доброты, такой сладости и почти детской наивности, что никто его бояться, никто заподозрить в хитрости не мог.
А был это своего времени самый ловкий из переговорщиков, самый мудрый из дипломатов, муж непостижимого опыта приобретения людей, убеждения их, получения.
Для доказательства достаточно процитировать, что мог людей уже отпавших от костёла, потерянных для него, склонить к выбору, согласному с католиками, что умел привести к согласию злейших врагов, какими были маршалек Фирлей и воевода Зебжидовский, Радзивилл и Ходкевич.
Ревностный католик, когда этого требовал интерес церкви, умел Коммендони дело религии якобы отложить в сторону, не касаться его, сделать менее важным; отрицал пропаганды, преобразования, закрывал глаза на требования в целом противные его убеждениям.
Он привлекал на свою сторону людей сначала сладостью и мягкостью, только потом к их совести пробовал взывать. К преобразованиям снисходительный и неумолимый, он никого не избегал, никого не презирал и совершал также чудеса, насколько они могли быть исполнимы.
Противостояние разводу короля, удержание его верным церкви, когда дело шло о немногом, чтобы Польша отпала от Рима и отступилась от него, – уже можно считать за настоящее чудо ловкости и такта Коммендони.
Ходкевич и Радзивилл приветствовали его с великими знаками уважения. Коммендони шёл к ним с радостным лицом, улыбающийся, мягкий, с выражением отцовской нежности к обоим.
Не было больше никого, кроме только этой четвёрки. Каким образом Талвощ сумел подползти к ним незамеченным, он сам бы, может быть, этой дерзости, которая ему счастливо удалась, объяснить не смог. На случай, если бы товарищ кардинала, который внимательно обозревал кругом, его заметил, имел он готовое объяснение: хотел притвориться спящим в зарослях.
Счастьем, не догадались даже, что в совершенно пустом лесу могла находиться живая душа.
– Меня несказанно утешает, – начал после приветствия Коммендони, – что, предвидя события, мы можем посовещаться, предотвращая катастрофы, какие бы на это прекрасное государство, будущее оплотом христианства, могли упасть, если бы его отдать пришлось на произвол судьбы, моменты расстройства в умах и тревоги. Король не жилец. Мы свяжемся торжественной клятвой, что то, что между собой решим, останется тайной.
Ходкевич и Радзивилл что-то невразумительно замурчали, склоняя головы, кардинал положил руку на грудь и говорил дальше.
– В эти минуты, решительные для будущего, от Литвы зависит судьба всего государства. Не подлежит сомнению, что поляки должны выбрать королём того, кого вы выберете великим князем. Так всегда бывало, так будет и теперь.
– Уния действительно полезна, – отпарировал мрачно Ходкевич, – но Литва ей не удовлетворена. Оторвали принадлежащие нам земли… В союзе с Польшей мы хотим оставаться, но ей подчиняться и ею поглощены быть не должны.
– Ежели вашу независимость вы сумели до сих пор сохранить, – прервал кардинал, – тем паче её установите на будущее, ежели меня послушаете. Вам обеспечит её один из императорских сыновей, если его выберете.
Ни Ходкевич, ни Радзивилл не протестовали против этого, смотрели друг на друга только, разгадывая себя взаимно, и молчали.
– Чтобы поддержать эту элекцию, нужно так же приготовить вооружённую силу и не мешало бы иметь двадцать тысяч всадников.
Это наберётся легко! – проговорил Радзивилл.
– Эрнест или другой из императорских сыновей, – добавил кардинал, – может жениться на принцессе, чтобы той связью упрочить свои права.
Ходкевич нахмурился.
– Принцесса никаких прав уже не имеет, – отпарировал он высокомерно. – Однако же от наследования своего над нами король отказался, когда создавал Унию, поэтому и наследование после себя никому не может передать. Мы свободны пана себе выбрать, как хотим.
Кардинал взглянул на него.
– Я думаю, – сказал он мягко, – что привязанность к бывшим панам, если не у всех, найдётся ещё у многих на Литве. Чувство это следовало бы уважать и не исключать его из расчёта.
Нахмуренный Радзивилл не вступился за права принцессы, мысль его, казалось, где-то бродит.
– Император, – отозвался он, – будет для нас, несомненно, лучшим паном и защитником, но в Польше он имеет много неприятелей.
Коммендони усмехнулся.
– Те переменятся, – сказал он, – не бойтесь. Преимущества от выбора члена императорского дома так велики для страны, для Костёла, для целого мира, что его в итоге все должны признать.
– А если поляки будут сопротивляться выбору, – прервал Ходкевич, – тем лучше, разорвём унию. Не принесла она нам никаких преимуществ, а потеряли на ней много.
– Не говорите этого, сохрани Бог, – начал мягко Коммендони. – Ослабели оба государства, а что, как вы говорите, есть спорные границы и владения некоторых земель, что же, если до войны между ними могло бы дойти. Воспользовались бы этим враги св. креста, турки и подстерегающий ваши земли царь московский. Литва, хотя бы что-то пожертвовала нам даже для Унии, не столько значит, удерживая её, сколько бы могла потерять, разрывая.
Ходкевич не настаивал, но не казался убеждённым, пробормотал только:
– Император нам нашу независимость, какую мы сохраняли до этого, должен гарантировать.
– Гарантирует! Утверждает! – воскликнул кардинал. – Именно поэтому вы первые его выберете, он будет обязан вам троном и делам вашим даст приоритет.
– Он должен вернуть нам отобранные земли, – добавил упрямый Ходкевич.
– Это вы себе при выборе обеспечите, – вставил Коммендони.
– А староства и должности, – продолжал дальше литвин, – только урождённым литвинам должен раздавать…
– Могу вас заверить, что все эти условия будут приняты, – начал прытко Коммендони, хватая за руку Ходкевича. – Мы тут не о них говорим, но нужно согласиться на выбор. У вас есть, в чём упрекнуть его? – добавил он, обращаясь к Радзивиллу.
Названный только молча склонил голову. Обеспокоенный Ходкевич настаивал снова на независимости Литвы и освобождении от Унии, на возврате земель и оторванных поветов.
Коммендони обратил разговор на более личные отношения, ручаясь за императора, что тем, которые первыми утрамбуют ему дорогу к трону, сумеет наградить их любовь и доверие и что ждут их самые высокие достоинства.
Ни Ходкевич, ни Радзивилл, казалось, не придавали значения тому, а, по крайней мере, не показывали один другому, что могли иметь личные виды на это.
– Значит, Литва пусть превосходит, – добавил кардинал. – В Польше могут быть предложения и разбитые голоса, вы за собой потянете разрозненных.
– Эрнест, императорский сын, ежели на него падёт выбор, – наконец-то отозвался Радзивилл, – должен быть начеку своей особой, чтобы мы подняли его на княжество и короновали. Он должен заранее приблизиться к границам.







