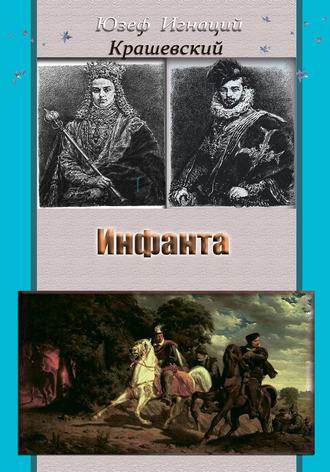
Юзеф Игнаций Крашевский
Инфанта (Анна Ягеллонка)
Князь-подканцлер Красинский, не вторя королю, а в деле поддерживая Мнишков, громко говорил, что, кто хотел иметь милость у пана, не должен был ни бывать у принцессы, ни поддерживать с ней отношений.
Из более могущественных и значительных, как друг, опекун, как верный слуга Ягелонов, поэтому и Анны, а в особенности княгини Брунсвицкой, выступал референдарий Судзивой Чарнковский, фигура, характерная для своего времени, неоднозначная, двуличная, в действительности совсем иная, чем казалась на первый взгляд.
Привязанность его к Ягелонам и Ягелонкам была прикрытием полной преданности императору Максимилиану, дело которого Чарнковский чересчур ловко поддерживал, но делал это так секретно, так умело, чтобы тот не потерял популярности и не восстановил против себя никого. Для Чарнковского судьбы собственной страны, а тем более Анны, не были вещью первой и главной – интерес императора был превыше.
Притворялся привязанным к Анне потому только, чтобы, помогая ей, присматривать за ней и не дать ничего учинить против интересов Максимилиана. Чего не мог достичь один, то старался через княгиню Брунсвицкую, с которой был в близких отношениях, подействовать на Анну.
При короле Чарнковский до последнего часа так умел действовать, что ни Мнишки, ни Красинский его не боялись и не находили опасным. Служил, перевозил деньги, не сопротивлялся и даже не защищал Анну, чтобы не попадать в подозрение.
Ловкий, хитрый, проницательный, думающий только о себе, Чарнковский надеялся с выбором австрийского принца выплыть наверх и получить самые высокие должности. Никто не мог догадаться о его подземных ходах, хлопотах, расчётах и сети интриг, какими он опутывал принцессу.
Анна его ручательствам и клятвам, горячим заверениям любви к семье верила тем сильнее, не подозревая его даже в том, что интриговал, когда референдарий и ей и судьбой её готов был без угрызений совести пожертвовать императору.
Из могущественных панов и высших должностных лиц не имела принцесса больше никого. Наилучшего сердца, но болеющая, печальная, отказывающаяся, часто замкнутая в себе, неизвестно чем заранее создала мнение женщины, которая, по мнению многих, «могла быть второй Боной».
Её враги пользовались этим грозным выражением, выявляя в ней хитрую интриганку, которая всеми средствами могла добиваться власти. Эта клевета не имела ни малейшей основы, но однажды брошенное слово, когда пойдёт с уст на уста между людьми, имеет странную силу.
Самая мягкая из Ягелонок, которая до сих пор не имела характера показать ловкости, начала походить на «вторую Бону».
Этого было достаточно, чтобы её отталкивать. Впрочем, судьбой сироты не не занимался никто.
Можно было предвидеть, что люди могли её использовать как инструмент в своих расчётах, но для неё самой никто ничего делать не думал.
Привязанность к династии не была такой сильной, чтобы для неё хотели учинить малейшую жертву.
Так Анна была окончательно обречена на небольшого значения своих слуг – нескольких сочувственных, которые никакого влияния не имели.
Достойный обозный Карвицкий из-за своего доброго сердца и милосердия относился к ней доброжелательно. Ротмистр Белинский, как верный слуга семьи – с рыцарской готовностью мог встать на защиту притесняемой.
Один и другой всё-таки могли не много, влияния у них не было никакого, Карвицкий добился последней аудиенции, Белинский собирался позже встать на охрану наследства короля, для сохранения его принцессе.
К этим двум надобно причислить также как они верного королевской семье Рыльского, которым пользовалась то шведская королева, то княгиня Брунсвицкая, то Анна. Отпущенный для них, он ездил с письмами, с поверенными посылками, с устными рекомендациями; неутомимый, ревностный, но только это одно мог сделать, ничего больше.
Человек был маленький и незначительный.
Со смерти последнего охмистра[5] принцесса Анна не имела назначенного на его место преемника. Выполнял эти обязанности некий Ян Корецкий.
Это был добрый человек, доброжелательный для своей пани, верный, честный, но тесной головы, не видящий далеко, дающий себе по очереди внушать что кому нравилось. Тучный, крепкий, медлительный, придающий себе важность, которой удержать не умел, Конецкий постоянно совершал ошибки от добродушия и глупости.
Люди над ним шутили, но он всегда был рад от того, что делал, и никогда не давал убедить себя, что мог бы ошибиться.
Талвощ, литвин, живой, деятельный, благоразумный, сын богатого землевладельца, попал на двор принцессы недавно, стечением странных обстоятельств, не найдя места при короле.
Возможно, он не остался бы здесь, потому что служба принцессе никакого будущего ему не обещала, но, к несчастью, его приковали красивые глаза Доси. Он стал одним из самых ревностных, самых ярых помощников осиротевшей пани.
Он отличался от других тем, что когда практически все старались удержать Анну в бездеятельности, спокойном выжидании, отказа от всяких усилий на свою руку, Талвощ доказывал, что принцесса должна была выступить активно в защиту своих прав и не забывать, что была Ягелонкой, которой Польша и Литва всё-таки что-то были должны.
По этой причине Талвощ и с Конецким, и с другими постоянно должен был ссориться. Его находили опасным, хотели от него избавиться, но и он держался твёрдо и Анна постепенно начинала становиться смелей, слушать его, набираться энергии, какой никогда не имела.
Обстоятельства также подействовать на неё никогда не могли. Забитая, забытая, она всегда была вынуждена слушать Бону, которая для неё, как и для остальных сестёр, не имела сердца, слушать потом сестёр, подчиняться воле брата.
Едва пару раз разрешили ей объявить собственное убеждение, когда дело шло о браке сестёр, а Анна для них сделала из себя жертву.
Энергия, какой её наделила природа, отдыхала, словно усыплённая, служила только для сопротивления несчастьям, унижений, давлений, которые сносила с важностью и высокомерием. Теперь в первый раз близкая и предсказуемая смерть брата призывала её к действию, к выступлению, к объявлению силы.
Талвощ пытался её в ней пробудить. После долгих лет бездействия это не могло пройти легко, впрочем, принцесса была окружена людьми, против которых должна была действовать с осторожностью.
Из мужского окружения, добавив доктора Чечера, молчаливого медика, который собирал травы, в политику не вдавался и мог развеселить принцессу, но помочь ей бы не сумел, ксендза Яна Бораковского, секретаря короля, ограничивающего себя духовным служением, не было при принцессе почти никого больше.
Из женщин при ней была давняя охмистирина Жалинская, которая теперь представляла бремя и полностью служению не отдавалась, так как по своим взглядам была готова пожертвовать принцессой.
Веря в то преимущество, какое ей давали долгие лета службы, Жалинская, которая имела сына двадцати с небольшим лет, пана Матиаша, парня, воспитанного до испорченности и честолюбия при дворе Сигизунда, заранее составила себе план создания для него такого положения при принцессе, чтобы ей, её имуществом и делами завладел.
С этой целью она держала его при себе, навязывала непрестанно принцессе, а, когда та довольно холодно принимала неприятные для неё услуги, гневалась, бурчала и не уступала. Смотрели уже косо на то, что Жалинская, живущая рядом со своей пани, в каморке при себе держала взаперти сына и велела ему даже тут ночевать.
Где было нужно посредничество, конфиденциальная беседа, Жалинская навязывала принцессе сына. Она велела ему писать письма, поддерживать регистры, вклинивала его где только могла.
Принцесса сносила терпеливо, но было видно, что её это тяготило.
Дерзкий, назойливый, распущенный Матиашек был тут, за исключением матери, большой докукой.
Жалинская, не в состоянии вынудить принцессу сдаться ей, постоянно теперь упрекала и самым нескромным образом бурчала. Упрекала её, что притворяется больной, что напрасно жалуется, что всем в тягость, что ей ни в чём нельзя угодить.
Старую няньку, нудную и назойливую, принцесса переносила с ангельским терпением.
Настоящей подругой сердца, от которой Анна не имела тайн, была София из Смигла Ласка, коронная крайчина, давно с принцессами Софией, Катериной и с нею связанная воспоминаниями детства.
Крайчина одинаково любила княгиню Брунсвицкую и Анну, но сейчас не могла быть с последней и только письмами они сносились друг с дружкой. Обещала, однако, приехать. Была это женщина деятельная, живая, любящая занятие, благородного характера, а прежде всего, ненавидящая отдых. Ей было необходимо постоянно что-то писать, о чём-то стараться, что-то знать, чего никто не догадался.
Готова была подвергать себя опасности, работать, ездить, лишь бы не скучать от отдыха и безделья.
Крайчина была в сердце Анны единственной, а хотя рядом с ней стояли пани Элжбета Свидницкая и Элжбета из Гульчева Брудзевская, вдова лучицкого воеводы, и Зося Ласка, дочка воеводы серадского, ни одна из них не могла равняться крайчиной.
Брудзевская, немолодая, немного уже обременённая возрастом, не могла так активно служить принцессе, как хотела бы, Свидницкая не была свободной из-за семьи; Зося Ласка слишком молодая, чтобы, кроме веселья, улыбки и слова утешения, могла бы сюда что принести.
И все эти рассеянные подруги нескоро обещались прибыть, чтобы оживить одиночество Анны и разделить судьбу. Поэтому за всё утешение, как единственную наперсницу, имела Досю Заглобянку, которую воспитала, к которой привязалась, как к ребёнку.
Было это создание уникальное, разумное, храброе, готовое для Анны на всё, но, несмотря на безмерную энергию и хитрость, она могла не много; пожалуй, в доме и когда дело было о защите от Жалинской.
Вместо Матиаша Жалинского, Анна её использовала для писем, когда их не могла писать сама, ею пользовалась, желая сохранить в чём-то тайну. Дося умела её развлечь, прибавить мужества, предотвратить постоянные нападения охмистрины, избавить от её сына и т. п.
Матиаш, парень как секирой вытесанный, придворный испорченностью, но не умом, так как был тупым, хотя много мнил о себе, не мог ежедневно видеть и неустанно тереться о Заглобянку, не увлёкшись её необыкновенной красотой.
Вздыхал по ней, равно с многими другими, имея больше, чем иные, ловкости рекомендовать себя, но все его старания, усилия, улыбки не смогли умилостивить девушку, для которой он был слишком ограниченным.
Она использовала его, но приближаться к себе не позволяла.
Напрасно мать, которая имела к нему слабость, старалась его поддерживать. Дося ухаживания обращала в смех.
– Всем известно, – говорила она Жалинской, – что я подкидыш, которого никто не хочет признать, замуж идти не думаю, по той причине, что муж меня мог бы упрекать, что я ему ничего, даже честного шляхетского имени не принесла!
Жалинская рассчитывала, однако, на своё могущество, влияние на Анну, её посредничество и сиротство Доси. По причине сына она также не выступала так против неё, как могла бы не раз, находя её помехой.
Заглобянка не переносила Жалинской, ясно видя её намерения в отношении принцессы. Не таилась с ними охмистрина, говорила открыто.
– Ей около пятидесяти лет, ей снится, что она ещё замуж может выйти. Зачем ей это. Возьмёт после брата достаточно денег, обеспечат её паны, дадут землю или в Мазовии, или где-нибудь ещё и будет Господа Бога славить, а мы при ней спокойно наслаждаться жизнью.
Я для неё сына охмистром воспитала, я и он, лишь бы глупых побуждений не слушала, нас хватит, чтобы всё в порядке держать.
Теперь со смертью короля всё так складывалось, что Жалинская начинала быть неспокойной. Слышала вокруг говорящих о том, что на случай его смерти, когда будут выбирать нового короля, наверняка, Анну рекомендуют как жену.
Жалинская не боялась удаления, хорошо зная сердце пани, но предвидела, что и сын, и она должны были отойти в сторону и уже так контролировать её не могли бы, как она себе планировала.
Среди этой кучки, заменяющий охмистра Конецкий обращался с великой важностью, думая, что чрезвычайно деятельный, а в действительности, не видя ничего и даже совсем ничего не делая.
Следил за порядком, ходил, спрашивал, выдавал приказы, которых не слушали, забывал о том, что говорил, а, впрочем, ревностно всегда упрекал пани во всём, хотя никогда его почти ни для чего не использовали.
Конецкому было достаточно, когда его служба и придворные чтили титулом охмистра и насмешливо ему кланялись.
Отъезд Сигизмунда Августа, которого принцесса видела только последнего дня и нашла почти догорающим, породил великое беспокойство.
Она оставалась одна в этом пустом замке, не будучи даже уверенной, будет ли иметь вести о здоровье брата. Никто о том не беспокоился. Один староста Вольский мог ей в этом послужить.
Референдарий Чарнковский собирался также находиться при короле и она рассчитывала, что письмом он сможет её уведомлять.
Выздоровления едва ли можно было ожидать, а спрошенный доктор Чечер, отвечал, что хоть чудеса случаются, но там, где бабы и колдовство докторам портят работу, не большую на них надежду следует возлагать.
В то время повсюду рассказывали, что покинутая королём какое-то время назад Заячковская, каждую неделю вечером определённого дня с какими-то обрядами бросала в огонь горох, проклиная, чтобы так же лопнул тот, что ей верным быть не хочет.
Другие чаровницы мыли и парили больного, отрывали лоскутки его одежд, чтобы иметь его в своей власти. Одна из них дала ему простое колечко, которое он носил как самый дорогой перстень.
Было всегда около короля этих баб, из Вильна и из разных сторон привезённых, достаточно… что же потом могли доктора?
Спустя пару дней после отъезда короля Жалинская узнала и принесла сразу принцессе то, что по дороге из Варшавы в Книшин Барбара Гижанка ждала Августа на Острове. Не было этому конца!
Кто же мог предвидеть, что ждало короля в Книшине? И что же с ним собирались предпринять любимцы, на милость которых он был отдан?
* * *
В воскресенье 6 июля смеркалось, когда староста тыкоцынский Лукаш Горницкий, вылезши перед двором из кареты, пешком пошёл к двери здания, в котором король лежал в Книшине, со страхом доведываясь о панском здоровье.
По лицам людей, которые стояли на крыльце и во дворе, по тишине, которая здесь царила, хотя было беспокойное движение, он мог заключить, что тут светилось зло.
Узнав, несмотря на мрак, старосту, вышел ему навстречу придворный Лисовский и шепнул, что король несколько раз слабым голосом спросил, не прибыл ли он, и наказал ему немедленно, когда явится, впустить к себе, хотя бы он отдыхал или дремал.
Шёл, поэтому староста, уже не задерживаясь, а тут его в первой комнате встретил референдарий Чарнковский, который сидел у окна со сложенными руками, словно молился, и, увидев Горницкого, поднялся к нему.
– Идите к королю, идите, – шепнул он, понижая голос, – он хотел говорить с вами. Плохо ему. Духовные его к примирению с Богом и принятию Святых Тайн готовят. Жизни осталось не много.
Когда он это говорил, из другой комнаты выступил Якоб Залеский, староста пиасечинский, и, увидев Горницкого, поспешил к нему, говоря:
– Король ожидает вас.
Не вдаваясь, поэтому, уже в расспросы, Горницкий поспешил за Залеским, который проводил его в спальню.
В комнатах, через которые они проходили, пановала тишина и наполнял их грустный вечерний сумрак. Воздух был тяжёлый и душный.
У двери спальни, когда тихонько постучали, появился Княжник, который уже собирался окрикнуть, чтобы не прерывали пану отдых, когда, увидев старосту, поднял заслону и быстро впустил его, не спрашивая.
В комнате также было очень темно, только в уголке горела заслонённая маленькая лампа, а что окно не было полностью закрыто, пламя её двигалось и мигало.
В глубине на широком низком ложе, зашторенном алым балдахином, отдыхал король, болезненно дремля и грезя, весь в ткани, только с ногами, покрытыми шёлковым одеялом.
Жёлтое, похудевшее лицо его виднелось, лежащее на белых подушках, с закрытыми глазами. Руки белые, костлявые, держал сложенными на груди.
Несмотря на то, что староста старался войти как можно тише, Сигизмунд Август услышал или почувствовал его прибытие, медленно тяжело поднялись веки и задвигались бледные губы.
Горницкий, взволнованный видом умирающего, стоял как вкопанный и его глаза увлажнились.
Мгновение продолжалось молчание, с ложа послышался слабый голос.
– А, это ты… наконец-то… я ждал…
Одна рука с трудом немного поднялась и сделала знак, чтобы он подошёл. Послушный Горницкий медленно приблизился на цыпочках.
Глаза короля, которые были впалыми, поднялись к нему и уста дрогнули.
Староста, так давно и хорошо знавший короля и видевший его в разных расположениях духа, был испуган переменой его лица.
Было это всегда то же самое, серьёзное, ягелонское лицо, облачённое какой-то вечной грустью, но сейчас, приближающаяся смерть придавала ему торжественное выражение, ещё более величественное и важное.
Это не был уже человек, живущий на земле и занятый земными делами, но духом частично в ином мире.
Староста ни одного вопроса задать ему уже не смел, стоял, с болью в душе всматриваясь в него, и заломил руки.
Было слышно тяжёлое дыхание в груди и хрип.
Несколько раз веки немного подвигались и упали.
– Конец, конец приближается, – отозвался он потихоньку после долгого периода ожидания. – Я жил слишком долго, слишком долго, страдал много… оставляю вас сиротами.
Горницкий еле мог подавить плач, который, несмотря на мужество, наполнял его грудь и глаза.
– Милостивый пане, – сказал он, – живите, Бог милостив, здоровье к вам вернётся.
На устах короля была видна как бы незаконченная усмешка.
– Ни для себя, ни для вас этого не желаю, – промолвил он крайне тихим голосом. – Я боролся напрасно, с долей бороться напрасно, никто своей участи не избежит.
Король остановился, словно ему не хватало дыхания, поглядел на Горницкого и шептал снова:
– Вся жизнь, вся стоит предо мной как развёрнутая карта. Вижу её перед собой. Полоса предназначений. У колыбели мать, да, мать, которая должна была быть моим гонителем и недругом моего счастья. Отец, любящий и суровый… льстецы и женщины… а! эти женщины, эти соколы, которые отравили мою жизнь. Из-за них гибну! а я так их любил!
Он замолчал снова.
Горницкий хотел остановить его, и шепнул, что разговор раздражает и утомляет его.
Август, казалось, не слышит и не понимает. Дыхание стало более живым, веки открыли впалые глаза, но сверкающие необычным блеском.
– Ты видел Элжбету[6], первую мою… пала жертвой, невинная, бедная, ангельское создание. В чём она провинилась, что ей мученицей быть предназначено…
Барбара[7]… а! любимая моя Бася, за которую с народом бороться, с матерью войну вести, с целым светом ссориться пришлось, её и меня желчью и полынью поили.
И та, как цветок, на моих глазах увяла… и та…
Горницкий заметил, как две слезы появились медленно из-под век и, нестёртые, покатились медленно по лицу, исчезая где-то на ткани, в которую просочились.
И снова было молчание, король немного поднялся, сделал усилие, но ослабевшее тело вынудило упасть безвольно на постель, он дышал всё тяжелее, но дыхание становилось учащённым.
– Хотел жить с Катериной, тогда смерть нарушила планы. Не мог победить себя. От того, что умру бездетным, последним, со мной в могилу пойдут Ягелоны.
Бог, судьба, предначертание, фатальность, железный закон разрушения.
Горницкий хотел что-то вставить, чтобы грустные эти мысли изменить, король говорить ему не дал.
– Бездетным! – промолвил он. – Это ничего, но сойти без доброго имени, без утешения от великого дела.
Староста, я всё хотел, но ничего не мог. Литва до сих пор дуется на то, что обеспечили её будущее. На Унию я работал всю жизнь, из-за неё отказался от прав… они её не хотят…
Уважал их свободы… плевали мне в глаза за это. Не было более несчастного, чем я. На Русь собирался идти отнимать забранное… препятствия мне ставили.
Врагов повсюду, друзей не имел нигде, нигде, никого.
– А! Милостивый пане, – прервал Горницкий, – не чините нам, верным слугам своим, кривды, мы ценили вас и любили!
– Многие? Кто? – прервал король. – Мой староста, смерть глаза промывает и даёт зрение, что до глубины души проникает… вижу в каждом, что в себе носит, до мозга костей.
Друг для добычи, любовник для милостей и даров, есть многие, а кто любил?
Он замолчал и медленно ударил себя в грудь.
– Я виноват, виноват, – шептал он, – прости мне, пане, я много виноват, а прозрел слишком поздно.
Староста, помните о той сироте, принцессе Анне, я жизнь ей отравил. Что с нею будет? Будет до конца жизни слезами обливаться?
– Милостивый пане, – подхватил Горницкий, – народ никогда своих панов крови не отвергал и не забыл о ней. Не тревожьтесь за судьбу принцессы.
– Слишком поздно придёт к ней корона и брак, – прервал снова тише король. – Катерина много претерпела, София овдовела, сирота Анна на вашей милости.
А что же с этим королевством?
Король остановился и долго молчал, смотрел на старосту, как если бы его вызывал.
– Выбирайте осторожно, чтобы за чечевицу прав своих не лишились. Достаточно тех, кто стремится к нашей короне.
– Император первый, – прошептал Горницкий.
– Император? – пробормотал король. – Из-за них мы потеряли Чехию и Венгрию, обе страны Ягелонам принадлежали. Отец дал им себя запутать и вырвать их у себя. Император сделал меня бездетным, император закуёт вас в неволю!
Он поднял руку, которая тяжело упала на постель.
– Литва за царём[8] из страха. Он тиран. Катерина цепенела от страха, чтобы её не выдали ему; не отдавайте ему Анну, бедную Анну. Убьёт её.
Не смел Горницкий вспомнить о французе, но король сам шепнул:
– Французского короля брат сватается, чужой нам, далёкий, молодой. Польша ничто для него, он ничто для вас.
И добавил после раздумья:
– Прусский герцог? Кто же знает? Захотите его?
Староста слушал с напряжённым вниманием, но эти мысли, перемещающиеся по очереди в голове замечтавшегося, казалось, его слишком удручают; он прервал его, успокаивая.
– Милостивый пане, Бог милосерден. Если осиротить не захочет, будет заботится! Зачем же беспокоиться заранее.
– Да! Судьба неизбежна, необходимость железная, – вздохнул он. – Вижу будущее, вижу его… грустное…
– Ваша милость, – отозвался Горницкий, – хотите мне выдать какие-нибудь приказы? Вы приказывали меня позвать.
Король беспокойно провёл рукой по лбу.
– Не знаю уже, – сказал он, – да… вы были мне нужны… Мне хотелось иметь кого-то при себе…
Его глаза повернулись к двери.
– Соколы и орлы… жадные… никого больше… все чего-то выпрашивают, никто ничего не приносит. Слова утешения… доброй слезы…
– Какой это день? – спросил он вдруг.
– Воскресенье, – шепнул Горницкий.
– Да, было это сегодня утром? Или вчера, или месяц назад? Уже не знаю. Вместе смешалось вместе, всё прошлое лежит запутанным передо мной. Эти соколы…
– Избавиться бы от них, милостивый пане, – сказал староста.
– Плачут, – начал король, – как отец, женских слёз перенести не умею. У Гижанки есть дочь… Мой единственный ребёнок. Заячковская… знаешь… я хотел на ней жениться… ждёт… мир связан…
Зюзю Орловскую даже сюда привезли… и та… А! Эти соколы!
Не смел ничего сказать Горницкий, но ему сделалось неприятно, а когда потом король замолчал, отважился шепнуть:
– Не думать бы о них!
– Да, – вскоре сказал король, – чарами меня и напитками взяли, а здоровье и жизнь ушли. Тех, кого я любил, судьба быстро у меня вырвала… промелькнули через жизнь мою как тени, только сны теперь о них. Вижу их, как бы живые были. Стоят около меня… Элжбета и Бася вместе. Староста, – сказал он живей, – ты привёз мне с собой их изображения?
– Они имеются в Тыкоцыне, – ответил Горницкий.
– Я сейчас хотел иметь… порадоваться ими, – сказал король. – В Тыкоцыне! Езжай же за ними, прошу тебя, езжай и завтра спеши ко мне с возвращением. Хочу их иметь, хочу иметь их непременно сейчас, хотя бы до могилы.
Горницкий начал объяснять, почему их не забрал с собой, но тот, погружённый в мысли, уже, казалось, его не слушает, и повторил:
– Завтра, привези мне их завтра.
Затем словно что-то себе припомнил:
– Белинский, – спросил он, – есть в Тыкоцынском замке?
– Ни на шаг не отходит от него, – ответствовал Горницкий. – Это человек, на которого можно положиться, милостивый пане.
– Поэтому я его над моей казной поставил, – слабеющим голосом добавил Август. – Это муж старой веры, старой праведности. Скажи ему, пусть никому ни отдаёт после меня имущество, кроме принцессы Анны… Она сестёр не обидит, а я хочу, чтобы она обиженной не осталась. Бедная Анна… На её сиротство упадёт корона! Кто знает? Вырвут у неё, может, и моё наследство и её… из Ягеллонок последней.
– Милостивый пане, не может этого быть, – прервал староста, – этих мыслей даже не допускайте; люди бывают неблагодарными, народ неблагодарностью запятнать себя не может.
Лицо Сигизмунда Августа сменило насмешливое выражение.
– Ты ошибаешься, староста, ошибаешься, – промолвил он, – наоборот, благодарных людей, может, что-то найдётся, народы всегда должны быть неблагодарны!
Напрасно хотел запротестовать староста тыкоцынский, король покачал головой.
Но в результате долгой уже беседы была видна усталость.
Среди неё Сигизмунд Август иногда казался спящим. Ему не хватало слов и заполняло их бормотание… Бормотания прерывали новые. Староста не смел без разрешения ни удалиться, ни дольше мучить короля, который, как только его видел, как бы побуждаемый к разговору, открывал уста, и вскоре, исчерпав себя, слабел.
В конце концов, думая, что аудиенция слишком затянулась, он сделал пару шагов от королевского ложа, но король услышал ходьбу и открыл глаза.
– Езжай, – сказал он, – езжай, скоро… прошу тебя… изображения, знаешь, два вместе, Элжбеты и Барбары, привезёшь мне их завтра.
– Я немедленно отправляюсь исполнять приказ, милостивый пане, – отозвался Горницкий, уходя.
Король, должно быть, уже не услышал ответа, потому что староста увидел его с открытыми устами, глубоко спящим, слышалось только тяжёлое дыхание и храп утомлённой груди.
Когда, осторожно подняв занавесь, староста тыкоцынский очутился в предыдущей спальной комнате, в которой у дверей стояли Княжник, Плат и чашник Якоб на каком-то тихом совещании, ему понадобился долгий отрезок времени, чтобы прийти в себя – так ещё в его памяти, в сердце звучало то, что слышал из уст умирающего.
Не подлежало для него сомнению, что король уже с этого ложа боли не встанет, что это были последние часы и слова последние.
Взволнованный до глубины души, Горницкий пытался овладеть собой, но рыданий сдержать не мог.
К стоящему недалеко от порога приблизился Фогельведер и взял его за руку.
– Всякая надежда потеряна? – спросил Горницкий. – Доктора, есть у вас ещё какая-нибудь надежда?
Фогельведер покачал головой.
Мгновение молчали. Доктор взял его за руку и вывел за собой в другую комнату, в которой, помимо референдария Чарнковского, временно находился маршалек Радзивилл, в стороне тихо расспрашивая Якоба Залеского о короле.
Увидев возвращающегося Горницкого, Чарнковский подошёл к нему.
– Ты говорил с ним? – спросил он.
– Да, – сказал староста, – и разговор был для больного, может быть, слишком долгим. Он утомил его, но отпустить меня не хотел.
– Дал тебе какие приказы?
– Приказал мне ехать в Тыкоцын, чтобы ему завтра привёзти два изображения, Элжбеты и Барбары, которые привык носить при себе.
– Завтра! – подхватил Чарнковский грустно. – Но кто же знает, будет ли оно… Бедный пан!
– Не вспоминал что о принцессе?
– Конечно, – отпарировал Горницкий. – Её судьба его очень интересует, имеет великое беспокойство о ней.
Референдарий замолчал.
– Оба доктора, – добавил он после приостановки, – никакой уже надежды не делают. Завтра король на смерть распоряжаться будет.
– Тем более я должен спешить в Тыкоцын, – заметил староста, – чтобы последнюю его волю исполнить и хоть малое привезти утешение.
Он вытер слёзы, они подали друг другу руки.
Уже была ночь, когда Горницкий оказался на дворе королевской усадьбы, который, хотя был тихим, тем не менее его наполняло множество людей.
Зная всех, староста мог, несмотря на темноту, распознать тех, что здесь суетились.
Крайчий и подчаший с Конарским, которому король всё доверял и отдавал ключ от денег, стояли при грузившихся возах. Было видно, что спешили, дабы с разделом ожидаемую уже смерть короля предупредить.
Запрягались кони, шептались люди; из сараев выносили сундуки и разные грузы.
Якоб, королевский чашник, известный своей жадностью и бесстыдством, также крутился около иных карет, с придворными: Платом, Конлфилским и Казановским.
Некоторые из них, казалось, вовсе старосту не замечают, другие смешались, видя его, медленно проходящего двор и рассматривающего то, что тут делалось.
Легко узнаваемая по своей полноте и дерзкой фигуре Сюзанна Орловская, одна из бывших любовниц короля, которая была сознательно в Книшине, ходила также, смотря за вещами, которые в суматохе этой ночи отправляли в свет, только бы из Книшина, боясь следующего дня, так как епископ Красинский, маршалек Радзивилл и референдарий Чарнковский могли задержать добычу.
Смущённый видом Горницкого, крайчий приблизился к нему, здороваясь.
– Я в неприятном положении, – сказал он, – король выдал приказы, чтобы некоторые вещи и раздаренные деньги выслать сейчас из Книшина. Я должен исполнить поручение, а кто знает, какая на меня позднее упасть может клевета. Никто не знает, что я тут ничем не распоряжаюсь, ничем.
– Да, – промолвил Горницкий, стараясь показаться равнодушным, хотя в нём бурлила кровь, потому что был быстрый и к возбуждению склонный, – хорошо было бы, пане крайчий, кроме подчашего, иметь другие свидетельства воли короля, потому что действительно легко предвидеть, что о растаскивании имущества люди позже вспомнят.
– Все знают, – ответил крайчий гордо, – что тут делается, свидетелей достаточно есть.
– То плохо, что те же свидетели будут обвинёнными, – начал Горницкий, – стало быть, их свидетельства не много пробудят веры.
Староста, спеша, хотел уже удалиться, и отошёл от Мнишка, когда с крыльца увидел догоняющего и дающего знаки референдария Чарнковского, который, взяв его под руку, не посмотревши даже на крайчего, стоящего на дороге, отвёл за ворота.
– Вы видели, что делается! – воскликнул он, ломая руки. – Когда король закроет глаза, не будет, что дать ему в гроб. Сегодняшней ночью разграбят остатки. Я знаю, что Конарский все деньги, что были, разослал во все стороны, так что из денег, заимствованных у гданьских купцов, гроша, по видимому, не осталось. Гижанка с Орловской и иными грабителями позабирали драгоценности, даже одного из многочисленных перстней и цепочек не осталось. Что было ткани, шкарлата, шёлка, меха – исчезло всё. Пустота, куда не глянь.







