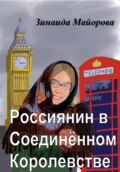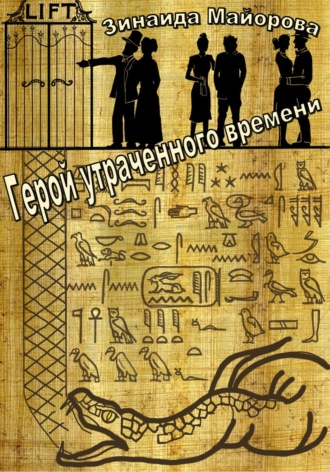
Зинаида Майорова
Герой утраченного времени
Тридцать лет спустя
– Так этот лифт до сих пор ездит? – спросила Мура, с удовольствием доедая десерт. – Я хочу прокатиться в нём.
Она откусывала от эклеров громадные куски, не обращая внимания на брызги крема, летевшие ей на платье.
– Да, лифт в прекрасном состоянии, – подтвердил Эйчджи, ковыряя ложечкой мороженое. – Я с удовольствием тебя на нём покатаю.
Дождавшись, пока Мура прожуёт очередной кусок, он спросил.
– Давно хотел узнать, как тебе удалось удрать от большевиков?
– Я выполняю задание НКВД, поэтому меня отправили сюда.
– Эн, Ка, Вэ, Дэ, – Эйчджи медленно повторил незнакомую аббревиатуру. – Что это?
– Народный комиссариат внутренних дел – да это неважно, они постоянно меняют имя. Это то, что раньше звали ЧК – Чрезвычайная комиссия.
– А это что? – наивность Эйчджи не знала пределов.
– Эйчджи, неужели ты не слышал про чекистов? Такие вежливые люди в кожаных тужурках и с маузерами? Молятся на Дзержинского.
– Мура, я не очень хорошо разбираюсь в советских реалиях. Чем занимаются эти вежливые люди?
– Политическим сыском. Блюдут идеологическую чистоту, вылавливают контрреволюционеров, вредителей и врагов народа. Как царская охранка. Про охранку слышал?
– Мура, не запутывай меня, пожалуйста, царская охранка ловила революционеров, а не контрреволюционеров.
Мура сдалась. Она не знала, как объяснить Эйчджи, что охранка, ЧК, ГПУ и НКВД – это всё одно и то же ведомство с вековыми традициями. Пришлось вместо продолжения ликбеза запихнуть в рот последний кусок эклера.
– И каких контрреволюционеров ты собираешься ловить в Англии, Мура? – Эйчджи не терял надежды разобраться в принципах работы НКВД.
– У меня особое задание, Эйчджи, – Мура умела говорить с набитым ртом. – Я должна манипулировать тобой. Чтобы ты создал светлый имидж кровавого советского режима.
Эйчджи расхохотался так, что чуть не подавился мороженым. Отсмеявшись и откашлявшись, он повёл свою спутницу к лифту сектора Е.
У Муры был особый дар – или проклятие, это с какой стороны посмотреть. Когда она лгала, многие принимали её враньё за чистую монету. Если она говорила правду, то ей никто не верил.
Они зашли в лифт. Он был в точности таким, как рассказывал Эйчджи. Только бурые панели заметно выцвели, поручни покрылись царапинами и не блестели, а чёрные номера на кнопках так стёрлись, что их почти не было видно. Мура сама нажала на кнопку 14 этажа – Эйчджи без очков не разглядел бы цифры. Лифт поехал вверх.
Как только кабина тронулась с места, Мура переменилась в лице. Эйчджи глазам своим не верил – железная леди явно была испугана. Он никогда её такой не видел. Мура прижалась к нему, дрожа от ужаса, и пулей выскочила из лифта, как только он остановился. С минуту они стояли у окна в коридоре – Эйчджи любовался видом на Лондон, а Мура пыталась успокоиться
– Обратно мы пойдём пешком, – сказала она наконец нетвёрдым голосом.
– Не бойся, Мура, я выдумал эту историю от начала и до конца, – попытался он развеять её страхи. – Только что сочинил, чтобы тебя немного развлечь.
– Ты не всё выдумал, – не поверила ему Мура.
– Давай я перечислю тебе достоверные факты. Всё остальное – мои фантазии. Я действительно знаю Эвелин и профессора Гэндрила, и я видел их в тот понедельник около почтового ящика в компании двух девушек, мужчины, похожего на армейского врача и глухонемого юноши. Но я понятия не имею, был ли в этой компании хотя бы один твой соотечественник – это я сам придумал, чтобы тебе было интересней. Я видел письмо в руках профессора, но разумеется, не мог разобрать адреса. И услышать, о чём они разговаривали я тоже не мог – в ресторане было много народу – громкая речь, смех, звон посуды заглушали звуки, доносившиеся из холла. А на следующий день во всех газетах написали о трагической гибели профессора Сауэрмана – тоже египтолога, заметим – в шахте этого самого лифта. Какая это потеря для нации и всё остальное, что обычно пишут в таких случаях. Конечно, я запомнил это совпадение, хотя оно и было совершенно случайным. Я даже подумывал написать роман о египтологах, но так и не собрался.
Конечно, не собрался – вместо этого он стал писать романы о Янтарь, которая ушла от него. Писатель посмотрел на предзакатное небо над крышами лондонских домов и в памяти его шевельнулось ещё одно воспоминание:
– Три дня изнуряющей жары и долгожданная гроза тоже были на самом деле. Я не припомню больше ни одного лета – ни до, ни после – когда бы Лондон превращался в настолько адское пекло. Казалось, что город и его жителей поджаривают на раскалённой сковородке. Первые струи дождя словно вернули нам жизнь – в ресторане сразу открыли окна, и свежий бриз ворвался в зал. Гроза как будто очистила и освободила нас. Я почувствовал, что мир вокруг меня полон любви – я смотрел на людей за соседними столиками и видел, какие они добрые внутри, как хорошо друг к другу относятся, даже если по их лицам так не скажешь. Словно вся природа очнулась и ощутила, что ею движет не слепая борьба за выживание, не битва когтей и клыков, а любовь. Я почувствовал, на один короткий миг, что жизнь – это не просто цепочка нелепых случайностей, в ней есть смысл, гармония,… – он задумался, подбирая точные слова. – Я увидел, что жизнь – это хорошая история, несмотря на весь её трагизм.
Он замолчал, снова припоминая то удивительное мгновение из прекрасного далёкого вечера. Потом повернулся и окинул взглядом коридор – выкрашенные светлой краской стены с длинным рядом зеленоватых квартирных дверей. Если бы можно было найти среди них дверь в лето 190. года!
– Ты ищешь их квартиру? – тихо спросила Мура.
– Нет, конечно, – её здесь нет – я выдумал, будто они здесь жили. Я никогда раньше не был на этом этаже, даже не знал, какого здесь цвета стены и двери, – случайно угадал. Всё, что было на самом деле, я тебе уже перечислил. А всё остальное я сочинил прямо на твоих глазах, Мура, честное слово!
– Я верю тебе, Эйчджи, но обратно всё равно пойду пешком.
Писатель просиял. Выходит, он ещё способен рассказывать фантастические истории так, как будто они происходили на самом деле.
– Я пойду с тобой, Мура. Когда ты доживёшь до моих лет, ты поймёшь, как тяжело в моём возрасте спускаться по лестницам, но ради тебя я готов на всё.
Комментарии от автора
Хочу сказать несколько слов о прототипах персонажей, локаций и артефактов, отражённых в повести.
Среди героев присутствуют три реальных исторических лица. Начнём с Писателя. Эйчджи – это Герберт Джордж Уэллс, родоначальник жанра научной фантастики. Именно он первым описал такие популярные ныне артефакты и феномены, как машина времени, нашествие марсиан и атомная бомба. Последнее изобретение писателя со временем материализовалось за пределами художественной литературы, хотя и не совсем в той форме и не с теми последствиями, какие предвидел Уэллс. Разумеется, логотип с крылатым белым сфинксом позаимствован с обложки первого издания «Машины времени» 1895 года. До Уэллса никому не приходило в голову писать о путешествиях во времени, зато после него в этом жанре отметились практически все известные фантасты. За гениальным дебютом последовало ещё несколько культовых романов, а потом что-то пошло не так. И вовсе не потому, что фантазия иссякла.
Для примера можно сравнить два романа Уэллса, написанных с интервалом примерно в 20 лет. В отличие от знаменитой и многократно экранизированной «Войны миров», повествующей о вторжении бесчеловечных инопланетных захватчиков, утопия «Освобождённый мир» об атомном оружии, прекратившем междоусобные войны человечества, так и не снискала популярности. Отчасти дело в неудачном тайминге – роман был издан в аккурат накануне первой мировой или Великой войны, как её тогда называли. Но главное, как мне кажется, это разница в сторителлинге. Вместо захватывающих историй от очевидцев Уэллс с первых страниц, отчётливо менторским тоном, вдалбливает в читателей всемирную историю, как будто пишет учебник, а не фантастический роман.
Не знаю, чувствовал ли сам Уэллс, что эволюция его таланта пошла не тем путём, но его современники это несомненно ощущали. Сетования Эйчджи по поводу его неудачных поздних произведений – это попытка перевести на русский непереводимую английскую игру слов из каламбура Г.К.Честертона: «Mr Wells is a born storyteller who has sold his birthright for a pot of message». Дело в том, что в канонической английской версии Библии известная идиома о продаже первородства за чечевичную похлёбку включает в себя блюдо под названием «mess of pottage». Поэтому во все времена англоязычные остряки, порицая литературные промахи своих конкурентов, переиначивали чечевичную похлёбку в «pot of message». Жертвуя аллюзиями с русскоязычной Библией, можно перевести это выражение как «горшок пропаганды». Есть доля истины в ехидном высказывании собрата Уэллса по литературному цеху – попробуйте назвать, никуда не подглядывая, хотя бы один поздний роман фантаста. Все его самые увлекательные и запоминающиеся истории написаны на рубеже XIX и XX веков. А ведь Уэллс дожил почти до середины XX века!
Музы Эйчджи тоже настоящие, а не выдуманные, хотя биографии их выглядят как сюжет фантастического романа. Мура – это Мария Игнатьевна Закревская-Бенкендорф-Будберг, роковая женщина по призванию и шпионка по профессии. По слухам она работала на спецслужбы сразу нескольких конкурирующих между собой европейских держав. В общем, Мата Хари Полтавского уезда. Мне неведомо, что думала настоящая Мура по поводу позднего творчества Уэллса, пришлось вложить в её уста оценку другого современника писателя – Джорджа Оруэлла. Ему принадлежат слова: «Wells is too sane to understand the modern world». Сам-то Оруэлл прекрасно понимал, как изменился мир после Великой войны, и предсказывал будущее не хуже библейских пророков. А Уэллс как будто остался в довоенной реальности.
Дуза – это Эмбер Ривз Бланко Уайт, британская феминистка родом из Новой Зеландии. В начале XX века она служила в Министерстве труда, пытаясь расширить ассортимент доступных женщинам рабочих мест. Конечно, её довольно быстро уволили на том основании, что она замужняя женщина, а таковые работать не должны. Эмбер и её муж воспитали троих детей – двух дочерей и сына. Прозвище, придуманное Уэллсом, унаследовала одна из их внучек, известный математик Дуза МакДафф. Биография у неё ничуть не менее интересная, чем у её бабушки, и довольно неожиданная для английской леди из поколения бумеров, но это уже совсем другая история.
Основная локация – гостиница королевы Анны – во многом срисована с одноимённого пансиона, располагавшегося неподалёку от Сент-Джеймсского парка. На момент постройки пансион был самым высоким зданием Великобритании. До наших дней не сохранился, его снесли в 1976 году, поэтому при описании интерьеров и техники автору пришлось вдохновляться картинкой с рекламного постера пансиона, а также опытом эксплуатации лифтов в Главном здании МГУ. Судя по сохранившимся отзывам об архитектуре пансиона королевы Анны, он вызывал у лондонцев примерно те же чувства, что и сталинские высотки у москвичей.
Упомянутая вскользь ради красного словца Мэри Сомервилль – королева науки, как её называли современники, действительно дала своему первенцу имя Воронцов. Её первый муж был российским подданным, хотя и шотландцем по происхождению. Работал в российском посольстве в Лондоне, потому что родители Мэри категорически отказались отпускать её в Россию, пусть даже и не одну, а с мужем. Послом в Англии в то время был граф Семён Романович Воронцов, личность легендарная – о нём тоже можно было бы роман написать. Отчего же не назвать в честь него сына? Для людей нашего времени такой способ генерации новых имён уже превратился в традицию – наверняка и среди ваших знакомых встречаются Вилены или Нинели. Кстати, сочетание имён Цезарь Ганнибал тоже отнюдь не выдуманное, хотя и выглядит несколько сюрреалистично. Так что может быть через пару тысяч лет в моду войдёт сочетание имён Кутузов-Наполеон.
Палимпсест с единственной сохранившейся копией трактата Архимеда «Метод механических теорем» – реально существующий артефакт, с которым связана на сей раз не фантастическая, а детективная история. Согласно одной смелой исторической гипотезе, Исаак Барроу – предшественник и учитель Ньютона – ознакомился с палимпсестом ещё в XVII веке, во время своего путешествия в Константинополь. А если бы не ознакомился, то вся история науки могла бы пойти другим путём. Однако документальных подтверждений у этой гипотезы нет. Официальным первооткрывателем творения Архимеда стал датский филолог Йохан Гейберг, изучивший палимпсест в 1906 году. Он успел сделать фотографии этого раритета и опубликовать их, но сам палимпсест исчез во время очередной греко-турецкой войны, и снова проявился лишь в 1998 году на аукционе Кристи, где был куплен неизвестным американским олигархом за два миллиона долларов. Ныне раритет оцифрован, причём даже наиболее повреждённые участки удалось расшифровать с помощью рентгеновского излучения. Изучить палимпсест Архимеда можно на одноимённом некоммерческом сайте archimedespalimpsest.org.
В заключение сделаю небольшое техническое замечание относительно упомянутых в повести оружейных аксессуаров, чтобы не ввести читателя в заблуждение. Вообще говоря, глушитель Хайрема Максима младшего, известный под брендом Maxim silencer, не был предназначен для револьверов. При выстреле из типичного револьвера выброс газа происходит не только через дуло вместе с пулей, но и через зазор между стволом и барабаном. Поэтому звук взрыва распространяется даже при наличии на стволе глушителя. То есть привинтить глушитель к стволу можно, достаточно сделать резьбу, но желаемого эффекта такая конструкция не даст. Тем не менее, имеется одна популярная на рубеже XIX и XX веков модель револьвера, с которой глушитель работает в штатном режиме. Но это не маузер. Это наган. Название тоже знакомое, и тоже преисполненное смыслами, но с ним у русскоязычных читателей связаны совершенно другие литературные и исторические коннотации.
Сравните, например, высокую поэзию:
Ваше
слово,
товарищ маузер.
с народной песней:
Там сидела Мурка в кожаной тужурке,
А из-под полы торчал наган.
Кроме того, именно маузер был любимым оружием английских джентльменов в описываемый исторический период. Покупали его в первую очередь для престижа, а не для дела, как дорогой и стильный револьвер, прекрасно демонстрирующий статус своего владельца. Что касается нагана, то он был принят на вооружение армией Российской империи, и тем самым являлся боевым оружием русских офицеров. Поэтому заменить маузер на наган в повести не было ни малейшей возможности. Пришлось пожертвовать технической правдой ради художественной, за что и приношу свои извинения читателям. В своё оправдание замечу, что поскольку маузер так и не сказал своего слова, этот оружейный ляп в результате ни на что не повлиял.