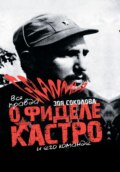Зоя Соколова
ДОРОГА ЖИЗНИ ГВАРДИИ РЯДОВОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ ОТЦА
Отец вернулся с войны со значком «Гвардия» – предмет его особой гордости – на солдатской, поношенной гимнастерке, с огромной пачкой благодарственных грамот от Верховного Главнокомандования. Он ими очень гордился, и часто усаживал нас, детей, вокруг стола и доставая одну за другой, рассказывал нам о своем боевом пути, о странах, городах, людях и их обычаях, которые он успевал точно подметить с зоркостью крестьянского глаза, с детства приучаемого к наблюдению за всем, что окружает. И как я понимаю теперь, в своих оценках он был объективен. Говорил о простых людях: особенно поляках, немцах. Мой детский разум запечатлел в памяти его контрастный по содержанию рассказ об одном немецком докторе. Дело было уже в Германии после штурма Берлина. Отец заболел. В первые дни болезни он не придал ей особого значения, решив, что это всего лишь реакция организма на взятие Берлина, следствие общей расслабленности: враг повержен, над рейхстагом Красное знамя Победы, не подает признаков жизни фашистская столица. Время шло, а мобилизовать силы внутренние никак ему не удавалось. Одолел его кашель, который ничем нельзя было унять, температура не спадала. Сидеть за рулем машины с каждым часом становилось все более рискованным. К нему вызвали доктора. Это был пожилой немец. Он, похоже, был прикреплен к 76-му Отдельному авто полку, который расположился в одном из пригородных пунктов Берлина. Из всего сказанного на чужом языке отец понял, что он еще молодой ( отцу было в то время 36 лет), и запомнил только одно слово. Это был то ли «паракодеин», то ли просто «кодеин». Подозвав к себе медсестру, доктор распорядился принести для больного лекарство. Медсестра, юная немка по имени Мартельхен сама высыпала на язык отца какой-то белый пряный порошок и попросила запить его чистой водой из мензурки. Уложив в постель, накрыв его одеялами, девочка все не отходила. Реакция организма была скорой и очень, как показалось отцу, неожиданно резкой. По телу прошла ломота. Отца укутали еще одним одеялом. «Меня кинуло в жар. Я весь вспотел. И думал только об одном: дал себя убить! Как же это я опростоволосился. Пуля не взяла, а порошку доверился. Это была моя последняя мысль, с которой я окунулся в небытие. – говорил отец – Проснулся я весь мокрый, в поту. Первая мысль по пробуждении наутро была: а ведь я жив! Из заданного подошедшим ко мне доктором вопроса, я понял только одно слово – мое имя: Иван и «маладес». Отец всю жизнь жалел, что не запомнил имени этого доктора и всякий раз, когда ему приходилось бывать в нашей районной больнице, вспоминал о милосердии Мартельхен. «Не все немцы – фашисты» – вывод, которому он пришел, пока его продолжали долечивать немецкий доктор и юная, худющая (так говорил отец) сестра милосердия.
В такие часы за «круглым столом», которые проводил с нами отец, мы инстинктом чувствовали, как счастлив наш отец – видеть перед собой своих четырех детей. Мне было уже двенадцать лет, сестре Гале – десять, брату Юрию – восемь. Все – «школьники». Але, родившейся в день завершения Сталинградской битвы, 2 февраля 1942 года, было четыре годика и ее вниманию рассказам отца можно было только дивиться.
Так получилось, что все его правительственные награды отцу были вручены уже после демобилизации. 28 августа 1946 г. он получил медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (удостоверение Ш № 0349182, в котором отмечено, что этой медалью он награждается «За участие в Великой Отечественной войне Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года»). 29 декабря 1948 года он получил на руки еще две медали. «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина».
МЕДАЛЬ «ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ВАРШАВЫ».
В удостоверении к медали «За освобождение Варшавы 17 января 1945 г.» (Б № 109249) говорится, что этой награды отец удостоен «За участие в героическом штурме и освобождении Варшавы Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 г.».
У меня нет объяснений, почему медали вручались отцу с таким запозданием. Были на то какие-либо «технические» причины или это было связано с чем-то другим. Причины могли быть разные, но уверена, что они никак не связаны с личностью гвардии рядового Ивана Соколова. И не в выяснении этих обстоятельств состоит моя задача. Не в них суть. Главное: награды его нашли, а медаль «За освобождение Варшавы» находится на вечном хранении у правнука участника героического штурма и освобождения Варшавы, Иво Чернявского, родившегося – по иронии или закономерностям судьбы рядового – в мае 1985 года в Варшаве, когда отмечалось 40-летие и освобождения Варшавы, и победы над фашистской Германией, но уже после кончины его прадеда 23 марта 1979 года. Медаль по праву должна храниться у него еще и потому, что в творческой личности правнука как бы реализовалась несостоявшаяся детская мечта его прадеда: научиться играть на скрипке. Дело в том, что мой дедушка Антон, краснодеревщик, в начале прошлого столетия в кругу ивановских скрипачей и любителей музыки считался мастером по изготовлению скрипок. Его скрипки пользовались популярностью. Не исключено, что у кого-то в доме до сих пор в Кинешме, например, где дед работал, хранятся экземпляры скрипок с пометкой «Антон Соколов». Мои детские воспоминания хранят рассказы тетушки Дарьи Антоновны о том, что дедушка и сам хорошо играл на скрипке, а когда он обнаружил в своем маленьком Иване, последнем сыне, «уникальный», по его выражению, музыкальный слух, подарил ему скрипку собственной работы и обучил азам игры на этом инструменте. Успехи были. Отец не стал скрипачом, и не мог им стать: для этого нужны другие жизненные условия. Но вплоть до ухода на фронт в 1941 г. он бережно хранил подаренный отцом инструмент как самую дорогую реликвию и как память о своем отце, погибшем в огне гражданской войны в 1921 году в Кинешме. Обстоятельства его гибели семье узнать до конца так и не удалось, но в доме почему-то всегда шепотом поговаривали, что погиб он от руки своего близкого товарища после одного из концертов, с которым он выступил в клубе в Кинешме перед рабочими.
Уходя на фронт, отец строго наказал хранить скрипку до его возвращения с войны. Мы не выполнили этот наказ отца. Инструмент был похищен, как нам вскоре после его пропажи удалось установить, сбежавшей из нашей деревни коварной и неблагодарной «беженкой» Натальей, которую спасла от голода, дала кров и пригрела моя сердобольная и доверчивая мать. Укутанная сероватым сукном и уложенная в льняной чехольчик скрипка вместе со смычком хранилась, как считали в доме, в надежном месте: в сундуке, стоявшем на утепленном чердаке дома. Но глаз и руки вора во время войны до нее все же дотянулись. О пропаже скрипки семья спохватилась случайно, после того, как к матери с тревожной вестью пришла однажды (дело было летом, и я это хорошо помню) соседка напротив нашего дома – «Лашеиха» (так называл ее и стар и млад) А вообще-то она была в действительности очень уважаемой всеми труженицей Марусей Петряковой. Решила она в солнечный день проветрить и просушить залежавшуюся за зиму одежду и обнаружила вдруг исчезновение из фибрового чемодана фамильной, передававшейся из поколения в поколение дорогой льняной скатерти в мережку и вышитых, старинной работы рушников, приготовленных, как приданое, для единственной дочери Нюры, свадьбу которой сорвала война. Жених ушел на войну.
Рассказав о пропаже, она несколько раз настойчиво повторила: «Проверь, Малюка, все ли цело у тебя?» Мать кинулась к сундуку. Скрипки не было. Тут всполошилась вся деревня. Пропажу разных памятных вещей обнаружили и другие женщины.
– Это дело рук сбежавшей сторожихи, – в один голос заявили женщины. – Больше некому.
– Ищи свищи ее теперь. Потому и сбежала. – решили женщины. Спокойствие их однако было нарушено. Да и другим беженкам, оставшимся в деревне, как-то вдруг стало неловко выдерживать тяжелые взгляды деревенских баб. Им нанесено было оскорбление, которого они никак не заслужили. Замков в деревне ни на дверях, ни на воротах сроду не было. Об отсутствии в доме хозяев пришельцев и гостей оповещал прислоненный к двери или воротам черенок лопаты, а то и вовсе какой-нибудь захудалый посох.
Сбежала Наталья по весне 1944 года, вскоре после пасхи. Негодование женщин и их проклятия в адрес воровки перемежались с сообщениями о без вести пропавших и похоронками, которые все шли и шли. Пришла горестная весть о гибели под Витебском дяди Пети, старшего брата отца. Горя было много. Святость этого чувства у женщин было загажено недостойным поведением женщины, матери 6-летнего мальчика, позарившейся на чужое добро. Запал мне в память разговор между собой баб нашей деревни. Говорили о Наталье не иначе, как о воровке из «банды». Повод для таких подозрений появился у них еще раньше, когда Наталья попыталась расплатиться с Лашеихой за купленное сливочное масло простыней, на которой в двух местах были проставлены зеленовато-синие печати с надписью какой-то больницы. Простыня тут же была возвращена, масло сопровождено словом: «Подавись!». А дружное сообщество горемычных деревенских баб пригрозило «убить воровку». Приговор ворованной простыне был суров и краток: «Да уж лучше чистую солому под себя стелить, чем на этой пакости лежать». «Неужто я под позор сведу свою дочь таким приданым?» Суровость времени вытеснила переживания женщин, связанные с пропажами и воровкой. Все жили одной надеждой: скорее б кончилась война. А она все шла, хотя уже и за пределами нашей страны.
Между тем моя память, видимо, не случайно возвращает меня к мысли о какой-то внутренней связи, существующей между сермяжными истинами быта военного времени и наградами отца за его ратные подвиги.
И лично для меня как невольного летописца этих событий, да и вообще для нашей семьи все обстоятельства, связанные со скрипкой, Варшавой, Польшей как бы сплелись в единое целое. И это нельзя, видимо, считать случайными. И дело, наверное, не в какой-то мистике, конечно, хотя и такие мысли мне приходят в голову. Ясно одно: не являются эти обстоятельства обыденными по причине прямой причастности предка моих потомков к историческим событиям, которые не могут и не должны быть забыты. Мне хочется без конца повторять: «Пусть «пепел Клааса стучит в их сердцах». И меня, как автора, не заинтересованного, честно говоря, в самой возможности и допустимости возникновения в будущем разного рода «семейно-клановых» трений или недоразумений в отношениях между близкими мне людьми, это обстоятельство обязывает быть предельно объективной и внимательной при рассмотрении исторических фактов и очищении их от субъективизма, от кого бы он ни исходил. Раскрытие же исторической подлинности природы самих фактов обязывает учитывать чрезвычайную экстремальность всей обстановки, которая в тех условиях диктовалась логикой войны и масштабностью бранного противоборства враждующих сил. В первую очередь это касается тех из их множества случаев – к ним можно отнести и Варшавское восстание 1944 года, – когда в ход военных действий, развивающихся по собственным законам и присущей им логике, дополнительно примешиваются действия враждующих между собой политических сил. Заинтересованность этих сил в достижении собственных целей и решении узкокорыстных задач (в случае с варшавским восстанием – захват политической власти) превалировала над стремлением рядовых варшавских повстанцев освободить свою столицу, изгнав из нее фашистов. Тем страшнее безнравственность попыток, суть которых очевидна: подмять под свои «планы» поле брани миллионных армий, обречь рядовых воинов в одночасье быть превращенными просто в пушечное мясо во имя обеспечения собственной власти узкого круга политических деятелей, позиция которых отнюдь не отражала интересы всего народа Польши.
Не скрою, исходным для меня при оценке общей ситуации и войсковых действий, связанных с освобождением всей Польши и в особенности Варшавы, навсегда останется ужасающе трагический факт: на алтарь свободы польского народа принесли ни в чем не повинные головы шестьсот тысяч красноармейцев. Это более шестидесяти процентов от общего числа советских воинов, погибших за освобождение всей остальной Европы. Все они – однополчане, соратники, собратья моего отца, память о которых тревожила его сон все послевоенные тридцать четыре года, пока он был жив. Отец не был ни политиком, ни идеологом. Он – солдат, но политика и идеология глубокой бороздой прошлись по его жизни. А теперь грозятся пройтись и по памяти о нем. Когда он, сражаясь за Польшу, за Варшаву, шел под вражеские пули как солдат-освободитель, он на столетия вперед вправе заслужил право на доброжелательное к себе отношение потомков тех, кого он освобождал шестьдесят лет назад.
Не всегда сразу можно разобраться, во имя чего ломают перья иные, дающие вовлечь себя в политические дрязги ученые-историки, и копья – политики, так и не удосужившиеся усвоить уроков истории. Ясно, что не в интересах научной истины и не для уяснения, например, достоверности исторических событий сегодня модернизируются и реанимируются различного рода измышления именно тех политиков, на чьей совести драма антифашистского восстания варшавян в августе-октябре 1944 года и трагедия его поражения. А так называемая новейшая история, начало которой положили распад СССР и развал мировой социалистической системы, как наука, вообще игнорирует и научные категории анализа, и объективные законы исторического процесса. Такой подход можно проследить при сопоставлении современной – в связи с 60-тилетием – интерпретации данного события с результатами научного исследования, которые были осуществлены непосредственным его участником, антифашистом Рышардом Назаревичем. Его книга «Варшавское восстание. 1944 год. Политические аспекты» в 80-е годы прошлого века выдержала в Польше несколько изданий, переведена на русский язык. (Назаревич Р. Варшавское восстание. 1944 год. Политические аспекты. М. Прогресс, 1987).
В своем обращении к русскому читателю автор раскрывает истоки фальсификации всех обстоятельств восстания и причины ярой антисоветской направленности суждений. Тех, кто давал оценки этому событию. «Под лозунгом «очищения истории от лжи», – пишет автор, – эксгумировались и шли в ход легенды, мифы и фальшивки, собранные за десятилетия. В них открыто обвинялись как СССР, так и польские революционные власти, что они дескать злонамеренно не захотели оказать помощь восставшим и, сложив руки, ожидали, когда гитлеровцы расправятся с сотнями тысяч варшавян, уничтожат город. Они обвинялись также в том, что якобы подстрекали поляков к восстанию, а когда оно началось, наступление Красной Армии было приостановлено на подступах к городу, чтобы руками немцев «задушить» нежеланное для советского руководства польское правительство; якобы советское командование заранее знало о замысле восстания и выслало своего представителя в штаб Армии Крайовой (АК) в Варшаве, а десантная операция1-й армии Войска Польского в помощь восставшим была проведена генералом Берлингом вопреки воле советского командования; якобы польское правительство в Лондоне и главное командование АК занимало позитивную позицию в отношении СССР и делали все возможное для достижения взаимодействия с Красной Армией, но до этого не дошло по вине советской стороны; якобы оставшиеся в подполье некоторые части АК не поднимали оружия в тылу Красной Армии и Войска Польского и все меры против них были незаконны и несправедливы; якобы помощь Варшаве с воздуха западными державами была ценной, а советская помощь пришла поздно и оказалась неэффективной и т.д.; якобы Великобритания и США испытывали большую симпатию к Польше и готовы были сделать все, чтобы помочь сражавшейся Варшаве, но только Советское правительство противилось этому».(С. 6 – 7).
Созин И.В.:
«Характерная черта книги – ее полемичность. Автор с фактами в руках критикует тех западных (особенно эмигрантских польских) историков, которые пытаются обелить действия зачинщиков восстания и свалить вину за его поражение на командование Красной Армии, якобы намеренно приостановившее в августе 1944 года свое летнее наступление именно на подступах к героически борющейся с превосходящим врагом Варшаве и безучастно наблюдавшее чуть ли не до начала второй декады сентября за тем, как рассвирепевшие солдаты вермахта расправляются с почти безоружными повстанцами.
…Основное содержание книги – это полный драматизма документированный рассказ о сути трагедии, разыгравшейся в августе-сентябре 1944 года в польской столице. Тогда польские буржуазные политики и военные, воспользовавшись тем, что Красная Армия приближалась к Варшаве, и рассчитывая на то, что отступавшим немецким войскам не удастся удержать ее, решили поднять в польской столице восстание и, овладев ею провозгласить там власть польского эмигрантского правительства. Тем самым они думали поставить Советский Союз и мировое общественное мнение перед свершившимся фактом» (с.222).
Для буржуазных деятелей Польши – СССР = классовый враг и только! И для них восстание = политическая акция и только, а вовсе не избавление народа от кошмара гитлеровской оккупации. Правительство-то в эмиграции!!! И отсюда все те политические махинации эмигрантских правителей (над их головами бомбы не взрывались, они не голодали, наоборот жили припеваючи в прямом смысле этого слова).
О предстоящем восстании знали почти в деталях Англия и США, но Англия направила помощь, ее авиация, основную часть полетов совершали польские летчики, осуществила несколько полетов, а США вообще – один челночный полет, хотя пригородные для них аэропорты под Полтавой, разбитые немецкой авиацией 21 июня. были восстановлены и предоставлены им уже 10 сентября. ( специалисты так до сих пор и не изучили, почему перерыв в челночных операциях длился с 27 июня по 18 сентября)… 10 сентября были начаты наступательные операции 1-го Белорусского фронта.
Созин: Назаревич «четко отделяет он этих политических авантюристов от тысяч и тысяч польских патриотов, искренне веривших в то, что своим активным участием в восстании они приближают момент освобождения Варшавы и всей Польши из-под фашистского гнета», о движении Сопротивления. За спиной этого движения зачинщики восстания договаривались с немцами о капитуляции ( это тогда, когда французское сопротивление одержало победу и освободило Париж всего за одни сутки(?)).
(Капитуляция была предпочтительнее, фашисты им были ближе тех, кто их уничтожал – Иван Антонович)
И что же? Вот Польша отмечает 60-летие Варшавского восстания, которое длилось 63 дня. Дата и славная и печальная. Но уже в преддверии к этой дате в средствах массовой информации было брошено столько комьев грязи в адрес тех, кто именно и освободил-таки Варшаву. В адрес Красной Армии. В самих этих событиях попытаюсь разобраться чуть ниже. Времена поменялись: на торжества приехал глава правительства Германии Герхард Шредер, вице-премьер Великобритании Джон Прескотт, госсекретарь США Колин Пауэл. Лица знаковые. В польской печати промелькнули строки обиды, что никто не приехал из российского руководства. Владимир Путин направил президенту Польши Александру Квасьневскому послание, в котором говорится: «Героизм варшавян, среди которых были люди разных убеждений, стал еще одной славной страницей в летописи Второй мировой войны. Этот порыв, отчаянная схватка с захватчиками внесла весомый вклад в общую победу над нацизмом». Корректная оценка и события, и отношения к нему со стороны государства, отдавшего шестьсот жизней своих граждан за освобождение Польши.
В общественном сознании поляков до сих пор культивируется мнение, что, находясь на берегах Вислы, советские войска якобы не пришли на помощь восставшим. Но «обида» почему-то адресуется только Красной Армии. А что союзники, в расчете на помощь которых строилась вся стратегия, включая неприкрытое и коварное двуличие, и тактика эмигрантского правительства и Армии Крайовой? Это же с их подачи бросили варшавян на схватку с гитлеровскими оккупантами, не удосужившись ни вооружить повстанцев, ни дать им политическими средствами (путем переговоров, например) в союзники советских воинов, готовых прийти на помощь. И сегодняшние попытки реанимировать и оправдать эту политику не только противоречит исторической истине, но смердит зловонием дел сошедших с политической арены буржуазных деятелей того времени. Это не что иное, как
В итоге изощреннейшие инсинуации берутся сегодня на щит и вооружение людьми, что называется не нюхавшими пороха. Их цель столь же ясна, сколь низменна: умалить или хотя бы бросить тень на Советский Союз, его народ, на солдата Красной Армии, на три года оставленного один на один в битве с жестоким врагом и так и не получившего обещанного союзниками «второго фронта» ни в момент контрнаступления под Москвой, ни в ходе почти трехмесячного сражения под Сталинградом, ни во время битвы на Курской дуге, когда он, изгоняя фашистскую нечисть из своей страны, сломал хребет осатанелого зверя и изменил ход всей Второй мировой войны. Красная Армия сражалась. Ей было не до «культивации» обид. 3 сентября 1941 г. Сталин просит Черчилля открыть «в этом году второй фронт где-либо на Балканах или во Франции, могущий оттянуть с восточного фронта 30 – 40 немецких дивизий, и одновременно обеспечить 30 тысяч тонн алюминия к началу октября с. г. и ежемесячную минимальную помощь в количестве 400 самолетов и 500 танков (малых или средних). Без этих двух видов помощи Советский Союз либо потерпит поражение, либо будет ослаблен до того, что потеряет надолго способность оказывать помощь своим союзникам своими активными действиями на фронте борьбы с гитлеризмом». (Черчилль, с. 207). Мнение Черчилля по данному вопросу выясняла и его жена, возглавившая через «Красный Крест» кампанию «Помощи России». Сколь категоричен был английский премьер видно из его директивного письма послу Криппсу: « я сказал ей, что о втором фронте не может быть и речи» (Черчилль, с.219).
Понятно, что народы порабощенной гитлеровской Германией Европы с надеждой смотрели на героическую Красную Армию, когда она, хотя и истощенная в нескончаемых битвах, появилась у границ Европы и своими победами вынудила союзников осуществить операцию «Оверлорд» (6 июня 1944 года), ознаменовавшую открытие «второго фронта», который между прочим всякий раз в любой трудной для себя ситуации запрашивал (и получал!) помощь, (чаще экстренную) от Верховного Главнокомандования Советской Армии.
31 июля войска 1-го Белорусского фронта прорвались к предместью Варшавы – Праге, освободили города Миньск-Мазовецки, Седлец.
1 августа. Войска 1-го Белорусского фронта форсировали Вислу и захватили плацдармы в районах гг. Магнушев и Пулавы.
Проведение операции осложнилось непредвиденным фактором: внезапностью, без согласования с командованием Красной Армии вооруженного восстания в Варшаве. В чем смысл этой акции? Какова цель ее руководителей? И кто, собственно, его организаторы?
Лучшим ответом на этот вопрос будет, если дать возможность читателю самому разобраться, кто был кто в ту страшную годину для польского народа.
ТАК КТО БЫЛ КТО?
2 апреля 1944 г. правительство СССР сообщило на пресс-конференции, что части Красной Армии на отдельных участках перешли реку Прут и вступили на территорию Румынии. Верховное Главнокомандование дало приказ преследовать гитлеровцев до их полного разгрома и капитуляции. Советское правительство заявило, что у СССР нет целей захвата чужих территорий и вступление на территорию другого государства, в частности тогда еще только Румынии, «диктуется исключительно военной необходимостью и продолжающимся сопротивлением войск противника» (Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны: Документы и материалы. М., 1946, т. 2, с. 105).
С. М. Штеменко: «В Генштабе по традиции готовили материалы для первомайского приказа Верховного Главнокомандующего. Настроение было приподнятое: наступило время полного освобождения Родины. А там… А там, когда выгоним врага из нашего дома, думалось, будет легче.
С такими мыслями мы с заместителем начальника Генерального штаба А. И. Антоновым и отправились в Ставку для очередного доклада. Как обычно, когда на фронтах дела шли благополучно, у Верховного Главнокомандующего было отличное настроение, и он быстро решал все вопросы. Обсуждая текст майского приказа, мы оба выразили уверенность, что теперь, за рубежом, все трудности будут преодолеваться быстрее. И. В. Сталин пристально посмотрел на нас и… быстро охладил наш пыл. Он сказал, что противник теперь напоминает раненого зверя, который вынужден уползать в свое логово, чтобы залечить раны. Но раненый зверь еще опаснее. Его надо преследовать и добить в собственной берлоге.
И. В. Сталин подчеркнул, что освобождение народов, находящихся под игом фашизма, дело не менее трудное, чем изгнание немецко-фашистских войск из пределов Советского Союза. Развивая свою мысль он сказал, что за рубежом страны войска попадут в политическую обстановку, коренным образом отличающуюся от нашей, социалистической: там на ход вооруженной борьбы, на взаимоотношения с союзниками будут влиять интересы антагонистических классов. Будут у нас добрые друзья, но будут и враги, особенно из среды ранее правивших классов и тех слоев населения, которые их поддерживали». (С. М. Штеменко. Генеральный штаб в годы войны. Книга вторая. М., 1981. С. 42-43).
Особенно остро это проявилось в ходе освобождения Польши. Свидетельством тому является политика эмигрантского правительства Миколайчика на протяжении всего периода пока шла война.
Сентябрь 1939 года. Польша оккупирована фашистами. Страна стоит перед фактом полной потери независимости, народ – перед угрозой полного физического истребления. Политическая элита эмигрирует. В Париже было создано эмигрантское правительство во главе с генералом Владиславом Сикорским, занявшим сразу же и пост главнокомандующего. План дальнейших действий: поднять всеобщее восстание против оккупанта. Опора – формируемые в эмиграции же регулярные части вооруженных сил и подпольный Союз вооруженной борьбы (СВБ), созданный эмигрантским правительством и возглавленный Казимежом Соснковским, находившимся на тот момент со своим штабом также в Париже. Правительство в эмиграции обладало немалыми материальными средствами и отлаженной пропагандистской машиной, цель которой формировать общественной мнение, положив в основу тезис о «двух врагах»: фашистская Германия и Советский Союз. Курс: подготовка всеобщего восстания, которое должен был поднять СВБ, увязка действий с вооруженными силами, сформированными на Западе, и их координация со стратегическим курсами Англии и Франции. Планы были готовы к середине 1940 г. и предусматривали изгнание немецких оккупантов и обеспечение «внутреннего порядка: занятие и охрану силами СВБ предтечи Армии Крайовой ( с 14 февраля 1942 года) определенных объектов, взятие административных функций» т. е. фактическую передачу всей полноты власти эмигрантскому правительству. На случай же вступления Красной Армии на польские земли, захваченные фашистской Германией, планировались уход СВБ в подполье и вооруженная борьба с советскими войсками.
Так называемая элита польской эмиграции и при некоторых перестановках внутри правительства (например, приход на премьерское кресло Миколайчика) продолжала в принципе придерживаться этой своей «генеральной», так сказать, линии. Не повлияли на нее некие чисто внешнего плана модификации военно-политических позиций и после ряда заключенных между Польшей и СССР договоренностей: военного союза от 30 июля 1941 г., военного соглашения от 14 сентября того же года, Декларации о дружбе и взаимной помощи от 4 декабря 1941 г., которая была подписана Сталиным и Сикорским. Остался фактически в силе ноябрьский (1941) приказ о вооруженном противодействии Красной Армии. Это видно из «Личной и секретной инструкции для командующего вооруженными силами в стране», подписанной Сикорским через три месяца после выше упомянутой Декларации (8 марта 1942 г.). В секретной инструкции подчеркивалось: «политические и военные соглашения привели к формально дружеским союзническим отношениям между двумя государствами». Иными словами: мы с вами ведем переговоры, «договариваемся», а камень держим за пазухой на всякий удобный для нас момент.
Одним из пунктов соглашения между Сталиным и Сикорским было создание в СССР польских воинских частей и вовлечение их в общую борьбу. «Польская армия на территории СССР будет действовать в оперативном отношении под руководством Верховного командования СССР, в составе которого будет состоять представитель польской армии». (Внешняя политика Советского Союза… т.1, с. 138).
Главнокомандующим польской армии на территории СССР был назначен генерал Владислав Андерс, имевший некоторый опыт командования группой войск в период германо-польской войны 1939 г. По просьбе польского командования подготовка польских воинских частей велась ускоренными темпами. Генерал Андерс предложил готовые дивизии отправлять на советско-германский фронт. Сначала формировались пехотные дивизии – 5-я и 6-я из числа польских граждан, бежавших из Польши и пожелавших добровольно вступить в эти дивизии. 25 октября польская армия насчитывала уже 41,5 тыс. (по установке 30 тыс.) и продолжала расти. Несмотря на трудный для СССР час войны правительство СССР предоставило польскому эмигрантскому правительству заем 100 млн. руб. для оказания помощи польским гражданам. Кроме того, на содержание польской армии на территории СССР был дан особый заем 300 млн. рублей. Польские войска оснащались советским вооружением и техникой. Их снабжение было приравнено к снабжению формируемых к снабжению формируемых дивизий Красной Армии. Однако когда 5-я и 6-я дивизии были уже обучены и готовы к вступлению в бой, Сикорский обратился к правительству СССР в декабре 1941г. (в самый разгар битвы за Москву) эти дивизии на фронт не отправлять, а расширить контингент польских частей до 96 тыс., заверил также, что вооружение для этих частей даст английское правительство. Торжественные заверения Сикорского о том, что польские части «рука об руку» с советскими войсками будут сражаться против общего врага оказалось пустой декларацией. Позиция – своекорыстной и предательской. По просьбе же Сикорского тогда центры формирования были перенесены в Среднюю Азию. На передислокации частей в Среднюю Азию настаивал Черчилль. Их доводы: Советы не выдержат напора немцев под Москвой и падут (И это вместо помощи?). Цель: загородить дорогу Гитлеру от возможного похода в Индию.