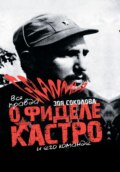Зоя Соколова
ДОРОГА ЖИЗНИ ГВАРДИИ РЯДОВОГО
Министр обороны эмигрантского правительства Миколайчика, генерал Кукель, известный историк, сторонник концепции вооруженного восстания в Варшаве, спустя много лет после войны признавал: «Бесспорно – борьба АК за Варшаву являлась демонстрацией, целью которой было застать врасплох как немцев, так и русских. Если «Бур»-Коморовский имел намерение в Варшаве сражаться с немцами, то ему следовало договориться с русскими, узнать их планы и возможности. Но поскольку «Бур»-Коморовский хотел в Варшаве создать сопротивление русским, то лучше было восстания не поднимать, ибо оно имело катастрофические последствия» (цит. По Назаревич, с. 84).
Заместитель делегата эмигрантского правительства Адам Бень («Валькович») в своих записках о восстании писал: «В Варшаве, наверное, нет ни одного человека, который бы не понимал, что эффективно помочь борющейся Варшаве, разбить немцев и освободить столицу может только Советская Армия. Никто другой. Но поможет ли она? Это уже совершенно другой вопрос. Прежде всего, будет ли она в состоянии помочь? Все указывает на то, что перед началом восстания его сроки не согласовывались с советским командованием, никто не спрашивал, отвечает ли битва за Варшаву ближайшим планам и возможностям Советской Арии, ведущей операции в Польше». (Powstanie warszawskie w notatkach Ama Bienia/ Назаревич, с. 84).
Иван Антонович: «Воевать – не краковяк танцевать». Вот уж точен, так точен в своих думах солдат.
Эмигрантское правительство всякий раз отвергало обращения ППР о совместных действиях против фашистских оккупантов, а после создания 1 января 1944 г. Крайовой Рады Народовой встало на путь борьбы с этим многопартийным представительским органом. Польский комитет национального освобождения (ПКНО) заключил соглашение с СССР о принципах функционирования администрации после вступления на территорию Польши Красной Армии. Создание Крайовой Рады Народовой обеспокоило Черчилля, который опасался, что после продвижения советских войск за «линию Керзона» в Польше может быть создано просоветское правительство. В письме Сталину он пишет: «Создание в Варшаве иного польского правительства, чем то, которое мы до сих пор признавали, вместе с волнениями в Польше поставило бы Великобританию и Соединенные Штаты перед вопросом, который нанес бы ущерб полному согласию, существующему между тремя великими державами, от которых зависит будущее мира» (письмо от 1 февраля 1944 года. См. Черчилль). Черчилль в то же время усиленно рекомендовал эмигрантскому правительству Польши приступить к переговорам с СССР, но оно не вняло голосу английского премьера. Тогда Черчилль открыто обозначил свои позиции в выступлении в палате общин, заявив, что Великобритания никогда не гарантировала Польше довоенной восточной границы. Одновременно он поддержал расширение территории Польши «за счет Германии как на севере, так и на западе». От СССР Черчилль добивался признания правительства Миколайчика, боясь, что СССР признает КРН. Это вызвало протест у эмигрантского правительства, в прессе поднялась антисоветская кампания.
Миколайчик в сопровождении бывшего начальника оперативного отдела главного штаба АК полковника Станислава Татара наносит визит в Вашингтон. Но из решения начальников штабов США и Великобритании от 7 июля 1944 года (до начала восстания остается меньше месяца), из которого следовало, что:
– командование союзников не имеет возможности для доставки по воздуху оружия в количествах, достаточных для обеспечения восстания в Польше. Это возможно только морем в увязке с советскими операциями;
– определить срок восстания в Польше могут только польские власти по согласованию с наиболее заинтересованным союзником – СССР;
– диверсионные акции, нарушающие немецкие коммуникации в Польше, полезны прежде всего СССР, и именно с ним необходимо согласовывать. (с.40-41).
Стало ясно, что западные союзники не поддержат плана польского восстания, не согласованного с СССР, и что АК не получит помощи, большей, чем это делалось до сих пор, то есть достаточной лишь для ведения разведки и ограниченных диверсий. Кроме того, Англия дали понять, что она сможет поддержать восстание не ранее января 1945 г.
Между тем игра и двуличие командования АК продолжалось. Оно запретило даже вхождение отрядов АК в состав сформированного в СССР Войска Польского под командованием Берлинга при его вступлении на территорию Польши. Между тем боясь политической изоляции, эмигрантское правительство разыгрывало «согласование» своих действий с СССР. Миколайчик 17 марта 1944 г. информировал свою «делегатуру» в Польше о необходимости «разыграть политический спор так, чтобы ответственность за его существование и даже обострение пала на Советы». (с. 45). Эта игра в так называемую «добрую волю» велась не только перед Советами, но и в целях обмана общественного мнения США и Англии.
Эта политика и ее пагубность для дела освобождения Польши вскрылась при первом же соприкосновении 27-й дивизии АК с частями советских войск 18 марта 1944 г. на Волыни. Причем эта дивизия при переговорах добивалась права действовать в тылу советских частей, на что командующий советской армией, по вполне объяснимым причинам, не мог дать своего согласия. Что касается «Бура»-Коморовского, то его позицию в этой ситуации проясняет его же радиограмма Соснковскому: «Моя инструкция коменданту округа Волынь содержала такое ограничение, которое Советы наверняка терпеть не будут» (с. 45). Более того, командование АК не давало своего согласия на вхождение своих частей и в состав Войска Польского. Исходной в преддверии восстания для Коморовского была позиция: не допустить восстания поляков под руководством ППР, а для борьбы с восставшими по собственному почину поляков были сформированы специальные отряды с подчинением их командованию АК. Даже беглый беспристрастный взгляд на условия, в которых шла подготовка восстания, видно, что командование АК «планировало» поддержание раскола польского общества по идеологическому принципу. Вопрос о необходимости для поляков договориться прежде всего между собой обретал все более острый характер. Но эмигрантское правительство не против было использовать желание народа скинуть с себя гнет гитлеровским оккупантов ценой своей жизни. Только так можно объяснить, что оно девять дней скрывало даже от солдат АК то, что еще 29 июля, за три дня до восстания, британские военные власти отказали в какой-либо военной помощи Варшавскому восстанию, если бы таковое вдруг вспыхнуло. Известие это дошло до Варшавы через неделю после начала восстания. Кроме того, Великобритания не сочла нужным поставить Советское правительство о предстоящем восстании в Варшаве и сроке его начала, который был уже известен. Не предложило и своих посреднических услуг в переговорах между «советами» и АК. Черчилль сообщил об этом лишь после того, как восстание стало свершившимся фактом.
Главная цель эмигрантского правительства: захватить Варшаву до вступления туда советских войск, утвердить свои органы власти, противопоставить их временному правительству демократической Польши. А дальше? А дальше диктовать свои условия Красной Армии? Что есть битва за Варшаву???
25 июля «Бур» сообщил в Лондон: «Готовы в любую минуту к битве за Варшаву…»
Ни Советское правительство, ни командование Красной Армии, ни органы народной власти Польши, ни Войско Польское в известность о восстании не были поставлены и данных о его подготовке и тем боле планах осуществления не были поставлены. Если верить командованию союзнических войск, то и оно ничего не знало. (Сомнительно, конечно, но достаточно того, что они также открещиваются от восстания). Главная задача Бура – овладеть Варшавой. Тем не менее они ждали момента, когда Красная Армия приблизится к Варшаве. Замыслы? Цели: и т. д.
Штеменко: «Мне не пришлось держать в руках план «Бура», в рамках которого главнокомандование Армии Крайовой задумало осуществить восстание своих отрядов в Варшаве. Однако есть бесспорное свидетельство, что время начала восстания по решению генерала Бур-Коморовского было передвинуто накануне решающих событий со 2 августа (или более позднего срока) на 17 часов 1 августа 1944 г. Столь ответственный акт командования Армии Крайовой был совершен без учета реальных возможностей проведения необходимых мероприятий по сбору сил повстанцев, их вооружению, организации боевых действий. Как указывал один из историков варшавского восстания Адам Боркевич, вместо двенадцати часов, предусмотренных ранее для приведения сил повстанцев в состояние полной боевой готовности, теперь в отдельных районах и отрядах имелось реально только пять. Это решение дезорганизовало восстание в его зародыше и перечеркнуло все то, что было подготовлено за ряд лет. Остался лишь высокий боевой дух повстанцев.
Существовавшие на бумаге наметки задач относительно сроков и объектов нападения отрядов в таких условиях становились невыполнимыми. Даже элементарная связь между силами повстанцев к началу боевых действий не везде была организована.
В назначенный день (но из-за различных условий в разное время) подпольные отряды Армии Крайовой начали восстание. Многие солдаты разыскивали своих командиров, те и другие не знали, где фактически находятся склады вооружения и снаряжения. Внезапность действий была потеряна, и враг сумел занять все ключевые пункты связи, сообщений, энергетики. Повстанцы не могли в силу выше указанных обстоятельств действовать достаточно целеустремленно и произвести сколь-нибудь мощный первый удар. Натиск на врага оказался слабым: ведь во всех отрядах Арии Крайовой насчитывалось всего-навсего 16 тыс. человек, причем ручное стрелковое оружие (другим почти не располагали) было лишь у 3,5 тыс. из них.
В то же время восстание приобрело неожиданный для его организаторов характер и размах. Ненависть населения Варшавы к гитлеровским оккупантам получила теперь выход; основная масса жителей присоединилась к восстанию: люди начали строить баррикады, влились в ряды бойцов, хотя и не имели оружия. Они были убеждены, что восстание согласовано с советским командованием. Этого убеждения не поколебало даже делегатуры лондонского правительства Польши к варшавянам, в котором ни слова не говорилось о Красной Армии.
Массовая поддержка восстания населением Варшавы привела в первое время к относительному успеху. Овладеть всей территорией города Армии Крайовой все же не удалось, а через день события стали развиваться совсем по-иному, нежели предполагали заговорщики. Враг не понес особых потерь, удержал ключевые позиции в городе, быстро справился с положением и вынудил повстанцев перейти к обороне. А к ней они не были готовы. Сил не хватало. К тому же у восставших был острый недостаток боеприпасов, средств связи, медикаментов.
Задуманная с холодной критической расчетливостью скоротечная акция Армии Крайовой превратилась в восстание народных масс Варшавы против гитлеровских захватчиков. Однако оно не было обеспечено, и удары немецко-фашистского командования в конце концов привели его к полному разгрому» (Штеменко, с. 83).
Рокоссовскому разведка доложила 2 августа о восстании. Уточнить данные не удалось: ни ПКНО, ни Крайова Рада Народов, ни командование Войска Польского ничего о восстании не знали.
27-31 июля Миколайчик был в Москве, ничего не сообщил о готовящемся восстании и попросил лишь о бомбардировке аэродромов вокруг Варшавы.
На посланную Рокоссовским телеграмму Буру тот не ответил.
2 августа осложнилась обстановка на советско-германском фронте: по 2-й танковой и 47-й армиям противник нанес сильнейший контрудар, пришлось вести тяжелую оборону в неблагоприятных условиях. Части их были вытянуты в линию. Командующий фронтом никакими резервами не располагал, и каждую минуту можно было ожидать, что танки немцев ринуться на юг вдоль Вислы, чтобы нанести поражение занятым форсированием войскам левого крыла фронта. А Варшава между тем горела. Дым видели выдвинувшиеся в район контрудара противника для управления боевыми действиями наши командиры и сам К.К.Рокоссовский.
Спустя несколько дней героические действия советских войск и искусство командования положили конец временным успехам врага на 1-м Белорусском фронте. Ему не удалось опрокинуть или существенно потеснить наши армии. Но и мы не смогли преодолеть немецко-фашистскую оборону.
Варшава истекала кровью, однако ни командование Армии Крайовой, ни польское эмигрантское правительство в Лондоне и разу не обратилось к Советскому правительству или советскому командованию с просьбой помочь восставшим. Даже информировать о восстании не сочли нужным. Только впоследствии стало понятным, что ни информация, ни просьбы не входили в политические расчеты группы Миколайчика и командования Армии Крайовой даже тогда, когда гитлеровские войска начали топить восстание в крови.
В эти дни Сталин получил бодрое послание от Черчилля. В нем впервые упоминалось о варшавском восстании. Черчилль сообщал, что Армия Крайова просила англичан срочно помочь восставшим вооружением и боеприпасами и что просьба эта будет удовлетворена. Попутно было сказано, что бои в Варшаве носят ожесточенный характер, писал также, что повстанцы просят о помощи русских и надеются, что она придет скоро. По словам Черчилля, восставших атаковали полторы немецкие дивизии. «Заканчивалось послание многозначительной фразой: «Это может быть помощью Вашим операциям» (с. 85).
Сталин Черчиллю: Краева Армия состоит из нескольких отрядов, которые неправильно называются дивизиями. У них нет ни артиллерии, ни авиации, ни танков. Я не представляю, как подобные отряды могут взять Варшаву, на оборону которой немцы выставили четыре танковые дивизии, в том числе дивизию «Герман Геринг». (Переписка, т.1 с. 252-253).
Что касается последней фразы, то она, считает Штеменко и вовсе смехотворна.
Тем не менее Сталин приказал Жукову, Рокоссовскому и Генштабу доложить о ситуации и соображения об овладении Варшавой.
Представитель Ставки и Военный совет фронта доложили в Москву: «1. Сильная группировка противника действует на участке Соколув Подляски, Огрудек (10 км севернее Калушин), п. Станиславув, Воломин, Прага. 2. Для разгрома этой группировки противника у нас оказалось недостаточно сил» Они просили разрешить им воспользоваться последней возможностью – ввести в сражение только что выделенную в резерв 70-ю армию четырехдивизионного состава и дать три дня на подготовку операции. «Раньше 10 августа перейти в наступление не представляется возможным в связи с тем, что до этого времени мы не успеваем подвести минимально необходимое количество боеприпасов» – говорилось в докладе. Генштаб согласился, разрешение дали, армию ввели, но перелома не произошло.
«Неудача прорыва к Варшаве с ходу, невозможность из-за истощения сил наступающих войск создать решительный перелом в сражении, планомерность которого была нарушена противником, необходимость резко улучшить тыловое обеспечение армий – все это вынуждало советское Верховное Главнокомандование организовать новую наступательную операцию с целью освобождения Варшавы. Причем Ставка не обладала резервами и 1-му Белорусскому фронту приходилось обходиться с тем, что было в наличии.
По указанию Ставки Жуков и Рокоссовский представили свои соображения: «1. Варшавскую операцию фронт может начать после того, как армии правого крыла выйдут на рубеж р. Нарев и захватят плацдарм на его западном берегу на уч. Пултуск, Сероцк. Боевые порядки этих армий удалены от р. Нарев на расстояние 120 км. Для преодоления этого расстояния требуется 10 дней.
Таким образом наступательную операцию армиями правого крыла фронта с выходом их на рубеж р. Нарев необходимо провести в период с 10 по 20 августа с.г.
2. За это же время на левом крыле фронта силами 69-й и 8-й гвардейской армии, 7 гвардейского кавалерийского корпуса и 11 танкового корпуса необходимо провести частую операцию с целью расширения плацдарма на западном берегу р. Висла с выходом этих армий на рубеж Варка, Стромец, Радом, Вежбица.
Для проведения этой операции необходимо из состава 1-го Украинского фронта передать 1-ю танковую армию Катукова в состав 1-го Белорусского фронта и направить ее из района Опатув через Островец, Сено с задачей ударом в северном направлении выйти на фронт Зволень, Радом и этим оказать помощь 69-й армии, 8-й гвардейской армии, 7-му кавалерийскому корпусу и 11 танковому корпусу в разгроме противостоящего противника. Наряду с этим необходимо существующую разгран. Линию между 1-м Белорусским фронтом и 1-м Украинским фронтом поднять на север до линии: Красностав, р. Илжанка, Опочно, Пиотркув. Это уплотнит боевые порядки армий левого крыла 1-го Белорусского фронта и усилит ударную мощь наших войск на радомском направлении
3. После проведения этих операций и с выходом армий правого крыла на рубеж р. Нарев, а армий левого крыла – на фронт Варка, Радом, Вежбица войска будут нуждаться во времени минимум пять дней для перебазирования авиации, для подтягивания артиллерии и тылов, а также для подвоза боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
4. Учитывая необходимое время на подготовку, Варшавскую операцию можем начать с 25 августа 1944 г. всеми силами фронта с целью выхода на рубеж Цеханув, Плоньск, Вышогруд, Сохачев, Скреневице, Томашув и занятия Варшавы.
В этой операции для наступления севернее р. Висла использовать три армии, 1-й танковый и 1-й кавалерийский корпус, а для наступления южнее р. Висла использовать 69-ю армию, 8-ю гвардейскую армию, 1-ю танковую армию, 2-ю танковую армию, два кавалерийских корпуса, один танковый корпус и одну армию за счет правого крыла фронта.
1-я польская армия в этой операции будет наступать по западному берегу р. Висла с задачей во взаимодействии с войсками правого крыла и центра фронта овладеть г. Варшава».
Клевета, вовлечение Черчилля в политические интриги, ложь на страницах печати в Лондоне.
Сталин о «кучке авантюристов», поднявших восстание.
10 сентября 47-я армия начала наступление. Вслед за ней двинули 1-ю польскую армию. Действия войск отличались большой напористостью. В ночь на 13 сентября они ворвались в Прагу. Вот когда надо было поднимать восстание, чтобы помешать гитлеровцам разрушить мосты, захватить их и тем помочь советским воинам переправиться на западный (левый) берег Вислы, в центре города. Но мосты были взорваны противником. Широкая река отдела советские части от борющейся уде 45 дней Варшавы. Все попытки с ходу форсировать водную преграду и переправиться на левый берег Вислы, предпринятые разведкой 47-й армии, были отбиты. Между тем жители Праги приветствовали Красную Армию, оказывали помощь, ухаживали за ранеными, поли и кормили их, хоронили убитых.
По приказу Рокоссовского участок фронта на Висле перед Варшавой был передан войскам Зигмунда Берлинга, а 47-я армия двинулась на север, направились на рубежи, откуда можно было подать руку помощи варшавянам.
Между тем руководители восстания не сделали ни шагу навстречу советскому командованию. Руководители же Армии Людовой направили двух юных девушек-связистов на другой берег Вислы. Они-то и поведали о происшедшем в Варшаве.
Не столько река разделяла советские части и варшавян, а хитрая политическая расчетливость панского отребья Польши.
13 сентября Сталин связался с Рокоссовским, который сообщил, что его войска не ы состоянии освободить сейчас Варшаву. Сталин не стал настаивать, но попросил установить связь с восставшим городом. Приказал Жукову вернуться на 1-й Белорусский фронт. «Вы там свой человек. Организуйте и помогите. Нельзя ли провести частную операцию по переправе частей Брлинга на левый берег».
15 сентября Жуков вылетел на 1-й Белорусский фронт. Утром 16 сентября он вместе с Рокоссовским прибыл в район Зелена в Праге – на командный пункт польской армии. Берлинг сообщил, что ему удалось переправить в Варшаву на Черняков стрелковый батальон в 500 человек с девятью станковыми пулеметами, шестнадцатью 82-мм минометами и одной сорокапяткой; батальон должен соединиться с повстанцами, произвести разведку и создать плацдарм для обеспечения переправы войск через Вислу. Попытка переправить разведку была отбита, гитлеровцы прочно засели вдоль берега.
«Представители Генштаба при Войске Польском во главе с генерал-майором Н. М. Молотковым были, как и обычно, там, где всего «горячее».Они систематически докладывали нам об обстановке, так что мы всегда были в курсе всех дел. Вечером же сам маршал телеграфировал в Ставку о том. что было предпринято, и картина, таким образом стала полной. «Главные силы Берлинга на ближайшее время, – докладывал Г. К. Жуков в Ставку, –будут иметь задачу захвата южной части Варшавы, ориентировочно от Аллеи 3 мая, Аллеи Иерусалимская до района Генрикув, и, закрепившись, повести в дальнейшем операцию на север, предположительно охватывая город с юго-запада». И далее продолжал: «Кроме того, если нам удастся вступить в боевой контакт с повстанческой группой, занимающей северную часть города, то навстречу южному удару организуем удар с севера, охватывая город с северо-запада… Если дело пойдет хорошо, то для завоевания плацдарма бросим за счет Гусева усиленный стрелковый корпус. Считаю, что кроме города Варшава нам очень хорошо бы создать варшавский плацдарм». (с. 96 -97).
Переправа войск 1-й польской армии начиналась в 21.00. С первым эшелоном, в который была назначена 3-я польская пехотная дивизия, отправлялись сам Молотков и полковник Евсеев, с последующим – полковник Дубровский и капитан Еропкин из группы Молоткова.
Значительно усиливалась разведка, причем решили сбросить с небольшой высоты прямо на площадь, которую, по нашим данным занимали повстанцы, двух разведчиков- парашютистов с радиостанцией. На уже захваченный плацдарм перебрасывали орудия и минометы. В районе Праги создавали контрбатарейную артиллерийскую группу из ста с лишним дальнобойных орудий, которые должны были обеспечить переправу и район плацдарма. Основная масса артиллерии 1-й польской армии и фронтовая бригада 203 мм орудий развертывались как группа поддержки пехоты при форсировании реки и расширении плацдарма. Авиация получила задание прикрыть район переправ и поддержать действия наших частей на западном берегу.
Короче говоря, было сделано все, чтобы успешно форсировать Вислу и, соединившись с повстанцам разгромить гитлеровские войска в городе и его окрестностях. Одновременно Генеральный штаб произвел необходимые расчеты для войск, наступавших в обход Варшавы». (с.97).
Под давлением событий командование Армии Крайовой решилось наконец установить с нами связь. Генштаб сумел передать через Лондон Бур-Комаровскому все необходимые для этого документы. Отряды Армии Крайовой в Варшаве получили указание войти в контакт с 1-й польской армией и штабом 1-го Белорусского фронта. 15 сентября офицер по радиосвязи варшавского района Жолибож сообщил, что ему поручено наладить радиосвязь с Кранной Армией, действующей в Праге.
Теперь мы могли не только систематически и интенсивно снабжать повстанцев, но и сбрасывать те грузы, которые были им нужны, точно в заданном районе.
Зашевелились и союзники. 18 сентября с запада к Варшаве на высоте около 4 тыс. метров подошло 8 групп по 12 самолетов «Летающая крепость» в каждой. В течение 20 минут они сбрасывали на парашютах контейнеры с оружием, боеприпасами, продовольствием. Наши наблюдатели насчитали почти 1000 таких парашютов. Однако к повстанцам попало не более 20 парашютов: большинство опустилось на территорию, занятую гитлеровцами, а несколько – в расположение наших войск.
Советские летчики, зная теперь, где расположены отряды повстанцев, уверенно сбрасывали по ночам с высоты 150 – 200 м, руководствуясь сигналами, подаваемыми с земли… С 14 сентября по 1 октября 1944 г. авиация 1-го Белорусского фронта произвела для доставки грузов в Варшаву 2243 самолето-вылета. Было сброшено 156 минометов, 505 противотанковых ружей, 2667 автоматов и винтовок, 3 млн. патронов, почти 42 тыс. ручных гранат и другое вооружение, а также 500 кг различных медикаментов и более 113 тонн продовольствия (с.98).
В приказе от 15 сентября Верховное командование Войска Польского осудило лондонское правительство за преждевременную организацию восстания. «Если бы восстание началось сейчас, было бы согласовано с командованием Красной Армии и Войска Польского, оно могло бы обеспечить сохранность мостов, способствовать быстрому освобождению всей Варшавы, спасению жизни сотен тысяч людей. Варшава не подверглась бы такому страшному разрушению» – говорилось в приказе.
Переправа была чрезвычайно затруднена. Из-за небольшой глубины реки на нашей стороне тяжелые понтоны не могли подойти к берегу, а на них нужно было грузить артиллерийскую и бронетанковую технику. То же происходило и на противоположной стороне при выгрузке. Весь берег на черняковском плацдарме и пражском участке Вислы гитлеровцы простреливали плотным огнем пулеметов и артиллерии, не говоря уже о мощном противодействии противника подразделениям 1-й польской армии, высадившимся на левом берегу Вислы.
17 сентября на плацдарме в Варшаве сосредоточились два батальона 9-го польского пехотного полка (до 1000 бойцов) со средствами усиления. В ближайшую ночь предполагалось переправить третий батальон, батарею 76-мм пушек и артиллерийско-противотанковый полк. После этого 9-й полк при поддержке артиллерии 1-й польской армии с правого берега Вислы и авиации 16-й воздушной армии должен был начать наступление, чтобы расширить захваченный плацдарм. В то же время должна была продолжаться переправа других частей 1-й польской армии из состава 3-ей пехотной дивизии. Командующий 1-м Белорусским фронтом и командующий 1-й польской армией полагали, что этих сил на первых порах будет достаточно, чтобы выполнить ближайшую задачу и успешно бороться с контратаками противника, в том числе танковыми.
Одновременно 47-я и 70-я армии продолжали операции к северу от Праги – в междуречье Нарева и Вислы. Гитлеровцы сохраняли там значительный плацдарм, откуда могли нанести контрудар в тыл Праге и развить его на юг. Активные действия наших войск в этом районе проводились по прямому указанию Верховного Главнокомандующего, который продолжал беспокоиться об устойчивости 1-го Белорусского фронта и требовал, обойдя Варшаву с северо-запада, оказать помощь сражающимся в ней войскам. Попытки наступать предпринимались неоднократно, однако из-за недостатка боеприпасов, сильного сопротивления противника и чрезвычайно неблагоприятной для нас местности и его расположения они были безуспешны и дорого обошлись нам.
В течение последующих суток бой на черняковском плацдарме не утихал. Туда удалось переправить дополнительные силы, но результаты все же были неутешительными. После того, как некоторые повстанческие подразделения Армии Крайовой без ведома командования 1-й польской армии отошли в направлении Мокотова, положение на плацдарме еще более осложнилось. Значительно возросло здесь превосходство немецко-фашистских войск в силах и средствах. К тому же они получили очень заметные преимущества. Даже самое небольшое продвижение противника к югу от находившегося в его руках района моста Понятовского угрожало полностью отрезать подразделения польской армии от реки и следовательно, от войск, расположенных в Праге. Оба берега и зеркало реки находились в зоне плотного артиллерийско-минометного огня. Гитлеровцы использовали свои танки в качестве подвижных кулаков во взаимодействии с сильными группами пехоты, и противодействовать им без специальных противотанковых средств было нелегко.
Неудачи с осуществлением плана вынудили возвратиться к более раннему: повторению ударов 47-й и 70-й армий. Ставка и Сталин настаивали на усилении этих армий и продолжении борьбы.
«В эти дни к И. В. Сталину, в Генштаб и Главное политическое управление из-за Вислы поступали данные, свидетельствующие о невероятном: главнокомандование Армии Крайовой подспудно подрывало силы восставших изнутри. 20 сентября в Прагу прибыли семь офицеров из штаба командующего Варшавским округом Армии Крайовой Монтера – им было поручено связаться с командованием Красной Армии и Войска Польского. Один из этих офицеров заявил, что генерал Бур отдал секретное распоряжение силой принуждать вооруженные отряды, ориентирующиеся на люблинское правительство, подчиняться только его собственным приказам и расправляться с неподчиняющимися.
На рубеже третьей декады сентября положение войск 1-й польской армии за Вислой еще более ухудшилось, хотя 20 сентября они еще удерживали свои позиции, причем севернее Чернякова 2-й батальон 6-го пехотного полка пытался еще раз преодолеть оборону противника и пробиться вглубь, но был вынужден залечь под огнем врага у самой кромки берега. С рассветом 21 сентября положение стало критическим. Связь прекратилась после того, как батальон вызвал огонь на себя. связь прекратилась и с другими батальонами (8-й из 9-го пехотного полка).
Непрекращающиеся интриги руководства Армии Крайовой усложняли ситуацию. В итоге 1-й польской армии было приказано перейти к обороне на восточном берегу, офицерам пришлось покинуть повстанческие штабы, так как стало известно, что вражеская агентура готовит их физическое уничтожение.
Штеменко: «Так закончилось восстание в Варшаве. Оно озарило неувядаемой славой восставший народ и навечно покрыло позором организаторов этого восстания из так называемого лондонского правительства» (с.103).
Военный историк Ежи Кирхмайер: «Восстание не ускорило ни на один час освобождения Варшавы. Только в этом свете можно представить тяжесть понесенного поражения – необоснованного и ненужного».
Погибло 3 577 тыс. поляков (от рук карателей). Всего – в том числе на поле боя – пало 6 028 тыс. человек. Каждый день оккупации – 3 тыс. человек.
Честь вступить первым в освобожденную Варшаву была предоставлена 1-й польской армии во главе с генерал-лейтенантом С. Г. Поплавским. 1-я польская армия, командующий Кароль Сверчевский , армия в 50 тыс. К концу войны Войско Польское насчитывало 445 тыс. человек.
Накануне восстания 31 июля «Бура» обуял страх. Он начал понимать, что восстание преждевременно. Начальник разведывательного отдела штаба АК Казимеж Иранек-Осмецкий доложил о прибытии в район Варшавы свежих немецких сил и их концентрации для контрнаступления на восток. На театре военных действий шло ожесточенное танковое сражение (о нем см. Дэвида М. Глентца). Пришло еще одно известие. Его принес полковник (с 15 сентября генерал) Антоний Хрусьцель («Монтер»), сообщивший, что советские войска якобы уже ворвались в Прагу (полной уверенности, однако, не было) и что поэтому следует немедленно начать восстание, или будет поздно. Страх перед тем, что русские могут ворваться в Варшаву. После короткого совещания с начальником главного штаба АК генералом Тадеушем Пелчиньским и ответственным за операцию генералом Леопольдом Окулицким (организатором и главой конспиративной сети АК в тылу Красной Армии; незавиден его конец) «Бур» отдал Хрусьцелю приказ о начале боевых действий 1 августа в 17.00. Представитель польского эмигрантского правительства Янковский одобрил решение, коротко обронив единственное слово: «Начинайте». На это совещание опоздали несколько его запланированных участников, которые заняты были более детальным изучением общей обстановки. Начальник оперативного отдела Юзеф Шостак выразил скрытое недовольство принятым решением. На это «Бур» ответил: «Дай нам бог овладеть Варшавой до прихода советских войск». Но разведданные о том. что советские танки находятся уже в Праге были неверны. Овладение Прагой по директиве Ставки № 220162 для 1-го Белорусского фронта намечено было лишь на 5 -8 августа. Да и то при условии успешного наступления. Но обстоятельства сложились таким образом, что расположившаяся клином вдоль Вислы в северо-западном направлении 2-я гвардейская танковая армия под командованием 33-летнего генерал-майора А. И. Радзиевского, замещавшего тогда раненого в боях за Люблин С. И. Богданова, подверглась яростной атаке со стороны свежих танковых сил противника. Завязался танковый бой, равного которому Западная Европа не знала ни до, ни после этого. По 2-й танковой армии ударили пять танковых дивизий немцев, усиленных другими соединениями 9-й немецкой армии силой до трех дивизий. Против советских сил Германия на этом участке двинула 51,5 тыс. человек, 1158 орудий и минометов, 600 танков и самоходных орудий. У 2-й танковой армии было 32 тыс. человек, 468 орудий и минометов, 425 танков и самоходных орудий. Соотношение сил было таковым, что исключалась возможность наступательных действий. Кроме того, 2-я гвардейская танковая армия осталась без воздушного прикрытия: 6-я воздушная армия не успела перебазироваться на новые аэродромы ближе к фронту. На подступах к Варшаве танковая армии Алексея Радзиевского потеряла 280 танков и самоходных орудий, часть из них пришлось уничтожить самим экипажам из-за отсутствия топлива и боеприпасов (6 августа оставалось лишь 385 боевых машин). 1 августа в 4.10 утра армия получила приказ перейти к обороне линии Мендзылесе – Окунев.( Назар. с. 89)