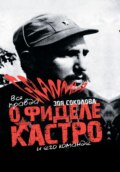Зоя Соколова
ДОРОГА ЖИЗНИ ГВАРДИИ РЯДОВОГО
Восстание в Варшаве обернулось трагедией для варшавян. Его руководители дабы сохранить свое лицо борцов за освобождение Польши вместо признания своих ошибок и промахов развернули изощренную клеветническую кампанию против Советского Союза. В основе клеветы лежали голословные обвинения Красной Армии в преднамеренном прекращении наступательной операции и стремление спровоцировать кризис или хотя бы скандал в союзнических отношениях. Так в радиограмме правительству в Лондоне от 5 августа Янковский сообщал о «демонстративно пассивном поведении» Красной Армии, имеющем якобы «политический смысл, который стоит обсудить с представителями союзников» (СССР вызвать на ковер?). К клеветнической кампании с подачи президента Рачкевича 10 августа был подключен Ватикан, чей орган «Оссерваторе Романо», между прочим, за всю войну вплоть до вступления союзнических войск в Рим ни разу не осудил злодеяния гитлеровцев в Польше. Так отводили удар от себя те, кто непосредственно нес ответственность за развернувшуюся в Варшаве драму.
Между тем генерал Коморовский, как человек военный, не лишен был способности трезво оценить сложившуюся ситуацию. Так в документах для внутреннего пользования 5 сентября он писал: «Полагаю, нам не следует питать никаких иллюзий относительно того, что советские части могут со дня на день занять Варшаву. Немцы стянули достаточно сил, чтобы остановить советское наступление. Русские части значительно оторвались от своего организованного тыла и остановились, у них отсутствуют транспортные средства. Немцы же все это имеют в своем распоряжении». Не иначе, как аккорд антирусским настроениям генерала звучит его признание: «Висла защищает немцев от русских» (с. 118). Этот же его настрой как бы дублируется в документе, известном как «Варшавская битва», который в состоянии многое прояснить и даже высветить потаенные мысли. «Причина неудачи сражения за Варшаву лежит в общем срыве советского наступления на Висле в результате переброски сюда в конце июля – начале августа новых немецких дивизий, в основном из Румынии. Немецкие войска, поддержанные этими подкреплениями, блокировали советский плацдарм в районе Варки, отразили попытку советского прорыва к северу от Варшавы, но прежде всего в крупнейшей битве танковых войск 4 и 5 августа под Воломином нанесли решающий удар шедшим на Варшаву советским войскам (немецкая оборона у Варшавского предместья усилена четырьмя свежими дивизиями, которые решили исход боев под Воломином). Таким образом, судьба битвы за Варшаву была предрешена в советско-немецком сражении 4 и 5 августа… Неверно предположение, будто советские войска не заняли Варшаву, потому что желали гибели оплота польской независимости. Правда состоит в том, что 4 и 5 августа Советы проиграли собственную битву за Варшаву» (с.118 – 119). Не случаен и подчеркнутый акцент как бы ущемляющий боевые заслуги Красной Армии, которая до сих пор во всех своих сражениях так и не получившей поддержки в виде открытия союзниками второго фронта, на таких моментах, как «общий срыв советского наступления», «решающий удар немцев по шедшим на Варшаву советским войскам», «Советы проиграли собственную битву за Варшаву» ( с безрассудным ехидством и злорадством заявляет главком Армии Крайовой, которая сама пошла-таки на капитуляцию. Не цинизм?) .
(На них нет никакой надежды, – Иван Антонович. Он, пожалуй был даже резче, добавив при этом: «как не было, нет и не будет». «Сколько волка не корми, он все в лес смотрит»)
Советский воин вправе был предъявить встречные претензии варшавским повстанцам, не пожелавшим оказать помощь советским войскам и иждивенчески готовившим себя лишь к тому, чтобы воспользоваться в случае их успеха для реализации своих корыстных целей, держа в то же время камень за пазухой против тех, чью помощь они только что получили.
Я могу понять своего отца, когда он говорил о политической нечистоплотности поляков. У него для этого есть все основания. (А «белые пятна» истории сегодня только множатся, многотысячная армия ныне безработных «антисоветчиков» переключила сегодня свои устремления именно на опошление, извращение – в соответствии с собственными понятиями и пристрастиями, продажной души состоянием – только усиливается «кусать (все равно что кушать!) хочется).
Эта клеветническая кампания вызвала справедливый отпор со стороны ТАСС (см. Карпов).
Сталин в письме Черчиллю: «Ознакомившись ближе с варшавским делом, я убедился, что варшавская акция представляет безрассудную, ужасную авантюру, стоящую населению больших жертв. Этого бы не было, если бы советское командование было информировано до начала варшавской акции и если бы поляки поддерживали с последним контакт». «При создавшемся положении советское командование пришло к выводу, что оно должно отмежеваться от варшавской авантюры, так как оно не может нести ни прямой, ни косвенной ответственности за варшавскую акцию».
В условиях немецкого контрнаступления под Варшавой «Красная Армия не пожалеет усилий, чтобы разбить немцев под Варшавой и освободить Варшаву для поляков» (ответ на совместное послание Рузвельта и Черчилля от 20 августа: просили о сбросе оружия повстанцам). Вместе с тем Сталин констатировал: «Рано или поздно, но правда о кучке преступников, затеявших ради захвата власти варшавскую авантюру, станет всем известна. Эти люди использовали доверчивость варшавян, бросив многих, почти безоружных людей под немецкие пушки, танки и авиацию. Создалось положение, когда каждый новый день используется не поляками для дела освобождения Варшавы, а гитлеровцами, бесчеловечно истребляющими жителей Варшавы». (Документы и материалы по истории советско-польских отношений. М.1974. т. У!!! с. 191-192, с.195).
Позже в беседе с де Голлем (5 декабря 1944 г.): «если бы советское командование спросили, может ли оно оказать помощь восстанию, оно заранее ответило бы, что не готово к этому. Речь идет о том, что Красная Армия к тому времени прошла с боями 600 километров от Минска до Варшавы. В то время, как Красная Армия приблизилась к Варшаве, ее артиллерия со снарядами отстала на 400 километров. Красная Армия не была готова немедленно наступать на Варшаву. Но ее об этом никто не спросил. Народ знает об этом и возмущен тем, что его втянули в авантюру. Много жертв» (Документы. С. 305 -306).
У Сталина были основания обвинить руководство АК (при встрече в Москве с Миколайчиком в августе 1944 г.) в организации беспорядков, укрывании оружия, в нелегальной мобилизации в тылу советских войск и отправке отрядов в леса, а также в организации покушений на коммунистов и прогрессивных деятелей. «Мы не позволим никаких акций за нашей линией»
Во исполнение приказов Соснковского и Коморовского в стране на пути продвижения Красной Армии создавалась подпольная подрывная сеть и подпольная радиосвязь. 14 августа Бур доложил Соснковскому: «В период оккупации страны большевиками я намерен иметь надежную связь в рамках новой подпольной организации между нею и вами; добиться этого предполагаю прежде всего с помощью вновь организованной сети связи N, объединяющей 24 радиостанции…В новой сети собираюсь перейти на режим работы русских радиостанций и стараюсь раздобыть его в стране…(Назаревич. С. 122). В тылу Красной Армии действовало 20 подпольных радиостанций, связанных с лондонским центром. Одна из целей: саботировать мобилизацию в Войско Польское (гражданская война!!!)
Черчилль стремился использовать «польские дела» для давления на СССР. И свое нежелание оказать помощь Варшаве мотивировал тем, что это СССР затрудняет им оказание помощи. «Война листовок» – немецкая провокация.
Мнимый представитель – власовец Калугин.
Действовала в основном 47 А – Н. И. Гусев и 70. На них возлагались основные надежды и русских и поляков.
(Пустили слух о сотрудничестве Бура с Рокоссовским дабы приобрести дивиденды).
Назаревич пишет: «Пропагандистский эффект антисоветской кампании все же оказался значительно меньшим, чем ожидалось. «Антисоветская кампания, начало которой положил «Шанец», вызывает негативную в адрес ее организаторов реакцию. Ныне общество отгоняет от себя какую бы то ни было мысль о возможности борьбы с Россией», – комментировал ситуацию обозреватель Бюро информации и пропаганды главнокомандования АК. Подобную оценку давала и контрразведка штаба округа АК в своем донесении: «По отношению к Советам часть населения, особенно политически неопытная и довольно легко поддающаяся в этих тяжелых условиях любой демагогической агитации (поиск виновных), занимает позитивную позицию прежде всего потому, что именно Советы способны положить конец преступной акции немцев против Варшавы. Как сторонники сотрудничества с СССР, так и противники Советов с нетерпением ожидают вступления Красной Армии в Варшаву, что означало бы конец господства немцев в столице. Даже среди противников Советов раздаются голоса, что следует временно согласиться на советские условия, дабы немедленно получить помощь, а политическая развязка наступит позднее, при участии англосаксов» (Назаревич, с 126 – 127).
Разведотдел 9-й армии штамповал листовки. Прелюбопытна одна из них: «Как сообщает наше правительство из Лондона, премьер Миколайчик оказался в Москве в таком положении, которое делает для него невозможным свободно принимать решения и свободно высказываться… В связи с этим я предпринял с представителями немецких властей переговоры с целью скоординировать совместные акции против московских предателей. Поэтому приказываю прекратить любые враждебные действия против немецких оккупационных властей и немедленно возвратиться в исходные пункты готовности! Каждый, не выполнивший этот приказ, становится на сторону виновников покушения на нашего премьера и должен быть немедленно расстрелян». И подпись: Главнокомандующий Крайовых Сил Збройных «Бур» и дата 2 августа. Содержание листовки вскоре было дезавуировано органом АК. «Бюлетын информацыйны».
Единственной силой, которая противостояла дезинформации населения Варшавы были организации, связанные с ПКНО и Крайовой Радой Народовой.
За освобождение Праги тяжелые бои шли пять дней. Вместе с 47-й А и 70-й А сражалась 1-я Армия Войска Польского под командованием Зыгмунта Берлинга. 14 сентября в приказе советского Верховного Главнокомандующего были отмечены воины 1-й армии Войска Польского, 1-й пехотной дивизии под командованием генерала Войцеха Бевзюка (потеряла 1900 человек из них 355 убитыми) и 1-й танковой бригады генерала Яна Межицана. 15 сентября 47 и 70 армии (убитыми и ранеными в битве за Прагу потеряли 6000 человек) продолжали ожесточенные бои. Около 4.00 утра возобновилось наступление советских войск. Овладели населенными пунктами Рыня, Блобжеги, Вишнево, Аннополь, железнодорожной станцией Варшава-Прага. Однако дальнейшее наступление советских войск в направлении Легионово и Яблонна было приостановлено сильной контратакой 4-го танкового корпуса СС. Выполнить приказ Рокоссовского от 15 сентября о форсировании Вислы и захвате плацдарма в районе населенных пунктов Келпин, Ломнки и Млоцин не удалось.
Помощь: 13 сентября самолеты 16-й ВА, а также 1-й смешанной авиационной дивизии Войска Польского начали сбрасывать оружие, боеприпасы и продовольствие. В ночь с 13 на 14 сентября на территорию, удерживаемую повстанцами, было сброшено с 85 самолетов более 29 тонн продовольствия, боеприпасов, гранат, а на следующую ночь – 45 тонн продовольствия, 497 автоматов, 60 минометов, около 1 млн. штук патронов. С этого времени сбросы производились каждую ночь: в течение 15 дней было сброшено 156 минометов, 505 противотанковых ружей, 1478 автоматов, 1189 винтовок. Около 94 тыс. мин и гранат; 3 млн. патронов, 120 тонн продовольствия, 515 кг медикаментов и санитарных средств. В воздушной операции в небе Варшавы участвовало 589 советских и польских самолетов. Советская авиация выполнила 2243 самолето-вылета, польская – 553.
(Документы и материалы . с. 220 – 221).
Решение о помощи было принято несмотря на отсутствие контактов и договоренности с руководством повстанцев еще до прибытия АЛ.
В ночь а 21 сентября высадился в Средместе Иван Колос с радистом Дмитрием Сенько, который был ранен при приземлении, а позже погиб от осколка.
Никто в Польше не отдавал себе тогда отчета о том, насколько велики были потери советских солдат. В августе и первой половине сентября 1-й Белорусский фронт потерял 166808 солдат (бой на среднем течении Вислы), а части 1 Украинского фронта – только в августе – 122578 солдат (История Великой Отечественной войны, т 1УМ. 1964, с. 287).
Назаревич: «Изображая готовность к взаимодействию с Красной Армией, командование АК одновременно готовилось к своеобразной встрече ее в столице. Изданная 12 сентября, когда еще шли бои за Прагу, совершенно секретная директива «Бура»-Коморовского предписывала повстанческим отрядам АК в случае освобождения Варшавы «немедленно овладеть городом. …Очистить главные магистрали от баррикад, рвы засыпать… Баррикады и укрепления, замыкающие контролируемые АК районы, не разбирать до полного выяснения советско-польских отношений». Устанавливалось, что любое передвижение советских или польских сил через эти районы могло происходить только с разрешения командования АК, возобновляемого в каждом отдельном случае. Отряды АК, дислоцировавшиеся в лесу, из окрестностей Варшавы должны были как можно быстрее перебраться городские районы Жолибож и Мокотув. Одновременно намечалось захватить такие важные объекты, как Цитадель и Гданьский вокзалы, используя оперативную пустоту, которая должна была образоваться после ухода немцев перед приходом Красной Армии» (с. 186 – 187).
22 сентября Янковский по радиограмме в Лондон инструктировал Миколайчика: «Мы рассчитываем продержаться вместе под прикрытием войск в течение нескольких дней. Не вижу возможности, чтобы мы сами могли распутать эту ситуацию. Поэтому считаем необходимым Ваш немедленный приезд после вступления Советов в Варшаву, но полагаем, что это должно произойти при одновременном прибытии представителей английского и американского правительств, наделенных соответствующими полномочиями» (цит. по Назаревич, с.187 -188).
Постановление эмигрантского правительства: Если советские войска овладеют Варшавой, то Делегатура правительства и командование АК должны представиться и начать переговоры с советским командованием «в духе августовского меморандума», выдвинув следующие требования:
* восстановление на освобожденных территориях «легальной власти Правительства Республики», то есть эмигрантского правительства;
* признание АК самостоятельной армией и соединение всех ее отрядов под командованием генерала «Бура». При этом не определять отношения к народному Войску Польскому, именовавшемуся в документе «армией Жимерского», оставив это для дальнейших решений эмигрантского правительства;
* в случае удовлетворения всех этих требований обещать «взаимодействие в тылу врага»;
* в случае отказа их удовлетворить провести демобилизацию обнаруживших себя сил АК.
Передавая его содержание командующему АК, генерал Соснковский дополнил
комментарием, рекомендующим оставить АК в подполье и после освобождения, а также «сохранить связь и организационные ячейки, хотя бы для сбора информации о ситуации при советской оккупации».
Суть этого плана раскрыл эмигрантский историк Семашко: «Разгром немцев в Варшаве был только поводом к конфронтации между освобожденной и сплотившейся столицей и советскими властями» (с.189).
«Варшавский участок фронта» = категория анализа. (призыв к братоубийственной войне?).
Курс Коморовского: не признавать Войско Польское. (вести переговоры с Советами, но не с Жимерским).
Помощь продолжалась. Сбросы были прекращены только после 30 сентября, когда было сообщено о готовности руководства восстания капитулировать. Размеры фактической помощи Варшаве: всего в тоннах – советские 268, английская и американская – 104 (продовольствия 120 и 22 соответственно)
Отдел информации и пропаганды АК нередко выдавал советские сбросы за западные. Тенденция приуменьшать советские сбросы и преувеличивать западные. (Зачем?).
Советские аэродромы в Полтаве, Миргороде, Пирятине были предоставлены американцам для челночных операций весной 1944 г. 21 июня они стали объектом массированного налета немецких бомбардировщиков. После восстановления они были снова предоставлены в распоряжение союзников.
Было решено, что Варшаву можно освободить только заранее спланировав все действия.
В результате капитуляции, подписанной 2 октября 1944 г. в плен попало более 17 тыс. повстанцев в том числе 922 офицера, 2 тыс. женщин, более 5 тыс. раненых находилось в госпиталях.
Через лагерь в Прушкове, по данным отчетов группы германских армий «Центр», за август – октябрь прошло в целом 363 318 жителей Варшавы.
Действовавшие на этом направлении войска 1-го Белорусского фронта потеряли в августе и первой половине сентября 166808 солдат (История Великой Отечественной войны Советского Союза. Т. 1У. М., 1964, с. 287), а части 1-го Украинского фронта только в августе потеряли 122578 солдат. (там же).
В восстании принимали участие советские люди, оказавшиеся в Варшаве. В частности А. А. Матосян .
Жуков в ту осень разбирался с обстановкой на подступах к Варшаве.
Авантюристы, подняв восстание, надеялись захватить город и закрепиться в нем. Прием для нас не новый – во время летнего наступления банды Армии Крайовой бросались то на Вильнюс, то на Львов, спеша захватить эти города до прихода наших. Немцы разгоняли их, и города с боями и жертвами брала Красная Армия. Такая же ситуация сложилась с Варшавой. Мы знали о категорическом приказе Москвы – во имя добрых отношений с братским народом помочь повстанцам. Это повлекло за собой тяжкие потери в безрезультатных боях на висленском рубеже, особенно в мокром треугольнике (развилка Вислы, Буга и Нарева), где дралась армия Батова.
Пробежав из Белоруссии 600 км, немцы, видимо, опомнились и стояли насмерть, понимая, что Красная Армия идет на Берлин. Они бились с невероятным упорством. Показательный эпизод: Жуков с несколькими генералами добрался до наревского плацдарма. Мы, водители, доставившие генералов, отогнали машины в укрытия поблизости, собрались в кружок разговариваем. Вдруг какое-то смятение. Смотрим. Из облаков вывалился немецкий истребитель пикирует прямо на группу начальства. Те с завидной резвостью бросились в лесок. Истребитель прошел над поляной и исчез.
Жуков и остальные снова появились как раз в тот момент, когда над нами пошли девятки ИЛ-2, оставляя за собой море огня на вражеских позициях. Тут снова объявился настырный немец. Почему-то наши штурмовики работали без прикрытия, и «Мессершмитт» попытался атаковать их. Хвостовые стрелки сосредоточенным огнем отогнали наглеца. Илы ушли, а немец взялся за свое – стал пикировать на ту же группу. Жуков быстро увел всех под деревья. «Мессершмитт» покрутился над поляной и скрылся. Наверное, расстрелял боезапас в заходах на штурмовиков.
Решив дела, Георгий Константинович, усаживаясь в машину, заметил: «Силен ас, орден дать не жалко!». На него произвела сильное впечатление дерзость немецкого летчика, осмелившегося атаковать армаду наших штурмовиков» (Бучин, с. 116).
Битва за наревский плацдарм. Рокоссовский о ней: «На этот участок, расположенный в низине наступать можно было только в лоб. Окаймляющие его противоположные берега Вислы и Нарева сильно возвышались над местностью, которую нашим войскам приходилось штурмовать. Все подступы немцы простреливали перекрестным артиллерийским огнем с позиций, расположенных по обеим рекам, а также артиллерией, расположенной в вершине треугольника». Очередная атака 1-го Белорусского фронта: «В назначенное время наши орудия, минометы и «катюши» открыли огонь. Били здорово. Но ответный огонь противника был куда сильнее. Тысячи мин и снарядов обрушились на наши войска из-за Нарева, из-за Вислы, из фортов крепости Модлин. Ураган! Огонь вели орудия разных калибров, вплоть до тяжелых крепостных, минометы обыкновенные и шестиствольные. Противник не жалел снарядов, словно хотел показать, на что он способен. Какая тут атака! Пока эта артиллерийская система не будет подавлена, не может быть и речи о ликвидации вражеского плацдарма. А у нас пока и достаточных средств не было под рукой, да и цель не заслуживала такого расхода сил» (Бучин с. 117; Рокоссовский, «Солдатский долг»).
Нельзя было в угоду авантюристам и дилетантам в военном деле подвергать бессмысленному избиению войска в тщетных попытках пробиться к Варшаве. Тем более что главари восстания, бросая на немецкие танки варшавян, отталкивали руку помощи, которую из последних сил протягивал 1-й Белорусский. Одновременно паны, забравшиеся в глубокие бункеры, завыли на весь свет о том, что они будто бы брошены на произвол судьбы. Причитания эти насквозь лицемерные, однако, производили впечатление на тех, кто не знал обстановки из первых рук. Даже на Сталина, требовавшего атаковать и атаковать. Он думал, что тем самым забивает сваи в основание какой-то демократической Польши. Наконец Жуков и Рокоссовский взорвались, доложив в Ставку – хватит наступать. Хватит губить людей. В начале октября последовал вызов непокорных маршалов в Москву. Обоих.
Разъяренный Сталин со свитой – Молотовым, Берией и Маленковым – встретил предложения Жукова и Рокоссовского в штыки. Выслуживаясь перед Сталиным, самозваные стратеги Молотов и Берия забросали маршалов увесистыми упреками за то, что они-де останавливают наступление победоносных войск. Берия еще иронически присовокупил: «Жуков считает, что все мы здесь витаем в облаках и не знаем, что делается на фронтах». Он определенно занимался подстрекательством Сталина.
Жуков как отрезал: «Это наступление нам не даст ничего, кроме жертв». Он указал, что Варшаву надо брать по-иному, с юго-запада, обходом. Рокоссовский, хотя и не очень решительно, поддержал Жукова. На упрек Георгия Константиновича, когда они остались вдвоем, Рокоссовский мудро ответил: «А ты разве не заметил, как зло принимались твои соображения. Ты что, не чувствовал, как Берия подогревает Сталина? Это, брат, может плохо кончиться. Уж я-то знаю, на что способен Берия, побывал в его застенках». Тут как говорится крыть нечем. Жуков тем не менее отстоял свою точку зрения. Наступление приостановили». (Бучин, с. 117 – 118).
Именно этот эпизод в истории взаимоотношений Жуков и Сталина стал объектом пристального внимания американского полковника У. Спара, написавшего книгу «Жуков: возвышение и падение великого полководца». Спар отметил, что Жуков «шел на Вы» даже если этим «Вы» был Сталин. Пусть это было во вред Жукову, но было на пользу стране. Суть тогдашнего спора – беречь солдата для страны. (Спар ко многим года службы в американской армии добавил 14 лет службы в ЦРУ).
Сталин «развел» после этого маршалов: командующим 1-го Белорусского фронта поставил Жукова, а Рокоссовского отправил на 2-й Белорусский фронт. Это означало, что Берлин будут брать войска 1-го Белорусского фронта под командованием Жукова. (*между Константин Константиновичем и мною не стало тех теплых товарищеских отношений, которые были между нами долгие годы» – Жуков)
Глентц Дэвид М., полковник, руководитель Центра зарубежных исследований армии США. Действительный член Академии естественных наук РФ:
«Ни одна из операций на Восточном фронте не вызывает столь жарких разногласий, как советские операции восточнее Варшавы в августе и сентябре 1944 г. во время Варшавского восстания против фашистов, поднятого Польской Армией Крайовой. Западные историки традиционно обвиняют в предумышленной неспособности помочь полякам и особенно в поощрении уничтожения польских повстанцев германской армией исходя из политических соображений. Советские историки возражали, писали, что делалось все, чтобы обеспечить помощь, но оперативная обстановка воспрепятствовала этому. Однако нет советского труда, который излагал бы подробно эти операции на подступах к Варшаве. Историк вынужден при реконструкции хода событий ссылаться на множество фрагментарных источников. По иронии судьбы, немецкие архивные материалы, в особенности 2-й армии и др. … помогают опровергнуть советскую аргументацию.
28 июля 1944 г. 2-я ТА А.И. Радзиевского. которая была повернута к севру от района Магнушева для удара на Варшаву, вместе с тремя корпусами столкнулась с немецкой 73-й пехотной дивизией и танковой дивизией «Герман Геринг» в 40 км к юго-востоку от Варшавы. Последовало соперничество между Радзиевским , стремившимся захватить подходы к Варшаве с востока, и немцами, пытавшимися удержать эти подходы и саму Варшаву. Соседями Радзиевского была 47-я А, 11-й танковый и 2-й гвардейский кавалерийский корпуса, которые вели бои в 50 км восточнее за овладение Седлецем.
29 июля Радзиевский направил 8-й гвардейский и 3-й танковые корпуса к северо-востоку от Варшавы, чтобы обойти левый фланг оборонявшихся немцев в то время как его 16-й танковый корпус продолжал сражаться на юго-восточных подступах к варшавским пригородам.
В то время как 8-й гвардейский танковый корпус успешно действовал в 20 км восточнее города, 3-й танковый корпус подвергся ряду танковых контратак, организованных новым командующим группой армий «Центр» фельдмаршалом В.Моделем. Начиная с 30 июля дивизии «Герман Геринг» и 19-я танковая дивизия атаковали чрезмерно растянутый и ослабленный 3-й танковый корпус к северу от Воломина, в 15 км северо-восточнее Варшавы. 2-3 августа в бой вступила 4-я танковая дивизия СС «Викинг». В ходе интенсивных боев 3-й танковый корпус понес большие потери, но все же отразил немецкие атаки, а 8-й гвардейский корпус вынужден был отойти. К 5 августа 2-ю танковую армию сменила 47-я армия. Три стрелковых корпуса 47-й армии оказались растянутыми на фронте от одного из пунктов в 80 км южнее Варшавы до Седлеце и были не в состоянии возобновить продвижение на Варшаву или к р. Нарев. Коммуникации немецкой группы армий «Центр», действовавшей севернее и к западу от Бреста, были частично нарушены, но не перерезаны.
Тем временем 1 августа Польская Армия Крайова начала восстание в городе. Хотя повстанцам удалось захватить значительные районы города, они не смогли занять четыре моста через Вислу и оказались неспособными взять под контроль восточное предместье города (Прагу). На протяжении последующих недель Варшавское восстание нарастало, но затем потерпело неудачу, а советские войска продолжали наступление против группы армий «Центр» северо-восточнее Варшавы. 1-й Белорусский фронт сосредоточивал свои усилия на прочном удержании Магнушевского плацдарма, подвергавшегося мощным немецким контратакам в середине августа, а также на форсировании р. Буг с целью овладения переправами через р. Нарев, необходимым для будущих наступательных операций.
Советская 47-я армия оставалась единственной серьезной силой в районе Варшавы вплоть до 20 августа, когда к ней присоединилась 1-я А Войска Польского. 3 сентября советские войска в конце концов прорвали оборону по Бугу, вышли на следующий день к р. Нарев и 6 сентября захватили на ней плацдармы. 13 сентября передовые части двух польских дивизий форсировали Вислу, но добились лишь незначительных успехов и отошли обратно за реку 23 сентября.
Оставляя в стороне политические соображения и мотивы, объективно рассмотрев характер боевых действий в регионе, можно сказать, что до начала сентября сопротивление немцев было таковым, что не допускало любой помощи Советов Варшаве. К тому же потребовалась бы значительная перегруппировка войск от Магнушева с юга или, что было бы более реально, с направления Буг и Нарев с севера с тем, чтобы иметь достаточно сил для прорыва в Варшаву. В случае взятия Варшавы ее очистка от немцев обошлась бы дорого, кроме того, она не представляла удобного района для нового наступления». (Вторая мировая война. Актуальные проблемы, с. 357 – 359)
Как освобождалась Варшава?
1-я и 2-я танковые гвардейские армии с юга, Магнушевского плацдарма шириной свыше ста километров устремились на запад. Варшава осталась в глубоком тылу и ее освободили 17 января. С начала наступления командный пункт Жукова находился в Праге, предместье Варшавы на правом берегу Вислы. На радость варшавянам среди наших солдат, вошедших в Варшаву мелькали фигуры в конфедератках, в город вступила 1-я армия Войска Польского.
Как только немцев выбили из города, саперы мигом навели понтонный мост, и Георгий Константинович объехал часть польской столицы. Город был разбит почти так, как наши советские города. Пожалуй, это был единственный случай за время наступления в Польше, когда мы столкнулись с редкими разрушениями, напоминавшими повсеместные злодеяния немцев на наших землях.
«По делам мне пришлось тогда несколько раз побывать в Варшаве и наблюдать удивительную картину: солдатня Войска Польского обнималась и бражничала с варшавянами, а множество предельно усталых наших саперов с сосредоточенными лицами разминировали центральные улицы города, очищали их от битого кирпича, всякого хлама. Они очень торопились – 20 января в Варшаве состоялся парад Войска Польского. Подрывов людей и техники во время прохождения и проезда победителей не отмечалось. Наши саперы хорошо поработали. Маршал Жуков на параде не был, он не мог вырвать и часа – наступление набирало темпы» (Бучин, с.123).
«Мы пришли в обывательскую Европу носителями высшей культуры, в которой превыше всего ценились знания. В Польше, насколько мы могли судить, молились мелочной торговле. На каждом шагу натыкались на торгашей, что-то продававших, менявших и по этому случаю пытавшихся вступать в контакт с нами – нельзя ли хоть чем-нибудь поживиться у Красной Армии. Торгашеский дух пронизывал всю страну.
Чем дальше мы шли по Польше, тем лучше понимали и другое – Красная Армия вскрыла тыл немецкого Восточного фронта, питавшего вермахт в войне против нас. Приняв за чистую монету разговоры чуть ли не о любви местного населения к нам, мы на первых порах торопились улыбаться, протягивать руки и прочее. Прием обычно был холодноватый. Как-то с приятелем мы проезжали на «виллисе» по улицам Гнезно и услышали громкую музыку, доносившуюся из большого дома. Остановились, вошли. В зале отплясывала польская молодежь. Но потанцевать нам не удалось, барышни жались, глядели на нас как на зверей.
Обидно было даже не это, а то, что, пройдя тысячи километров по нашей сожженной и разрушенной войной Родине, мы попали в мир, проживший эти годы, может быть и не в роскоши, но в относительной сытости. Опрятные города, упитанные деревни, прилично одетая публика. Могу поручиться: удивляло все это Георгия Константиновича и было чуждо ему, как и шепелявая речь, слышавшаяся на улицах, когда нам приходилось неторопливо проезжать через населенные пункты. Нет, не встречали нас в Польше хлебом-солью, да мы и не просили об этом. Обходились своим» (Бучин, с. 126).