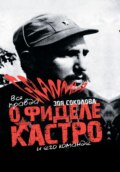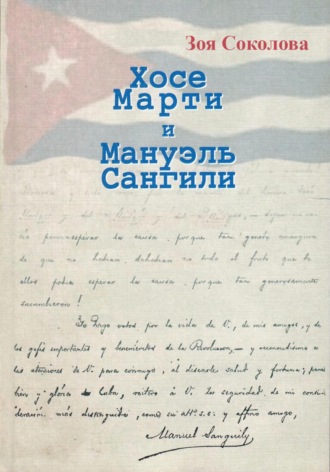
Зоя Соколова
Хосе Марти и Мануэль Сангили
Глава вторая. Идейная борьба накануне десятилетней войны (1868 – 1878).
Периодическая печать Кубы после выхода в свет первой в стране газеты с одноименным названием «Gazeta» (случилось это в мае 1764 г.), а вслед за ней в том же году и газеты El «Pensador» («Мыслитель») стала важнейшим компонентом общественно-политической жизни острова, и к моменту начала первой революционной войны успела под влиянием политических факторов пережить определенную эволюцию. Однако, надо при этом подчеркнуть, что в кубинской историографии периодической печати страны отсчет истории журналистики ведется не с момента издания этих газет, а с 24 октября 1790 г. когда была выпущена в свет первая регулярная газета «Papel periodico » («Папель периодико»). Одним из издателей и редакторов этой газеты был известный кубинский ученый, врач по профессии и один из выдающихся деятелей кубинской культуры Томас Ромай (1764 – 1849). Эта газета всячески избегала освещения на своих страницах вопросов, связанных с социально-политическими проблемами страны и ее колониальным положением. Находилась она в ведении организации под названием «Патриотическое общество», которое стремилось привлечь в свои ряды, а заодно и к сотрудничеству с газетой наиболее просвещенных людей. Свою основную цель это общество видело в борьбе с помощью газеты с господствовавшей в тот период в науке схоластикой и в пропаганде научных знаний. Заинтересованность в пропаганде достижений науки, особенно в области охраны здоровья, была обусловлена необходимостью борьбы, как о том писала газета, со знахарством, получившим в тот период на Кубе очень широкое распространение и наносившим огромный вред здоровью населения. «Патриотическое общество» всячески стремилось пополнить свою казну, привлечь внимание к себе, а заодно и к опекаемой им газете, чтобы увеличить ее тираж, придать ей популярность и максимально оградить газету от вмешательства в ее дела колониальных властей. Однако, чрезмерная бдительность этого патронирующего газету общества все реже соответствовала целям сотрудников газеты и не всегда оказывала благотворное влияние. Но общество было ее юридическим собственником и фактическим владельцем, старалось не упустить ни единого случая, чтобы продемонстрировать безграничность своих прав, часто злоупотребляя этими правами и нанося интересам газеты непоправимый ущерб.
Членам этого общества принадлежала идея популяризации всяких местных знаменитостей посредством внедрения в повседневную практику газеты публикацию их речей, выступлений, а также разного рода их экзерсисов на ниве философского и особенно поэтического творчества. Речи и выступления всякого рода высокопоставленных лиц публиковались по самому неожиданному, нередко скандальному поводу. Обращения через газету друг к другу, подчас сугубо личного характера, нередко были шокирующими. Для всякого рода поздравлений была выделена на полосах газеты специальная рубрика. Естественно, практика такого рода «сотрудничества» с газетой была доступна лишь местной аристократии и она широко использовала предоставляемые ей возможности поупражняться в красноречии. Но на страницы газеты имели широкий доступ и ученые, чаще – научная элита, заинтересованная в публичном выяснении отношений со своими оппонентами, популяризируя не столько плоды своих научных изысканий, сколько свой особый статус на лестнице социальной иерархии. Нередко по этой причине газета попадала в пикантные ситуации, но продолжала сосуществовать без особых проблем с колониальными властями, хотя католические священники, присланные из Испании на предмет «цензуры», не раз ставили под вопрос правомерность занимаемых газетой позиций и вообще оправданность ее существования.
Интересная характеристика и тому времени, и самой газете была дана в несколько более позднее время Мануэлем Сангили, выступившим в данном случае как один из первых историографов периодической печати Кубы. Он писал, что «в эти трудные времена поражаешься обилию людей, известных своим красноречием, а они, несомненно, были у столь неграмотного и столь далекого от мировой культуры народа, как кубинский, среди осужденных на варварство негров и огромной бюрократии, приобретавшей себе книги в Испании и приносившей обычно на эту землю лишь безграничную ненасытность и алчность, Колония, таким образом, представляла собой нечто вроде торговой фактории»67. При более внимательном чтении этой достаточно деликатной оценки ситуации в периодической печати можно все же заметить пробивающуюся из-под толщи газетных материалов их своеобразие.
Важнейшим событием в истории периодической печати Кубы стало появление в 1841 г. еще одной газеты с характерным названием: «Faro industrial de la Нabana» («Индустриальный маяк Гаваны»). О себе, правда не сразу, а год спустя (№ 1 за 1842 г.), она сообщала, что является «газетой политических, торговых, экономических и литературных вестей»68. Характерно, что эта корректировка ориентации была сделана по мере роста ее популярности среди определенного круга ее читателей. Формировалась же эта популярность на несколько иной и, как оказалось, более актуальной для жизни кубинского общества основе – освещении газетой проблем в защиту экономики острова. «Индустриальный маяк Гаваны» по праву выбранного им направления стремился сфокусировать внимание своих читателей на проблемах развития торговых отношений острова, и его экономических перспектив. Констатируя колониальный характер экономики, подчеркивая ее отсталость, газета предпринимала попытки дать на своих страницах объяснение этому явлению. На ее полосах все чаще появлялись достаточно острые материалы в виде высказываний, нередко довольно резких, в адрес Испании со стороны отдельных лиц.
Большую популярность завоевала газета своими публикациями статистических данных и фактов по ущемлению интересов колонии со стороны испанской метрополии. Не всегда последовательно и четко, но все же с достаточной определенностью газета поднимала вопросы, связанные с разницей в экономическом положении колонии и метрополии, с пагубностью для Кубы последствий ее зависимости от Испании.
Такая направленность издания, разумеется, не могла быть одобрена колониальной бюрократией, и она сделала все, чтобы добиться запрета газеты, побуждающей своих читателей к размышлениям над политикой, которую проводила в отношении Кубы мадридская метрополия. В 1851 г. издание газеты сначала было приостановлено. Так, испанская цензура задержала выпуск последнего (№ 165) номера газеты, датированного 29 июня 1851 г. до 31 августа того же года69. А вскоре выпуск газеты был вообще запрещен. Но газета успела сыграть свою роль в общественно-политической жизни кубинского общества. Высокая оценка этой роли и ее влияния на развитие периодической печати в стране содержится в статье публициста Хосе М. Лабраньи, написанной для популярной иллюстрированной энциклопедии по истории кубинской прессы «Cuba en la mano». Давая характеристику этой газете, в статье «Пресса на Кубе» («La prensa en Cuba») в 1940 г. Лабранья писал: «Можно сказать, что она была первой защитницей коренных интересов Кубы и потому была упразднена властями»70. Здесь еще нет речи о защите национальных интересов, говорится только о коренных интересах. Но через умение видеть коренные интересы журналистика Кубы делала шаг в сторону вычленения интересов Кубы из общих с метрополией интересов.
Для периодической печати Кубы закрытие «Индустриального маяка» было тревожным симптомом. Но в то же время сам факт преследования газеты был свидетельством того, что периодическая печать, точнее, отдельные издания начинают играть в жизни общества куда более важную роль, чем ту, которую ей отвели колониальные власти. От изданий исходит политическая опасность, что свидетельствует о переходе периодической печати к качественно новому состоянию. Отличительной чертой становится ее превращение в арену идейной и идеологической борьбы. Вместе с тем надо отметить, что четкая постановка вопроса о завоевании независимости в этой идеологической борьбе на том этапе все еще отсутствовала. Обусловлено это определенными предпосылками. Дело в том, что в обществе, особенно среди привилегированных креолов, успела сформироваться достаточно влиятельная прослойка, в экономические интересы которой не входило завоевание независимости от метрополии. Она готова была ограничить свои политические интересы лишь требованием предоставления Кубе автономии, а отнюдь не независимости. И в своих действиях она согласна была лишь на ведение переговоров с Испанией, а вовсе не на решительную борьбу.
Специфика этой ситуации нашла соответствующее отражение на страницах периодической печати. Сам этот факт также свидетельствовал об изменениях в состоянии печати и переменах в умонастроениях в обществе под ее влиянием. Наметился процесс некоторой радикализации одних изданий и усиления консерватизма в других. Более заметными стали и начинающееся обострение идеологической борьбы, и набиравший силу процесс размежевания внутри самих борющихся сил. Эта ситуация вела к постепенному формированию программных требований и их обоснованию в зависимости от политической ориентации тех или иных изданий. Так периодическая печать становится выразителем начавшегося в обществе размежевания по идейно-политическому принципу вокруг решения вопроса о государственном статусе Кубы.
О характере развернувшейся в стране полемики может дать представление изданная в тот период книга кубинского философа Хосе Антонио Сако71 «Против аннексии». Автор отмечает, что полемика в обществе велась главным образом по вопросу о характере политического устройства Кубы. Достижение же единства, по мнению Сако, было весьма проблематичным. Но в чем участники полемики были едины, так это в понимании необходимости перемен и критике, хотя и с разных исходных позиций, существующих порядков, несмотря на то, что взгляды их на эту проблему чаще всего не только не совпадали, но даже противоречили друг другу, состояли из взаимоисключающих тезисов.
О сложившейся на острове ситуации в тот период можно судить по высказыванию одного из видных креолов того времени Гаспара Бетанкура Сиснероса. Как широко известный на Кубе политический и общественный деятель своего времени, он считал себя вправе дать развернутую характеристику сложившихся в стране порядков и той политики, которую диктовала Испания. Для него лично эти порядки в любом случае не были приемлемыми. Что именно в этих «порядках» его не устраивало, видно из того, что писал он в 1849 г.: «Постоянное войско, которое подавляет и ужасает народ, поощрение ввоза рабов и защита рабства, противодействие иммиграции белого населения, политика ограничения внешней торговли, систематическое противопоставление испанцев и кубинцев, постоянное урезывание религиозных и политических прав, отстранение кубинцев от всех служб и постов, где они могли бы иметь влияние на формирование взглядов молодежи, на управление, на разработку законов – таковы правила, которых придерживается правительство Испании в целях упрочения своего господства»72.
Эти слова созвучны умонастроению и взглядам уже упомянутого нами Хосе Антонио Сако. Полемизируя с одним из своих современников, он акцентирует внимание на проблеме недопустимости в этой ситуации другой крайности – распространения аннексионистских идей. Он считает, что борясь с Испанией, вовсе нет необходимости призывать к аннексии Кубы Соединенными Штатами в целях якобы избавления острова от испанского владычества. Книга Сако направлена против зарождавшегося уже тогда аннексионизма как идейного течения. Она так и названа: «Против аннексии» («Contra la anexion»). Эта «антиамериканская» направленность позиции Сако вызывает интерес пикантностью ситуации: направленная против аннексии США работа издается в Нью-Йорке; и по сути эта же направленность его издательской деятельности приводит к тому, что он попадает в немилость от испанских властей. Дело в том, что, выступая против аннексии, Сако вовсе не жаловал Испанию как метрополию. Его издававшийся в Нью-Йорке в 1828 – 1831 гг. еженедельник «Менсахеро кубано» («El mensajero cubano»)73 был под подозрением у колониальной администрации. В 1834 г он был выслан из страны как неблагонадежный человек, хотя и выступал всего лишь за автономию Кубы. Правда, помимо этого Сако требовал прекращения работорговли и вообще упразднения рабства как системы. Как издатель и как мыслитель, он пользовался авторитетом у своих современников. В контексте его борьбы против аннексионистов к нему надлежит относиться как к мыслителю, который за несколько десятилетий предвосхитил необходимость борьбы с идеологией аннексионизма Соединенных Штатов на Кубе.
Под бдительным оком испанской бюрократии всяческим, включая судебные, преследованиям, запретам, штрафам подвергались все неблагонадежные, с точки зрения колониальных властей, издания. Но власти были бессильны не только запретить, но даже приостановить набиравший силу бум критики метрополии за проводимую ею политику по отношению к Кубе. Наиболее распространенной формой борьбы колониальной администрации с периодическими изданиями стало закрытие изданий и даже погромы типографий. В этой ситуации местопребыванием изданий становятся соседние страны Латинской Америки и особенно США, где начинает формироваться внушительная по своим масштабам диаспора кубинцев. Пресса Кубы пытается всеми доступными ей средствами отстоять право на независимость своих периодических изданий прежде всего от Испании, видя в этом пролог к независимости и страны. В атмосфере этой борьбы можно пронаблюдать процесс консолидации журналистских действий и тенденцию к радикализации общественной мысли и умонастроений в обществе, а также к революционизированию позиций передовых слоев общества, особенно учащейся молодежи.
Взаимоотношения испанских колониальных властей и кубинской журналистики все больше напоминало позиционную войну: закрытие газеты вело к ее изданию либо под другим названием, либо к уходу в подполье. Зарождение подпольной печати было одним из свидетельств принципиальных перемен в понимании самими издателями своей консолидирующей роли по формированию национального самосознания и роли их печатной продукции в общественно-политической жизни колонии. Начинается процесс кристаллизации идеи завоевания независимости, постепенно она становится главенствующей.
Возникновение подпольной печати на Кубе свидетельствовало о новизне принципиальных перемен, происходивших в периодической печати. Свое начало подпольная революционная журналистика Кубы берет с газеты «La Voz del Pueblo Cubano» («Голос кубинского народа»), издателем которой был Эдуардо Факсиоло. Легально ему удалось издать всего три номера газеты. Однако, этого для испанских властей было достаточно, чтобы успеть установить за издателем тотальную слежку. Э. Факсиоло решил все же дать свет четвертому номеру, вчерне практически полностью подготовленному в подпольных условиях. Но по доносу редактор был схвачен прямо в типографии в момент набора газеты. Расправа над ним была скорой. Неправедный суд, приговор к смертной казни и гаррота! Случилось это в 1851 г. В историографии кубинской журналистики эта дата считается рубежной, а сам Факсиоло чествуется как первый «святой мученик», отдавший свою жизнь во имя независимости страны и свободы слова, а также как основатель кубинской подпольной революционной прессы74.
Накануне первой национально-освободительной революции на острове издавалось свыше десяти наименований газет. Между ними шла конкурентная борьба не только за обеспечение своей популярности, но и за идейное влияние в обществе. Властями Испании издавались и всячески поощрялись такие газеты, как: «Diario de la Marina» («Морское ежедневное обозрение»), «La Prensa», «La Voz de Cuba» («Голос Кубы») и «El Moro Muza» (дословно: «Мавританская кошка» или «Мавританская муза»).
Газета «Голос Кубы» как бы в назидание обществу за прекращение издания подпольной газеты Э. Факсиоло «Голос кубинского народа» сразу же заняла открыто реакционную позицию. Ее основатель, испанский журналист Гонсало Кастаньон был непримиримым и бескомпромиссным сторонником целостности Испании и не допускал даже мысли о возможности предоставления Кубе какой-либо автономии, не говоря уже о независимости75.
Этих же позиций, начиная с 1859 г. придерживалась и «Мавританская кошка», которая из номера в номер подвергала атаке идею сепаратизма, отделения Кубы от Испании, призывала к принятию властями метрополии решительных мер по предотвращению даже намека на сепаратистские тенденции. Эта газета в идейной борьбе была наиболее опасной, потому что ее основатель и издатель Хуан Мартинес Вильергас имел в «верхах» политический вес, а среди «рядовых» читателей пользовался популярностью как экстравагантная личность. Его газета пользовалась успехом, имела широкий круг читателей76.
Количество изданий множилось. Появлялись и исчезали десятки новых названий газет, пытавшихся найти свою, та «нишу» в общественно-политической жизни. Это способствовало еще большему брожению общественного сознания, которое и без того билось в противоречиях, не имея сильного консолидирующего начала ни в одной из противоборствующих сторон. Общественная мысль оказывалась в тупике, подпав под влияние авторитета отдельных идеологов, реакционные замыслы которых не всегда в одночасье можно было разглядеть. Как это случилось, например, с аннексионистским течением, пропагандистами которого стал ряд газет, издававшихся в Нью-Йорке. Идея аннексии острова Соединенными Штатами и вытеснения таким образом оттуда Испании в исторической перспективе оказалась роковой для политиков. Таких взглядов придерживался, в частности, Мигель Теурбе Толон, издатель эмигрантской газеты «La Verdad» («Истина») и сотрудник целого ряда других.
Идея аннексии Кубы была не просто реакционной, она несла в себе потенциал обречения острова на новое, еще большее закабаление, что собственно и произошло после победы освободительной армии Кубы над Испанией в 1898 г. А в момент своего зарождения она не имела шансов на реализацию, хотя и были предприняты всякого рода попытки организации флибустьерских походов на Кубу с целью якобы освобождения ее от Испании. Что же касается позиции самих США, то в тот период они не имели возможности воспользоваться аннексионистскими замыслами кубинцев по той причине, что страна сама находилась в состоянии гражданской войны между Севером и Югом (1861 – 1865 гг.). Решался вопрос о ликвидации или сохранении рабства как хозяйственной системы в зависимости от того, на чьей стороне окажется победа.
Аннексионизм и автономизм были двумя основными течениями, влиявшими на общественную мысль Кубы накануне первой войны за независимость. Между ними шла борьба. И полем их сражений была периодическая печать. Но если же попытаться дать общую оценку ситуации, которая сложилась в кубинском обществе на тот период, то объективно следует акцентировать внимание на принципиально других аспектах общественно-политической жизни острова. Во-первых, на том, что основным вопросом в обществе все определеннее становится вопрос о власти, в частности, о судьбе власти испанской метрополии на Кубе; во-вторых, на том, что идейная борьба в самом кубинском обществе велась также по вопросу о власти, какой, в чьих руках ей быть после изгнания Испании или хотя бы даже при ущемлении в той или иной мере прав метрополии на колонию. Другими словам, остров был поставлен на грань неизбежности революционного взрыва. Как свидетельствует исторический опыт, решение вопроса о власти и составляет основную функцию всех известных миру революций. Если и в аннексионизме, и в автономизме, как течениях, превалировали проблемы экономического развития острова, то по мере приближения революционной войны определяющим становится проблема решения вопроса о политической власти. Идея установления в стране независимой от Испании власти к этому времени начинает определять и развитие общественно-политической мысли, которая постепенно трансформируется в идею завоевания политического суверенитета. В обществе зарождается процесс консолидации принципиально нового идейного направления – завоевание независимости революционным путем. Это идейное течение отказывалось признать программы как автономистов, так и аннексионистов. Одним из идеологов этого течения общественной мысли постепенно в ходе борьбы становится Мануэль Сангили. Со всей серьезностью это течение заявило о себе и прошло первые испытания в ходе Десятилетней войны (1868 – 1878).
Формирование идеологии национальной независимости шло в процесс идейной борьбы. Ее активизация накануне первой революционной войны была в значительной степени обусловлена тем, что именно представители зарождающейся креольской интеллигенции, по обоснованному мнению Л. А. Ивкиной, были «передовой социальной силой кубинского общества». «Как правило, – говорится в ее статье, – их основное ядро формировалось из представителей креольских земельных собственников. Обычно они получали образование в Англии, Франции, США. Возвращаясь на родину, они становились носителями прогрессивных идей, передовой общественной мысли. Влияние этой группы населения на последующее развитие революционных событий было чрезвычайно велико. Эта небольшая плеяда революционно настроенного студенчества, учащейся молодежи, интеллигенции вписала яркие страницы в летопись революционной борьбы»77.
Идейный разброд и внутриполитические трения в кубинских, креольских. «верхах» не могли не выплеснуться на страницы периодической печати. Так, газета «El Siglo» («Век»), основанная в 1862 г. и менее чем через год превратившаяся практически в официоз кубинских реформистов, играла важную роль в формировании общественного мнения. С ее страниц не сходили материалы по социально-политическим, административно-экономическим проблемам. Газета призывала к реформам, чтобы избежать зреющую в недрах кубинского общества революционную войну за независимость и к тому, чтобы побудить метрополию к осуществлению назревших реформ, разумеется, в интересах креольской верхушки общества. Сама она не только не пропагандировала идею сепаратизма и не настаивала на провозглашении независимости, но, напротив, всячески осуждала радикальные настроения, исходившие со страниц других газет. Правомерность стремления Кубы к сепаратизму ставилась вообще под сомнение78.
Такая нерешительность креольской верхушки общества и половинчатость ее позиций в судьбоносном для острова вопросе имела между тем глубокие классовые корни. Это прежде всего страх перед революцией, особенно «черным ураганом», то есть восстанием негров-рабов, которые давали знать о себе то в одной, то в другой провинции Кубы.
Новым для этого этапа развития периодической печати было появление первой рабочей газеты «La Aurora» в 1865 г. Это событие несло в себе новые заряды принципиального характера, свидетельствовало о спорадическом появлении в обществе зародышевых форм пролетарской идеологии, формировавшейся на базе защиты интересов в основном рабочих-табачников, которые на том этапе были наиболее организованным отрядом наемных рабочих79.
И все же сложившаяся в кубинском обществе ситуация, на мой взгляд, требует более гибкой оценки. Особенно это необходимо учитывать, когда речь идет об идейной борьбе автономистов и аннексионистов. Автономисты стояли на позициях необходимости реформ, которые надлежало провести Испании, чтобы дать больший простор развитию производительных сил на Кубе. Аннексионисты же не имели никаких программ реформирования. Автономисты стояли за ограничение полномочий колониальной администрации и постепенную передачу власти креольским «верхам», набиравшим экономическую силу. Они имели конкретные предложения, в частности, по вопросу об отмене рабства. Аннексионисты всячески обходили молчанием вопросы экономического и политического устройства Кубы после изгнания испанцев. В итоге главным в их идеологии становился лишь вопрос о переподчинении, то есть передаче острова из рук Испании в руки Соединенных Штатов. Поэтому, подвергая критике автономистов, было бы ошибочным абсолютизировать то негативное, что безусловно содержалось в их идеологии, и рассматривать их позицию вне исторического контекста.
В этой связи вызывает особый интерес последовательность газеты «El Siglo», которая заняла объективно терпимую позицию в отношении автономистов, но не допускала никаких компромиссов в борьбе с аннексионистами, всячески доказывая пагубность их позиции для исторических судеб острова. Она последовательно проводила идею необходимости социально-политических реформ, изменения экономико-административной ситуации, объективно подводила общественную мысль к пониманию того, что в случае реализации плана аннексионистов острову никогда не обрести ни автономии, ни независимости, ни даже подобия государства. Больше того, по мнению кубинских исследователей, газета сделала больше: концентрируя внимание общества на необходимости проведения реформ, предлагая при этом конкретные реформы в своих многочисленных публикациях, она активно формировала национальное самосознание кубинцев. Осознание кубинским обществом себя как нации было чрезвычайно важно для борьбы за самостоятельное развитие, за независимость. Газета воспринималась обществом уже не как орган автономистов, а как общенациональная политическая газета. «El Siglo» превращалась как бы в эталон газеты, в подражание ей в отдаленных от Гаваны провинциях стали возникать ее своего рода «филиалы». Так, в городе Санта Клара появились сразу две газеты – «La Alborada» («Рассвет») и «El Alba de Villa-Clara» («Заря Вилья Клары»). Названия газет характерны для переживаемого Кубой момента – «Lа Fe» («Вера», «Клятва»), «La Esperanza» («Надежда»). «El Siglo», таким образом, определяла пути развития политической мысли в кубинском обществе, и как справедливо отмечают кубинские историографы периодической печати, «была лучшей политической газетой Кубы»80. Именно эта газета вспахала почву для появления публицистики как жанра. Не случайно, очевидно, и то, что свою первую статью восемнадцатилетний Мануэль Сангили опубликовал именно на страницах этой газеты.
Этот далеко не полный анализ состояния периодической печати на Кубе накануне событий, которые вплотную поставили перед обществом вопрос о завоевании национальной независимости, позволяет тем не менее представить готовность политической мысли найти отражение в таком жанре, как публицистика. Имевшие место противоречия в общественно-политической жизни и идейная борьба, на мой взгляд, также объективно могли служить мощным фактором развития этого жанра журналистики. Во всяком случае Мануэль Сангили по праву может быть отнесен к числу первых мыслителей, которые не только избрали этот жанр журналистики для публикации своих идей, но и обогатили публицистику как жанр своими публичными речами и выступлениями, будучи активными участниками общественно-политических событий или занимая государственные посты.
10 октября 1868 г. Карлос Мануэль де Сеспедес81, адвокат, сын крупного плантатора и сам плантатор-рабовладелец в местечке Яра (провинция Ориенте) обнародовал манифест, известный под названием «Клич из Яра». который провозглашал независимость Кубы. Со словами «Да здравствует Свободная Куба!» он предоставил свободу своим рабам и призвал их присоединиться к освободительной армии повстанцев, которую он сам и возглавил. Это событие и явилось первым актом первой национально-освободительной революции, известной как Десятилетняя война 1868 – 1878 гг. Кубинский народ поднялся на борьбу против колониальной зависимости.
Юный Хосе Марти посвятил этому событию свой сонет «10 октября»82, вобравший в себя горение юных сердец и взбудораженных стремлением к свободе умов (об этом речь в разделе, посвященном Хосе Марти).
Что касается Мануэля Сангили, который был старше Марти на пять лет, то он при первом же известии о начале освободительной войны отправляется на поля сражений.