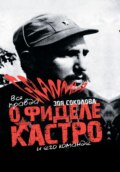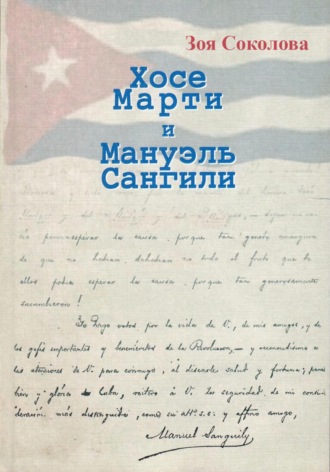
Зоя Соколова
Хосе Марти и Мануэль Сангили
Глава третья. Мануэль Сангили как публицист
3.1. Формирование личности.
По отцу гасконец, потомок горячих мушкетеров, дуэлянтов и поэтов, по матери – англичанин, наследник традиций промышленного Манчестера, Мануэль Сангили родился в Гаване 26 марта 1848 г. Не имел, как любят подчеркнуть его биографы, ни капли испанской или кубинской крови. Возможно, есть что-то символическое в совпадении года его рождения с датой основания колледжа «Эль Сальвадор», сыгравшего решающую роль в формировании личности Сангили. Именно здесь он встретил своего главного духовного наставника, основателя этого колледжа, блистательного педагога и мыслителя Кубы – Хосе де ла Луса-и-Кабальеро.
Лишившись в очень раннем возрасте родителей и оставшись круглым сиротой, он был взят в дом своего крестного – испанского полковника, полного кавалера испанской армии, аристократа, дона Мануэля Писарро-и-Морехона. Рос в аристократической среде, имел доступ ко всем духовным ценностям, которые мог предоставить своему воспитаннику честолюбивый испанец, кичившийся своим элитарным положением в обществе и своей образованностью не только в военных вопросах.
В 1856 г. Мануэль был принят в «Эль Сальвадор», элитное учебное заведение, которое его воспитанники именовали кратко «Дон Пепе», отдавая тем самым дань высокого уважения его основателю и директору. Здесь работали высокообразованные, лучшие на Кубе учителя и среди них такой, как Энрике Пиньейро83. Именно ему, в первую очередь, обязан Сангили воспитанной с детства любовью к слову, вольнолюбивому и страстному.
Учился Мануэль блестяще, очень скоро стал любимым учеником Луса-и-Кабальеро, который называл его не иначе, как «Мануэль из Мануэлей». Учителя и ученика связывали долгие часы творческого и духовного общения, вера учителя в неординарное будущее своего ученика, в его интеллектуальные возможности. Дон Пепе часто поручал старшекласснику Мануэлю ведение отдельных предметов на младших курсах колледжа. Это особое доверие вселяло в ученика уверенность в своих духовных возможностях, в высказывании собственных суждений, укрепляло самостоятельность его мысли. Еще в колледже под влиянием своего наставника он впитал в себя идею необходимости борьбы за перемены в жизни колониальной Кубы и завоевание независимости
Лус-и-Кабальеро был самоотверженным воспитателем и выдающимся педагогом. После своего возвращения на родину из поездки по странам Европы (Англия, Германия) и в Соединенные Штаты в начале 30-х годов ХIХ в. он разработал и представил на утверждение испанским властям проект создания «Кубинского института», то есть средней школы, где общеобразовательное обучение должно было быть совмещено с изучением «технических и земледельческих наук». Этот институт, как считал он, должен был «открыть новые пути перед кубинской молодежью, которой до того времени, как он говорил, были доступны только три дороги: в адвокаты, во врачи и в бездельники». Проект, однако, был отклонен как несостоятельный. Лусу-и-Кабальеро было разрешено основать лишь обычный колледж. Им и стало его детище – «Эль Сальвадор».
С первых дней колледж находился под бдительным оком католической церкви. Не случайно именно газета католиков-инквизиторов «Испанская мысль» («Pensamiento espanol»), обличая Луса-и-Кабальеро, с негодованием писала, что он «молоком своего учения вскормил целое поколение врагов Испании». За свою непокорность и инакомыслие этот выдающийся мыслитель-педагог испанской католической церковью был официально объявлен еретиком и включен в список лиц, подлежащих инквизиции. Однако, католическая церковь Испании была не единственной силой, которая противостояла ему в его собственной стране. Даже его современник, выше упомянутый нами талантливый кубинский публицист Х. А. Сако, первым из кубинцев произнесший столь значимое для кубинского национального самосознания словосочетание «кубинская нация», проповедовал «смирение» и резко выступил против подготовки революционной войны.
Главным в обвинении испанских инквизиторов Лусу-и-Кабальеро было то, что, по их мнению, более двухсот воспитанников колледжа «Эль Сальвадор» с оружием в руках сражались против Испании. Непреложность и историческую значимость этого факта, а также выдающуюся заслугу в этом лично Луса-и-Кабальеро высоко оценил Х. Марти в очерке, посвященном кубинскому просветителю. «Лус, – писал Марти в 1888 г., – за время жизни одного-единственного поколения превратил народ, воспитанный в рабской доле, в народ героев, тружеников и свободных людей … Он посеял людей»84.
Свое восхищение учителем Сангили пронес через всю свою жизнь. Спустя почти сорок лет он выразил это чувство в своем выступлении 22 февраля 1900 г. на памятном вечере, посвященном 100-летию со дня рождения Луса-и-Кабальеро, куда Сангили был приглашен Ассоциацией учителей и попечителей кубинских детей. Свою яркую, страстную, речь он всецело посвятил личности Луса-и-Кабальеро как просветителя и педагога и той высокой роли, какую должен играть учитель в формировании личности молодого человека85. Сангили поделился воспоминанием об одном эпизоде общения Луса-и-Кабальеро со своими учениками: то была прощальная суббота. Маэстро из-за неизлечимой болезни (рак горла) и потери голоса вынужденно покидал свой колледж. Говорить ему было трудно, он «стоял на кафедре, слегка покачиваясь, озаренный вдохновением. Он возвышался над нами подобный библейскому пророку, откинув голову, руки воздев горе. И вечно будут звучать в моих ушах и жить в моем сердце его последние слова: «Пусть рухнут не только институты, созданные людьми, не только власть королей и императоров, но и сами светила небесные, прежде чем погаснет в душе человеческой чувство справедливости, солнце морального мира»86.
22 июня 1862 г. скоропостижно, ранним утром, за несколько минут до прихода к нему любимого ученика на заблаговременно назначенную встречу у себя дома скончался первый просветитель Кубы, одно имя которого – Хосе де ла Лус-и-Кабальеро – в сердцах его учеников и последователей звучало как набатный призыв к борьбе за справедливость. Записка для Сангили, в которой ему товарищ по колледжу сообщал о смерти учителя, заканчивалась словами: «Сколько бедных негров будут искать завтра в своем тряпье черную ткань, чтобы пойти на похороны «дона Хосе»…Широко известен был его афоризм: «В вопросе о неграх наименее черны сами негры».
Для четырнадцатилетнего Мануэля потеря Луса-и-Кабальеро явилась ударом судьбы. Но он был воспитанником учителя, который всю жизнь был верен принципу, выраженному в двух его афоризмах:
– «Воспитывать не значит только дать образование, нужное ученику для жизни; необходимо закалить его душу для встречи с жизненными трудностями».
– «Обучать может любой, воспитывает же лишь тот, кто воплощает в себе все добродетели Евангелия».
Крестный Мануэля, дон Писарро, по-своему любивший приемного сына, гордившийся его блестящими успехами в колледже, не был склонен к особому вмешательству в дело его обучения и воспитания. Уверен был он только в своих безграничных возможностях. Слава колледжа, в котором учился его крестник, только усиливала его тщеславную убежденность в том, что нет в мире силы, которая могла бы противостоять принятому им решению. А решил он – и считал, что мудро – по-своему усмотрению распорядиться дальнейшим, по окончании колледжа, будущим Мануэля. Решение было неколебимым: его крестник пойдет по его, полковника, стопам, станет кадровым военным. Он был полон желания и энергии проложить путь к карьерному росту своего воспитанника: Мадрид, военная академия, ряды высшего офицерства. Спокойно и терпеливо ждал он лишь окончания колледжа Мануэлем.
В 1864 г. «Эль Сальвадор» был окончен. Дон Писарро не сомневался, что его план с благодарностью будет одобрен и Мануэлем. Загодя были заготовлены необходимые документы и рекомендательные письма, собрано все необходимое для экипировки, назначен и день отъезда. Но услышав сообщенную крестным весть, шестнадцатилетний юноша с крохотной котомкой своих личных вещей и с твердым убеждением, что он никогда не наденет на себя мундир армии страны-угнетательницы, той же ночью, не сказав ни слова, покинул фешенебельный особняк своего крестного. Любые объяснения по этому поводу он счел ненужными. Сюда он больше не возвращался никогда, хотя позже изредка, из чувства благодарности, проявлял знаки внимания к человеку, который помог ему в годы раннего сиротства. Что касается фешенебельного особняка дона Писарро, то жители гаванского района Серро, где расположен был особняк, старались обойти его стороной и называли не иначе, как «дом змеи».
Так, умственно, нравственно, психологически Мануэль Сангили, как истинный воспитанник «Эль Сальвадора», ощутил себя кубинцем, а отнюдь не испанцем, и со свойственной его характеру решительностью выразил неразрывность своей связи с Кубой, с обществом, в недрах которого зрела первая революционная война против испанского колониализма. Началась самостоятельная жизнь: без жилья, без средств к существованию при огромном желании учиться в Гаванском университете. Должность учителя-почасовика, которую он получил в своем родном колледже, едва обеспечивала ему полуголодное существование, ночлегом же чаще всего служили скверы Гаваны.
В Национальном архиве Кубы сохранились два любопытных документа – две справки, выданные на имя Сангили. Одна удостоверяла, что им внесены деньги в кассу Гаванского университета на сумму 33 песо и 4 реала за позволение быть допущенным к экзаменам на факультете права; другая – за подписями комиссара 5-го округа столицы и приходского священника— свидетельствовала, что ее предъявитель беден и не в состоянии оплачивать свою учебу в университете. Наличие этих двух справок давало их обладателю право на экстернат в Гаванском университете, куда он был зачислен на факультет права и слова87.
С началом антиколониальной войны 10 октября 1868 г. Мануэль надел униформу «гарибальдийца» – красную рубашку. Сражавшийся за освобождение Латинской Америки итальянский революционер Гарибальди88 был любимым героем романтически настроенного юноши, жаждавшего свободы для своей родины. Военные действия, начало которым положил Карлос Мануэль де Сеспедес в Ориенте, распространялись и на другие провинции, освобожденные плантатором-повстанцем рабы вливались в его освободительную армию мамби, которая набирала популярность, авторитет и силу, обретая в открытых сражениях с противником опыт повстанческой борьбы.
Мануэлю стало известно, что его старший брат Хулио Сангили, в ходе войны получивший звание генерала Освободительной армии, сражается в чащобах Камагуэя. Решение было принято незамедлительно: отправиться к брату, на соединение с повстанцами. Сделать это, однако, было непросто, так как все подступы к очагам дислокации инсургентов были перекрыты испанскими войсками, а колониальные власти бдительно отслеживали групповое передвижение молодежи. Поэтому группе студентов из 33 человек, среди которых был и Мануэль Сангили, чтобы добраться до кубинской провинции Камагуэй, пришлось выбрать окружной путь. 9 января 1869 г. на пароходе «Колумбус» студенты взяли курс на Багамы, где их в Нассау ждал генерал М. де Кесада, руководивший подготовкой и отправкой экспедиций в помощь инсургентам Камагуэя. И только спустя пять дней, 14 января на зафрахтованном у англичан пароходе «Гальваник» экспедиционеры взяли курс на Кубу. 17 января они благополучно высадились на кубинский берег и добрались до места назначения.
В Камагуэе к тому времени ситуация сложилась довольно опасная и запутанная. Дело в том, что здесь начало повстанческому движению, по примеру Карлоса Мануэля де Сеспедеса, положил патриот края Аугусто Аранго. Вместе с братом Наполеоном он захватил небольшой городок Гуаймаро и укрепился в нем с целью не допустить его захвата испанскими войсками. Но Наполеон Аранго, хотя и помог брату укрепиться в Гуаймаро, не только не разделял его планов по оказанию сопротивления испанцам, а напротив, встал на путь прямого предательства, вступив в сговор с графом Бальмаседой, главой карательной экспедиции, прибывшей в Камагуэй.
Факт сговора о сдаче позиций повстанцев и городка Гуаймаро испанцам вскоре был раскрыт, предательство обнаружено. В руках лидера повстанцев провинции Камагуэй и радикального сторонника продолжения войны за независимость Игнасио Аграмонте89 оказались неопровержимые доказательства, но он не располагал необходимыми силами ни для перехода в наступление против Бальмаседы, ни даже для открытого разоблачения предателя. Поэтому прибытие повстанческого пополнения, в состав которого входил Сангили, было чрезвычайно своевременным. Получив это подкрепление, повстанцы перешли в наступление и одержали ряд побед в боевых сражениях. В одном из этих сражений Сангили получил тяжелое ранение в бедро, но на предложение покинуть отряд повстанцев ответил отказом. Оправившись от раны, Сангили в свои двадцать лет получил назначение на должность политрука инсургентского корпуса. В его обязанности помимо политической работы среди повстанцев вошло и ведение своего рода «дневника» боевых действий повстанческого отряда.
В итоге одержанных побед карательный отряд Бальмаседы был отброшен, а Гуаймаро объявлен местом созыва конституционной ассамблеи, которая была назначена на апрель 1869 г. и куда к этому времени съехались представители от всех восставших районов Кубы. Основным вопросом повестки дня ассамблеи был вопрос о принятии конституции90. На обсуждение она была представлена комиссией по ее составлению во главе с И. Аграмонте. В редактировании статей конституции принял самое деятельное участие и Мануэль Сангили в качестве ответственного секретаря комиссии. На заседании ассамблеи 10 апреля 1869 г. ему было предоставлено слово для выступления. Это было первое в его жизни публичное выступление и сразу на таком представительном форуме. Свою пламенную речь он посвятил идее справедливости, обоснованию необходимости упразднения рабства как общественного института и защите прав освобожденных рабов. Обращает на себя внимание фрагмент его речи, касающийся темы «порабощенной Польши», жаждущей свободы, но проигравшей сражение в борьбе с царизмом91. Можно расценить это как свидетельство того, что к отстаиванию идеи необходимости борьбы с рабством, в защиту свободы и независимости он подходил принципиально, абстрагируясь от конкретной обстановки, связанной с войной за независимость на Кубе. Идея независимости сама по себе становится определяющей в его политическом мышлении и мировоззрении. Интересно отметить также, что выступление Мануэля особый восторг вызвало у делегата, представлявшего на ассамблее восставший Лас Вильяс, еще одну мятежную провинцию. Это был Карлос Ролоф, артиллерист инсургентов, поляк по национальности, скрывавший свое подлинное имя под этим псевдонимом. Было известно, однако, что он – участник польского восстания 1863 г., одним из руководителей которого был Сигизмунд Сераковский, соратник Герцена и Чернышевского, убежденный революционер-демократ России и Польши. Карлосу Ролофу, как революционному борцу-интернационалисту, Х.Марти посвятил несколько очерков.
Работа Мануэля Сангили по составлению текста конституции и его редактированию, а также участие в заседаниях Гуаймарской ассамблеи стало важнейшей вехой в его инсургентской жизни, оказало принципиальное влияние на дальнейшее развитие его личности как борца и политика.
3.2. Начало публицистической деятельности
В 1870 г., в самый разгар военных действий на Сангили была возложена трудная миссия по сбору средств на ведение войны и материальное снабжение освободительной армии. Он должен был сочетать эту работу с решением задачи по мобилизации международного общественного мнения в поддержку борющейся за независимость Кубы. С этой целью его не раз командировали за пределы Кубы, чаще нелегально. Необходимость выполнения возложенных на него обязанностей дала ему опыт публичных выступлений, навыки общения с аудиторией. Однако, все более настоятельным становится в нем желание выразить публичное слово через печать. Опыта в этом деле у него не было, если не считать его статью-некролог, посвященную своему двадцатилетнему, скоропостижно скончавшемуся однокашнику по колледжу Хосе Мануэлю Понсе. Это была его первая публикация и сразу в такой авторитетной газете, как «El Siglo». Статья была напечатана в тот же день, когда он ее написал – 5 мая 1866 г. С этой даты, можно сказать, ведет свой отсчет журналистская деятельность Сангили.
Так, между деловыми командировками и боями на полях сражений протекала его жизнь. Росла страсть к журналистике: писать, публиковать, делиться своими мыслями со сражающимся народом, сверять свои раздумья с интересами борьбы за свободу и справедливость. Он, естественно, сразу же становится первым и самым преданным сотрудником фронтовой газеты инсургентов «La Estrella Solitaria», первый номер которой увидел свет 1 декабря 1869 г. На ее страницах он ведет постоянную рубрику – «Хроника военных действий». Газете из-за активных боевых действий не всегда удавалось обеспечить периодичность, но не было номера, где бы отсутствовала хроника и не появлялись публикации за подписью «Отто» (псевдоним М. Сангили). Названию газеты – «Одинокая звезда» – был дан символически антианнексионистский, антиамериканский смысл: готовность сражающегося острова противостоять проискам страны с «многозвездным» флагом, то есть Соединенным Штатам, и заодно кубинским аннексионистам, а не только Испании, с которой шла война92.
Девиз к рубрике выбрал сам Сангили, несколько перефразировав известный афоризм Луса-и-Кабальеро: «Эта борьба – борьба святая; эта война – война священная. Мы разрушаем, чтобы созидать; мы сражаемся во имя жизни, а не ради того, чтобы умирать»93. К сожалению, тех заметок и комментариев Сангили не сохранилось. Пропавшими навсегда считаются все номера военных лет, и только по косвенным свидетельствам современников можно составить впечатление о ней. Газета в буквальном смысле зачитывалась до дыр, а бумага нередко использовалась для изготовления самодельных патронов.
На полях сражений в лесистом Камагуэе Сангили провел девять лет. С освободительной армией прошел путь от рядового до полковника, принимал участие в 51 сражении, имел ранения. Как личный представитель генерала Хулио Сангили, своего старшего брата в 1877 г. выехал в США для встречи с кубинской диаспорой и побуждения ее к оказанию помощи в сборе средств для материального снабжения освободительной армии. Но война закончилась фактическим поражением Кубы, заключением компромиссного Санхонского пакта 1878 г., который Сангили не признал, выступил против этого, с его точки зрения, позорного соглашения с Испанией. Тем не менее некоторые исследователи в Санхонском пакте хотят увидеть и другое: при всех издержках этого договора, свидетельствующих о поражении Кубы и сохранении ее колониальной зависимости, сам факт заключения пакта с колонией как бы фиксирует некоторые перемены в ее статусе, как реально действующего субъекта международного переговорного процесса. Все это, конечно, очень условно, но тем не менее подписание договора как бы символизировало переход к правовому регулированию отношений и к оформлению де-факто «автономии» Кубы. В действительности, конечно, все было гораздо сложнее. И все же было бы неверным не заметить существенность этого момента для исторических судеб рабства на Кубе. Через восемь лет в 1886 г. институт рабства на Кубе в законодательном порядке был упразднен.
В 1878 г Сангили выехал в Испанию для завершения своего образования в Центральном университете Мадрида. К этому времени ему исполнилось уже тридцать лет, за плечами огромный, но все же сугубо военный, жизненный опыт. Менее, чем за год он выполнил всю университетскую программу и с дипломом адвоката в 1879 г. вернулся на родину. Однако, его попытки приступить к адвокатской практике не дали результатов. Работу по своей юридической специальности он не нашел: участника Десятилетней войны колониальные власти встречали с недоверием. Всюду он получал отказ. К тому же работа адвоката не устраивала и самого Сангили по той причине, что в этом случае он обязан был принести присягу верности метрополии, то есть Испании.
С большим трудом ему удалось устроиться корректором в журналы «La Revista de Cuba» и «Revista Cubana». Эта, казалось бы чисто техническая работа по корректировке готовых оттисков стала для него не только источником столь необходимого, хотя и весьма скудного, заработка, но и фактором духовного роста, творческого совершенствования как публициста, писателя, литературного критика, чье авторитетное слово имело общественный резонанс.
Журнал «La Revista de Cuba» издавался с двухнедельной периодичностью и был ориентирован на публикацию научных, правовых, литературных работ. Начал он издаваться, когда война с Испанией еще продолжалась. В первом номере, появившемся 31 января 1877 г., сообщалось, что журнал придерживается пацифистских позиций. В специальном обращении к читателям и потенциальным сотрудникам говорилось о «сложном времени», подчеркивалось, что ни для кого не должно быть «странным», что журнал не намерен «занимать чью-то сторону» в этой войне. Свою цель его издатели видят в том, чтобы собрать вокруг себя интеллектуальные силы и дать им возможность с его страниц выражать свои мысли и взгляды в форме прозы поэзии, сатиры, философских трактатов, исследований по истории. В этом же предисловии имеется и вызывающее интерес примечание: журнал не гарантирует того, что сами авторы публикаций не захотят вступить в полемику друг с другом по любому, самому острому, вопросу, ибо журнал намерен придерживаться основного для себя принципа: не допускать нарушения прав авторов на публичное изложение своих собственных суждений, которые могут и не совпадать ни с позицией журнала, ни с мнением других лиц.
Короче говоря, журнал этим своим обращением гарантировал своим будущим сотрудникам свободу слова и свободу мысли. Это был действительно интересный периодический орган, соразмерявший свои издательские принципы с требованиями специфики своего времени и стремившийся соответствовать задачам развития общественной мысли с учетом неизбежности борьбы общественных мнений. Со временем переход на такую позицию становился все более актуальным и был обусловлен тем, что в годы революционной войны с Испанией, и особенно после нее, обрели более четкие грани два основных общественных течения – автономизм и аннексионизм, несколько модернизировавшие свои программные требования. Однако на трансформацию общественной мысли начинает оказывать все большее влияние революционное течение, связывающее будущее Кубы исключительно с завоеванием независимости и, разумеется, отказывающееся признать программы как автономистов, так и аннексионистов. Силой, формирующей «структуру» этого течения на том этапе становится публицистика Марти и Сангили. Идея завоевания независимости становится приоритетным направлением и водоразделом в идейной борьбе94.
По признанию кубинских историографов периодической печати, этот журнал очень быстро завоевал популярность среди интеллигенции и стал своеобразным центром формирования критической мысли и воспитания соответствующей ей «аудитории» читателей95. В немалой степени своей популярностью журнал был обязан скромной должности корректора Сангили, который по своей инициативе взял на себя составление комментариев к публикуемым статьям и иным материалам, считая эту работу исключительно важной и необходимой для читателей, численность которых множилась. Затрагивая в своих статьях философские, литературоведческие и политические проблемы, его авторы – а это были видные ученые, писатели, историки, общественные деятели – непременно обращаются к теме исторического опыта развития Кубы. Так, например, публикация на страницах журнала работы по истории рабства в Вест-Индии сопровождалась комментариями по вопросу о состоянии на данный момент института рабства на Кубе.
Интерес читателей к журналу был вызван также переизданием на его страницах работ философов-просветителей, в частности, Луса-и-Кабальеро. Не случайным было в тот момент и появление статьи о взглядах английского философа-материалиста Джона Локка по вопросу о государстве. Журнал счел актуальными для кубинского общества взгляды Локка по вопросу о государстве, особенно те аспекты его учения, где он фиксирует внимание на таких обязательных функциях государства, как обеспечение свободы личности, защита собственности, но не всякой, а приобретенной посредством труда. Созвучна была кубинской интеллигенции и мысль философа о праве людей изменять существующие порядки, особенно, если эти порядки не в состоянии обеспечить личности надлежащее воспитание и развитие96.
Далеко не последняя роль в подборе материалов для публикаций принадлежала корректору Сангили, авторитет которого не только как мамби, но и как широко образованного литератора, был высок в глазах издателей журнала. Именно на страницах этого журнала он публикует свои первые критические статьи о Льве Толстом, Эмиле Золя, а также две работы философского плана: «Либерализм и религиозные идеи» и «Критика чистого разума Канта», хотя он активно сотрудничал в то время и с другими изданиями. Такими, как «El Triunfo» («Триумф»), «Heraldo de Cuba» («Глашатай Кубы»), «La Habana Literaria» («Литературная Гавана»), «El Pais» («Отчизна»), «El Libro Pensamiento»(«Свободная мысль»).
Ежедневная газета «Эль Триумфо» представляла собой официальный орган партии либералов, непосредственной предшественницей которой была до своего переименования партия автономистов. Эта газета стала издаваться вскоре после заключения Санхонского пакта и была одной из самых независимых, за что подвергалась придирчивой цензуре, гонениям, репрессиям. Из-за этого ей приходилось часто менять свое название. Так, одним из ее «псевдонимов» было название «Еl Trunco» («Обрубок»). Типография этой газеты не раз подвергалась погрому. Но газета продолжала издаваться вплоть до 1906 г. и была закрыта уже в связи со второй оккупацией Кубы Соединенными Штатами, которые посчитали для себя небезопасной возможность трансформации идеи либералов об «автономии» в идею о «суверенитете», хотя сама либеральная партия не шла тогда дальше требований независимости своей партии и своего печатного органа. Опасность для США могла, конечно, исходить и от корреспонденций таких сотрудников газеты, как крупный философ-антиимпериалист и общественный деятель Э. Х. Варона97 и один из предвестников социалистической мысли на Кубе Диего Висенте Техера98 .99
О том, как газета боролась за свое право остаться на политической арене, можно судить по одному любопытному эпизоду из истории ее издания. После одного из очередных погромов типографии и налета на редакцию «Эль Триумфо» 3 июня 1885 г. оповестила обо всем своих читателей, сообщила о временном прекращении своих изданий и отрекомендовала им газету «Эль Паис», как орган, разделяющий принципы и точку зрения «Эль Триумфо». На следующий день, 4 июня 1885 г., читатели получили его «дубликат» в виде «Эль Паис». Но с ноября 1885 г. газета «Эль Триумфо» возобновила издание под прежним названием. С этих пор обе газеты фактически с единым контингентом сотрудников издавались параллельно и играли заметную роль в общественно-политической жизни кубинского общества, продолжая испытывать прессинг (прежде всего цензура) и репрессии (погромы типографий и судебные разбирательства) со стороны испанских властей. Газета и здесь вступила в открытое противоборство с колониальными властями, ставя в известность своих читателей о каждом имевшем место инциденте, выделив для этого на своей полосе постоянную рубрику, вскоре превратившуюся в самую популярную и соответственно игравшую немалую роль не только в росте популярности газеты, но и в формировании оппозиционных настроений в обществе.
Авторитет Сангили, как публициста, в 80-е годы заметно вырос после публикации им ряда статей, посвященных проблемам «доколумбовой» (то есть до завоевания острова Испанией) истории Кубы. Большой резонанс в обществе вызвала его статья «Элементы и характер политики на Кубе». Особый интерес к ней был связан с тем, что в памяти кубинцев были еще свежи события 21 сентября 1871 г., на анализе которых и сконцентрировал свое внимание автор. В основу этой статьи Сангили положил публичное выступление перед молодыми либералами, пригласившими к себе прославленного мамби в очередную годовщину этого трагического события. Когда оно произошло, многие слушатели его выступления были еще в младенческом возрасте. Рассказывая подробно об инсургентах, участвовавших в национально-освободительной революции, Сангили акцентировал внимание и на проблемах сугубо правового характера: этических нормах Мадрида и этатических принципах колониальных властей. А это были как раз те проблемы, которые волновали общественную мысль Кубы. На конкретном примере – аресте и казни студентов-медиков по ложному доносу – Сангили обосновывал тезис о необходимости конституирования в стране суверенной власти, которая может быть гарантирована лишь с завоеванием независимости Кубы. Процессу над студентами, «вина» которых не только не была доказана, но и проигнорирована сама необходимость этих доказательств, Сангили дал политическую оценку. Тогда из тридцати восьми студентов восемь были казнены при полном отсутствии каких бы то ни было «улик» кроме «сочувствия» инсургентам, о чем шла речь в анонимном доносе. Остальные были подвергнуты экзекуции, всякого рода надругательствам и отправлены в тюрьмы. Сангили охарактеризовал действия властей и сами «основы испанской политики» на Кубе как «произвол, насилие и террор»100.
Интересно отметить идентичность оценки этого события в публицистической статье Сангили с той, которую дал ему в свое время Марти. По свежим следам казни студентов Х. Марти, сам едва выпущенный из тюрьмы и отправленный в ссылку в Испанию, находясь в Мадриде, отдельным изданием в 1871 г. опубликовал памфлет «Политическая тюрьма на Кубе». Вердикт восемнадцатилетнего Марти не допускает компромисса: «Справедливая идея несовместима с опьянением кровью. Справедливая идея никогда не оправдает преступления и варварской утонченности закоренелого преступника»101.
3.3. В защиту идей Хосе де ла Луса-и-Кабальеро
Опыт повстанческой борьбы и уроки Санхонского пакта, полученные в ходе Десятилетней войны, продолжали волновать общественную мысль Кубы. Горечь поражения обрела для Сангили сугубо личную окраску не только потому, что он десять лет жизни отдал борьбе за свободу своего народа и имел все основания говорить об этой войне от первого лица. Дело, в другом: его глубоко возмутила книга бывшего учителя физики колледжа «Эль Сальвадор» Хосе Игнасио Родригеса «Жизнь Хосе Луса-и-Кабальеро». Издана она была в Нью-Йорке в 1874 г., в разгар военных действий на острове и распространена среди кубинских эмигрантов. Сангили считал, что автор сознательно исказил личность Луса-и-Кабальеро, превратил его в «идола», «икону», выхолостил духовное кредо педагога и наставника молодых кубинцев в их борьбе за независимость102. Он не сомневался, что книга Родригеса успела нанести вред общественной мысли Кубы и написал полемическую работу в защиту убеждений своего учителя. Она была напечатана в журнале «Revista Cubаna» 30 июня 1885 г. Первое, что делает автор, – это пишет письмо Родригесу на его нью-йоркский адрес и через Э. Х. Варону вместе с письмом отправляет ему экземпляр журнала. Сангили просит адресата откликнуться на его «скромный труд», сообщает, что он еще был ребенком, когда не стало «дона Пепе», и потому считает себя не вправе говорить о его жизни по своим личным впечатлениям, но считает для себя абсолютно необходимым обратить внимание на ошибки и искажения взглядов учителя, содержащиеся в его (Родригеса) книге103.