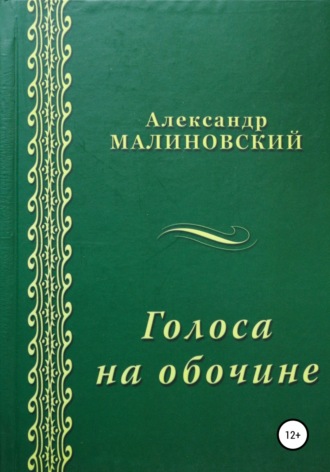
Александр Станиславович Малиновский
Голоса на обочине
С голода не пухну…
Когда началась наша всеобщая «прихватизация», и я попал под её каток.
Я – главный инженер главка. Под началом до двух десятков заводов. Что началось вокруг и около: голова кругом! Терпел, не зная, что делать.
…Пошёл на подпись поток передаточных ведомостей на оборудование по остаточной стоимости. Заводы готовили к передаче в частные руки. Схватился за голову: стоимости смехотворно занижены. Три ведомости подписал, больше не мог. Перестал спать ночами. Иду к начальнику главка:
– Виктор Аркадьевич, это ж грабёж государства, народа. Понимаем ли, что творим? Будто не заводы готовят к передаче, а колхозные слесарки!
– Там понимают, – показывает пальцем над головой начальник.
– Но почему я должен это подписывать?
– А кто? – спрашивает. – Не я же! Ты отвечаешь за оборудование, ты – технический директор. Там, – опять показывает на потолок, – всё согласовано. Понял?
Я всё понял. И написал заявление об уходе. Никаких бумаг больше подписывать не стал. Это последняя была. Так я стал безработным.
А механизм по лишению состояния ста сорока миллионов россиян ладился на глазах, а мы обескураженно все молча взирали. Приватизация!..
Вначале было обесценено громадное богатство Советского Союза. Затем население было поставлено в такое положение, в котором оно готов было, вынуждено любую собственность обменивать на хлеб, молоко и так далее. Есть что-то надо было… И любой протест против такого ограбления всего народа был в то время невозможен…
…Так в течение всего нескольких лет появились собственники нефтяных, металлургических, химических гигантов…
И теперь утверждения, с таким усердием внушаемые нам, что план и государственная собственность, – самое главное препятствие эффективного развития нашей страны, разбились опять же на наших глазах о личные интересы жирующих на народном богатстве.
Поворот к капитализму для нас, россиян, оказался чудовищным откатом назад. Мы сползли к недоразвитому капитализму…
…Почему об этом молчат? Неужели я умнее всех! Быть того не может!.. Тогда в чём же дело?..
…Вместо столицы оказался я за Уралом. Но никто меня не тронул. Долго, правда, не работал. Кругом красные флажки. Теперь-то работаю. Глава фирмёшки одной. Проектными делами занимаемся. И по прежнему профилю работы, и не совсем… Но с голоду не пухну. Сердечко вот только теперь…
Чернослив в шоколаде
Я зашёл в отделение почты у нас во дворе и, кажется, в неудачное для меня время. А, может, наоборот… Где б услышал такое?.. Оказывается, сегодня день выдачи пенсии. Мне всего-то нужен почтовый конверт. Народу битком… И до окончания обеденного перерыва около двадцати минут. Все спокойно ждут момента начала выдачи денег. Идёт неспешный разговор. Я притулился у косяка, почувствовав интересное. Начало разговора я не слышал. Захватил, видимо, середину его.
Рассказывает интеллигентного вида пожилая женщина. Мне она показалась похожей на бывшую учительницу.
– Ну что мне делать? Болезнь есть болезнь, надо прорваться к этому доктору. А я никуда никогда не прорывалась. Тем более так! Но всё ж решилась. За меня договорились. Меня доктор примет. Мне только осталось, как сказали, обязательно купить солидную коробку шоколадных конфет. Боже мой, коробку-то конфет я купила, большущую такую. «Чернослив в шоколаде» называется. Сама никогда не пробовала такой. Сто семьдесят два рубчика стоила эта моя взятка. Пакет пластиковый большущий дома еле подобрала. Сама иду в поликлинику, а всё думаю: «Боже мой, как же это я буду, старушенция такая, взятку давать? Ведь это ж… он же на государственной работе…» А за спиной, над ухом всё вдогонку усмешка моего зятя: «Ну что вы, Серафима Илиодоровна, уже какой год как перестройка! А вы всё по каким-то махровым принципам живёте! Давно пора перестроиться! А то не выживете так…»
Иду. Под мышкой, как крыло аэроплана, пакет такой большой с конфетами. Ветер на улице. Сумка парусит, я спотыкаюсь. И трушу… «А вдруг оскорбится? Мужик ведь! А я, какая-никакая, всё ж таки дама! Он же, наверное, в нашей нормальной школе учился. Доктор медицины, в любом случае не меньше меня, училки-пенсионерки, получает? Выставит за дверь ещё! Позору!.. В общем, иду, интеллигентка тощая, комплексую вовсю… Но, как велел зять, держу курс на перестройку: а то и впрямь… не выживешь теперь…
Не помню в подробностях, как я вошла в кабинет. А он, доктор, высокий такой, представительный. А у меня своё: «Неужели такие сейчас берут? Думала, какой-нибудь прыщавый будет, с наглым лицом…» Опыта у меня в этом деле никакого… Не обучены мы…
Как давать-то, думаю, с какими словами? Он чужое вдруг брать не будет, я ведь за работу, которую ему оплачивают, буду совать этот чернослив, будь он неладен!..
– Что же вы, проходите ближе к столу! – говорит и смотрит доктор не на меня, а куда-то мимо… Сам весь лицом смуглый, породистый такой. Лет сорока.
«Ну прям не доктор, – думаю, – а чернослив в шоколаде».
Шагнула я к столу… Не знаю, как у меня вырвалось:
– Доктор, тут вот вам…
И не успела я сама до конца вытащить из пакета коробку, как он ловко хвать её! И не сумела я ничего: ни договорить, ни сесть ещё, он – шасть! И за ширмочку, за занавеску – двумя быстрыми шажками, как в цирке. Оттренированно!.. Как между прочим. Легко так. А я вспотела вся… Меня больше всего поразило, как он шустро всё. Ну, думаю, такие как мы, верно, обречены на вымирание. Динозавры. Эта перестройка для таких вот, как этот…
Очередь молчала, внимательно слушая.
– И что, помог он вам? – с явным сомнением спросила дама у подоконника.
– Ну, где ж помог-то? Ещё раза три ходила с такими же коробками и поболее… И к нему, и к другим… Толку-то?!
…Окошечко на выдаче открылось, белокурая женщина лениво что-то сказала. Очередь колыхнулась и вновь замерла, зашелестели слова присутствующих. Но уже без внимания к рассказчице, которая повернулась к окошку.
Я вышел на улицу.
Митька-интеллигент
Говоришь, интеллигенция спасёт нас? Спорить не буду, может, и так…
…А я вот на прошлой неделе в своё село наведывался. Брательник рассказывал про Митьку-интеллигента. Есть в нашем конце такой. С детства чудачит. Лет под тридцать ему. Когда в себе, на народ, ну там в магазин, аптеку… ещё куда, обязательно выходит в шляпе и с авторучкой на груди в кармашке слева, будь он в пиджаке ли, в рубашке ли… Солидно держится. Это когда он в себе, а бывает иначе…
В тот день мать заставила его огурцы полить. Он вроде в себе был в этот момент, просветление у него какое-то… Огород у Косяковых к речке спускается, у самой воды. Пошёл поливать.
Надо же! Соседка вздумала искупаться. Искупалась, вышла без ничегошеньки на берег, а он у кусточков стоит, Митька-то. Смотрит.
Дарья ему:
– Чё лупишься? Не видел никогда бабу голяком? Не знаешь, что делать?
Пошутила она так… Ага…
«Что делать?» Он, Митька-то, нахохлившись, коршуном и бросился на неё. Замкнуло в нём что-то… Стал кусать её за плечи, за грудь, за другие места. Кожа клочьями… Повалил и всё зубами, зубами её…
…Никогда не знал, что делать? Знал да забыл? Или что ещё у него?..
Сбежался народ. Еле отбили Дарью от Митьки-интеллигента!..
Курильщики
Никак не могли меня мать с отцом заставить бросить курить.
Я и сам был не против, но… Сам с собой совладать не мог.
…А тут гуртуются около Ванькова палисадника парни. Курят.
Пасха! Солнечно так. Все нарядные и весёлые. Меня зазывают к себе. Свернули и мне «козью ножку» из газеты. Я закурил. Стою фасонисто, дымлю.
Вдруг как жахнет! Они, паразиты, в махорку добавили мне пороху! Вот как! Брови мне опалило. Лицо в копоти всё. Сделали мне «козью морду».
Пошёл я отмываться к бочке с водой. А вослед мне Колька Лобастый, здоровенный парень, лет уж около двадцати ему было:
– Не серчай, Костя! Отец твой, Гордей, больно уж сокрушался, что куришь. Пособить просил, отвадить тебя. Дал нам на всех махорки авансом… порох мы сами нашли. Мы и пособили. Старших слушаться надо!
Все стоят, смеются – и кто курит, и кто не курит…
…Может, то, что бросил курить, спасло мне жизнь.
Когда уж был в плену в Норвегии у немцев, строили мы железную дорогу. Взрывали скалы и делали площадку для шпал. Поскольку работа тяжёлая, нас как-то ещё кормили. В день давали двести пятьдесят граммов баланды, в основном из брюквы, часто нечищеной, сто пятьдесят граммов хлеба, около пятнадцати граммов маргарина и обязательно… одну сигарету.
Те, кто некурящие, скрывали это. Свою сигарету отдавали за маргарин курящим. Получалась у них двойная порция маргарина. Так и я поступал, некурящий. Тому, кто не курил, получалось, хоть что-то попадало в организм из жиров, они ещё как-то держались.
А курильщики быстро сдавали, у них двойная порция отравы получалась…
Как таскать камни, когда еле ноги передвигаешь? Когда смотрит на тебя охранник, стараешься двигаться с камнем в руках. Как только отвернётся, останавливаешься передохнуть. Надо было уметь вовремя начать движение, когда охранник вновь посмотрит в твою сторону. Не всем удавалось это…
Охрана в этом лагере не зверствовала особо. Вольнонаёмные у немцев были, из местных. За свой паёк служили. Помогали бедолагам по-своему… Грузили, которым не по силам была работа, на посудину человек по тридцать-сорок, выплывали чуток в море и сбрасывали. Помогали, как они говорили, отправиться на морской курорт. В основном курильщикам…
…Разных помощников повидал я на своём веку.
План
Отец мой рассказывал:
– Была одна такая, больно уж активная, из комитета бедноты в нашем селе, Веруня. Руководила раскулачиванием. У нас-то в селе вроде норму выполнили, так она в соседних сёлах помогала. Привела подводы с раскулаченными-то в Кирсановку, недалеко от нашего села. Там у них вроде сборного пункта было. Идёт вдоль повозок, а там бабы, ребятишки, зарёванные, всякие… Шагает так, больно-то не глядя на людей. А тут поднимает глаза, на подводу-то: её мать, отец, младшие сестрёнки, братишка сидят…
– А вы как тут оказались? У нас же одна лошадь…
– Дак, дочка, раскулачили нас… – отвечает отец. – Пока ты раскулачивала на стороне, нас тоже того… под одну гребёнку. Дали, проговорился сопляк этот, Стёпка Синицын, какой-то дополнительный план, мы и попали в него! Как вот Сарайкины с Мошниными, Зотов, Корней Остроухов…
Подарочек
Замаялась я совсем. Никак не думала, что так всё обернётся.
Со мной ведь что случилось?
Лет десять назад у чалдонки этой, Анфисы, муж погиб. Мы тогда в одном ЖКО работали. Поехал он на аварию, а у них там колодец канализационный и ухнул. Двое из них провалились под землю. Её Михаил обварился сильно. От ожогов в больнице умер.
…И времени-то прошло совсем ничего, а она мово Николая и присмотрела. Как бычка на верёвочке, увела от меня к себе. Может, у них и раньше что-то было. Она видная, чёрненькая такая. И оторви – да брось…
Квартира хоть и Николая, а он махнул рукой: «У Анфисы своя двухкомнатная и ребёнок один только». Ушёл, ничего не взял.
Остались мы с дочкой одни. Сначала-то я тужила очень, потом смирилась. А года-то идут. Они оба перевелись на другое место работы. Мне уже и не за тридцать, а пошло за сорок пять… Возраст бабий такой… Хвори, какие положены с возрастом, какие не положены… всё в кучу.
А врач-то и говорит: «Нормальная вам супружеская жизнь нужна, а у вас её нет, вот и проблемы… Думайте…»
Хорошо сказать: «Думайте!..»
…Стала я потихоньку молиться. Просить ангелов небесных, чтоб муженька хоть какого-никакого помогли мне обрести… Молили чтоб за меня… Про бывшего-то своего Николая я и думать сто лет перестала…
И, наверное, либо грешна в чём-то сильно, либо что не так сказала в просьбе своей? Али они что напутали в списках своих каких. Помочь-то помогли, но как?!.
Возвращаюсь 8 марта с работы, а у моего подъезда мой бывший муженёк Николай сидит. Смирненько так, на лавочке. Рядышком какая-никакая его одежонка кучкой. Улыбается детской такой невинной улыбкой, никому… так, всем сразу. А мне передавали раньше, что у него с головой что-то стало. Ну, эта болезнь, я всё путаю название: когда мозги отказываются работать… Анфиса так его закружила, что ли? Или что. Она безудержная, с ней вместе быть – с рельсов съедешь… Пил он сильно…
Что делать? И тут она не по-людски, Анфиса-то, с издёвкой…
Подарочек, мол, прими…
Взяла я его вещи и повела в квартиру. Квартира-то его, ему принадлежит, Анфиса знает, что не выгоню. Попользовалась муженьком моим и… вернула… Больно, видать, я сильно просила, что тоже негоже… И не только своего ангела-хранителя просила. Ко всем взывала. Они и постарались. И, признаюсь, ничего хорошего-то Анфисе не желала. Разлучница ведь…
…И началось у меня… Он же совсем как маленький ребёнок – не понимает, что, когда, где… Только иногда голова заработает… и тут же провал. В больнице нашей больше трёх дней не держат таких.
Дочка приезжала к нам, не смогла неделю прожить вместе. То нервничает, то ревёт.
Я из дома стараюсь надолго не уходить, одного боюсь его оставлять…
На той неделе вздумала с ним съездить на экскурсию. Группа собралась, погрузились в автобус. А он не соображает же…
Неожиданность с ним случилась тут же, в автобусе. Как младенец… Дышать стало нечем… Кто шумит, кто, заткнув нос, молчит деликатно. Но таких мало. Что делать? Выдворили нас из автобуса. Морока.
Как быть дальше? Выхода не вижу… И жалко его…
Белый теплоход
Захотелось глотнуть чистого кислорода, и я нырнул с городской самарской улицы в художественный салон, что на Молодогвардейской. Не успел в зале сделать и трёх шагов, как передо мной возник человек:
– Ба! Вот уж не ожидал! Сколько не виделись!
Смотрю с удивлением на говорящего. Невысокого роста, опрятно, хорошо одет… Вот лицо… Лицо бомжа… опухшее, щетинистое, выцветшие глаза…
– Ты не гляди: я завязал с прошлым. У меня теперь дел невпроворот! А ты? Твои вещи здесь есть? Я ценил тебя. И очень…
Он явно путал меня с кем-то. Пытаюсь разрулить ситуацию:
– Я не занимаюсь…
Не даёт договорить. Происходящее похоже на какую-то интермедию. Или розыгрыш…
– Знаю, знаю! Мне говорили, что ты забросил всё… Но какие были наши фотовыставки! Помнишь: одна за другой! В Нижнем Новгороде?! В Саранске!!!
Слава Богу, думаю, хоть кое-что прояснилось. Оказывается, он и я – фотохудожники. А он как будто чем-то только что подзаряжён, не стоит на месте. Ходит вокруг меня. И по-свойски мне:
– Ничего, Борис, я это тоже перенёс, пережил! Творческий спад, запой… известно всё…
«…Меня он называет Борисом, а мне и спросить, как его имя, уже как бы неудобно», – неуклюже соображаю про себя.
А он вводит меня в курс дела:
– Ты помнишь, – он называет какую-то фамилию, я не расслышал, скороговоркой, как если бы мы все были давними корешами, – он же у меня в Ширяево последние два года жил. Сначала я его козьим молоком отпаивал. У матери моей коза была. Ну и… кормили его. У него же ничего не было. И он как бы никто. Эти мастодонты из Союза художников близко его к себе не подпускали.
И тут началось. С год он работал неистово. Набросился на работу, как с цепи! Не по-человечески. Только спал, остальное время писал. И этого… ни грамма. Я ему только овощи таскал, молоко. Мясо совсем не ел. Всё у нас заставил в пятистеннике картинами.
…А потом враз уехал. В конце 90-х в Германию, а после оказался в Австралии. Картины забрал с собой.
И хоп! В Австралии стал самым известным художником. Выставки, репродукции… Разбогател! Он мне писал об этом, а я не верил… Как поверишь?
Я слушаю худого, с вывернутой вовнутрь левой рукой человека и нахожусь в смятении: что всё-таки это – розыгрыш, блажь? И почему со мной? Но отойти от говорящего не могу. Доверительный тон, наше, по его мнению, общее прошлое к чему-то меня обязывают…
А его захлёстывает случившееся:
– …Но годы… И эта жизнь его, когда бедствовал… Короче, не стало полтора года назад Анатолия. А родственников у него почти нет… Опять: хоп! Оставил мне по завещанию наследство – три миллиона евро и двадцать картин. Таким оказался Анатолий! А мне уже и деньги не нужны. Чувствую: недолговечен я… Куда их? Туда, где все будем, даже ржавого гвоздя не возьмёшь. Ну, съездил в Сидней этот, где он жил. Голубые горы. Пляж Менли. Всё замечательно! Но у меня другое. Сколько мне осталось жить? Ну, не более пяти лет… Из них около года понадобилось, чтобы с наследством всё оформить. Тягомотина!
…Я слушаю сказочника, как я его про себя назвал, и жду, чем всё это кончится. И не хочется, чтобы сказка разрушилась, как песочный замок… И… ну, есть же границы фантазии?
– Как-то с пользой надо бы распорядиться деньгами-то, – говорю, желая увидеть, как он будет продолжать сочинять…
– А я распоряжусь! – отвечает. – Хочу успеть (если заслужил), успеть построить на эти деньги в селе Ширяево детский дом. И купить для дома белый теплоход. Волга-то, вот она, рядом… Пусть ребятишки радуются!
Этими последними словами он меня совсем обезоружил. И покорил! Стало совестно за моё неверие.
– А почему обязательно белый? – глуповато уточняю услышанное.
– Так хочется! С детства мечтал плавать на таком по Волге капитаном. Да, видишь, рука у меня после перелома какая… Ты же знаешь эту мою историю.
Взгляд его остановился на мне. Пронизывающий такой… После некоторой паузы сказал убито:
– Но время! Время летит! Успеть надо сделать что-то настоящее! Ты же хорошо маслом писал когда-то. Что фотография?!! Вот! – он разжал поднятый до уровня своего подбородка кулак: – Время, как вода сквозь пальцы! Время пожрёт всё! Помнишь Державина? «Река времён в своём теченье // Уносит все дела людей…» А искусство вечно!
Смолк. Передохнул. И призывно уже:
– Напиши холст «Время и мы». Чтоб много было белого и голубого! Это тебе будет не «Чёрный квадрат» Малевича! Это сосем другое!.. Ты смог бы!
…Когда он ушёл, я спросил работника салона, сидящего за столом у компьютера:
– Кто это?
– А что?
– Да, чумовой какой-то. Так мне показалось.
– Не знай какой, но он заказал для одной из школ в подарок три картины, каждая более пяти тысяч стоит. Сказал, завтра приедут – заберут. Вон в сторонке стоят, оплаченные…
– А можно фамилию его узнать?
– К чему вам? – холодновато отреагировал работник.
– Ну так! Загляните в базу данных, – я кивнул на компьютер.
И получил своё:
– Зачем это? Он сказал, чтоб было всё конфиденциально.
И кто вы такой?..
Сиреневые колокольчики
Я тогда уже пятый год вдовой жила. Сыновей попереженила давно. Разъехались они. Живу одна, шестой десяток пошёл…
Всё бы ничего, но дом на отшибе в посёлке. Боязно порой одной-то.
И по хозяйству без мужика не так ладно всё, как могло быть… Вот меня и познакомил с Леонтием муж моей двоюродной сестры Миша. В детском садике, где я когда-то нянечкой работала, они оба стихи читали ребятишкам. Сошлись мы с Леонтием. Я с самого начала условие поставила: только не пить! Не хочу на старости в пьянке жить. Леонтий условие принял.
Старательным таким Леонтий-то оказался. Перед домом у калитки площадочку вымостил. Осенью все яблони обрезал, какие старые очень – совсем спилил. И в доме светлей стало, и во дворе. И так порядок постоянно наводил во всём. Чистюля. Каждый вечер, как спать лечь, ноги обязательно моет. Иной раз, если в доме моль увидит, не успокоится, пока не прихлопнет. Но временами срывался и запивал. Замыкало что-то в нём. Плакал пьяный. Мало совсем о себе рассказывал. «Нечего, – говорил, – вспомнить. А как что вспомнишь, голова болеть начинает…»
У него случай был. Как он говорил, работал сварщиком на электростанции и упал с высоты, с тридцати метров аж…
Падал, говорил, как-то поэтапно. Цеплялся за что-то несколько раз, то там, то тут, одеждой. Ну и получил сотрясение мозга, руку сломал, два ребра.
…Деньги мы не делили. Он приносит свою пенсию, кладёт в шкаф на полку. Я приношу – на ту же полку кладу. Соседка моя, Нюра Мижавова, позавидовала: «Везёт: третий мужик у тебя». Она всему завидует.
Знала бы, как мне дались первые два. Помучилась. Она недавно дом-то рядом купила. Издалека откуда-то.
Я всю жизнь то нянечкой, то воспитательницей в детских садиках проработала.
На пенсию ушла, а всё около детсада «Мишки», тут у меня через дорогу. Кружусь. Там помогу, там что-нибудь по мелочи… Вот его стихи, Леонтия-то, раздавала. Читали деткам, очень нравились.
…А через год у Леонтия книжка целая вышла для детей. Было в ней одно стихотворение, где мне очень нравились две строчки:
Вечно солнышку светить,
Если будем всех любить!
Это стихотворение называется «Сиреневые колокольчики».
Оно и о природе, и о войне. Мы-то в детстве с подружками так любили по весне ходить за этими сиреневыми колокольчиками. Лес-то рядом совсем.
До сих пор вспоминаю эти денёчки. Иной раз во сне колокольчики приснятся – и позванивают из детства!..
…А тут как обухом по голове. Не придумать страшнее. Миша рассказывал мне: приглашают председателя ихней областной организации писателей в обком партии и спрашивают:
– Вы кого печатаете? Фашистского пособника! Гестаповского палача!
Оказывается, на Леонтия пришла бумага из соседней области.
А в ней такое… свихнуться можно. По ней Леонтий родился и жил до войны в Поволжье, по соседству с немецкой колонией. С детства знал немецкий язык. Когда началась война, его определили в армию переводчиком. Он и попал в плен.
Немцы зачислили его в эту, в зондеркоманду. Потом направили в Грецию, в команду, которая занималась уничтожением греческих партизан.
Расстреливали целыми семьями. Детей бросали живыми в костёр. И во всём этом, получалось, Леонтий – прямой участник.
После войны за то, что был в услужении у немцев, Леонтий отсидел десять лет.
Приехал сюда и жил на квартире у одной старушки в посёлке, недалеко от города.
Незаметно жил, пока не начал писать стихи и печататься.
Вот как!
…Председатель-то пригласил потом Леонтия к себе в кабинет, спрашивает напрямую:
– Служил у немцев?
– Служил, – отвечает Леонтий.
– В расстрелах участвовал?
– Вам же бумагу прислали. Что спрашивать? – так вроде Леонтий отвечал. Мне Миша рассказывал.
Председатель долго тоже не стал разговаривать:
– Ну, раз эдак, то вот что скажу: стихи запретить писать вам никто не сможет. Но печатать мы вас не будем. Точка!
Я говорю брату Мише:
– Как же так? Каратель, и такие стихи хорошие? Не верится.
А он мне:
– Талант – он как чирий! Может и на заднице выскочить!
А тут утечка произошла. По посёлку про Леонтия слушок пошёл…
Что же делать? Как быть? Ума не приложу: полицай в моём доме? Жить-то как вместях?
Леонтий-то пропал сразу. Не появлялся у меня. Всё решилось враз. Пришла домой – его вещей нет. Туда-сюда. На столе записка: «Уехал. Прости».
И всё! Куда? Чего?
Он даже деньги в шкафу не тронул. Вот ведь?..
…Я до сих пор не могу его представить палачом. Слово-то какое? К нему не идёт…
Вот умом допускаю: документы есть. И всякое другое… Сидел опять же… Судили…
А сердцем никак. Не принимает сердце… А вдруг ошибка? Не соединяется во мне всё в одно целое. С этим теперь и живу…
Недавно ездила к той старушке, у которой он жил до меня.
Может, думаю, что узнаю о нём. Увижу.
«Нет, – шамкает хозяйка, – как съехал в тот раз, больше его не видала. А ты кем ему приходишься? – спрашивает. – У него, сердешного, ведь никого, как знаю, не было».







