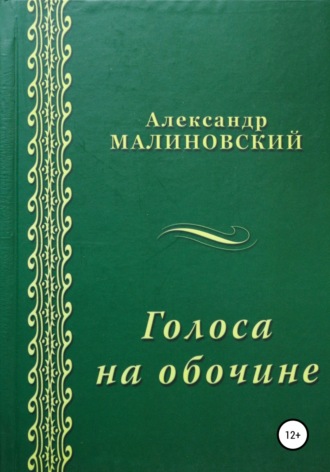
Александр Станиславович Малиновский
Голоса на обочине
Жених
Поздним рейсом прилетел из Москвы. Взял такси, еду в Самару.
Шофёр с виду симпатичный такой, разговорились. Рассказывает:
– Шесть лет как приехал из Бишкека с русской девушкой в Саратов, где живёт её мать. Денег на двоих – двести долларов. Намеревались начать семейную жизнь, сняли квартиру. Хозяйка сварливая, квартира двухкомнатная. В одной – она, в другой – мы. Недолго выдержали. Уехал с Надеждой в Калининград. Но жилья нет, снова маета по квартирам. Она не выдержала, уехала домой к матери. И я не задержался, махнул в Самару.
Работаю вот таксистом. Единственный способ устроить жизнь – найти женщину лет тридцати пяти-сорока с квартирой. Знаю, таких немало, но они ходят где-то… Трудно встретиться.
У хозяйки дочь есть. Ей тридцать лет. Бухгалтер. Но молчунья.
Полгода знакомы – не пойму, что в ней сидит?..
Начал в фитнес-клуб ходить, вот таксистом работаю: может, через клиентов познакомлюсь. Нет у меня опыта в таких делах. Когда молодым был, меня выбирали. Я тогда в оркестре играл: проблем не было… А теперь застопорило.
…Недавно познакомился с одной: она с деньгами. Муж умер.
Пустила в свой богатенький круг. Но мне сорок, ей – пятьдесят. Несерьёзно.
Так время и идёт.
Вчера взял билет в Бишкек. Мама написала, что приглядела мне невесту… А вдруг?..
Увлечённый
Лекции по химической термодинамике читал нам заведующий кафедрой, заслуженный деятель науки, седовласый и грузный профессор Дамаскин.
…Мы сидим, слушаем, едва ли не раскрыв рты. Размашисто, словно из рукава своего широкого светлого летнего костюма, низвергает он на доску серпантин длинных формул.
Ему не хватает места на доске, левой рукой он тут же стирает за собой написанное, правой продолжает своё действо. Мы не успеваем записывать. Но никто не ропщет. Все смотрят на происходящее зачарованно, как на фейерверк.
Ещё бы: светило! Всесоюзная известность!
Остановившись на миг, профессор вопрошает:
– Сам процесс понятен? Суть его?..
Мы не успеваем ответить, он машет левой рукой с тряпкой:
– Проще объясню! Автомобильный карбюратор, знаете что такое?
И, не дожидаясь ответа, начинает подробно излагать работу карбюратора.
– Уловили главное! – уверенно восклицает лектор. – Молодцы!
…Когда лекция закончилась и профессор ушёл, мы обступили Владьку Серова, работающего по совместительству у профессора на кафедре лаборантом – признанного нами безоговорочно восходящей звездой химической термодинамики.
– Послушай, а причём всё-таки карбюратор?
– А что вы хотите? Вот чудаки! Мы два последних выходных с ним занимались ремонтом его «Волги». Еле карбюратор отрегулировали! Профессор вначале всё не мог понять, как он работает. Я несколько раз объяснял… Когда он разобрался, понял, рад был! А сегодня рассказал вам.
Зайка серенький
Мне семьдесят пять лет этой осенью будет. Кому нынче она интересна, жизнь моя? Тебе, говоришь? Ты свою-то слушал мать, когда жива была? То-то и оно… спохватился…
* * *
…Раньше-то я многое помнила, а теперь выветривается. Больше из детства застряло в голове. Иногда прям живые картинки перед глазами… Вот одна из них. Было давно, а будто вчера…
…Мама сунула в полотняный мешочек бутылку молока с газетной затычкой, два яичка, спичечный коробок с солью, хлеба: «Отнеси, Кать, отцу, мне неколи: на ферму к коровам надо».
Иду себе вдоль бровки просяного поля. Оглядываюсь, не забываю, назад. Так мама мне наказала, чтоб лошадь не задавила, как Миньку Сорокина. Он маленький был, четвёртый год ему шёл, а я уж не такая. Мне пять лет! Над головой, не знай где, жаворонки звенят, высоко! А из-под ног куропатки то и дело: фыр-фыр. Мне уж и пугаться надоело, правда! Жизнь – сплошной праздник! Радуюсь иду! А тут: заяц. Сидит в меже. И не убегает. Наверное, понял, что я маленькая и нечего меня бояться. И так он мне понравился! Он маленький, и я тоже безвредная. Уши у него длинные, с чёрными кончиками. А сам весь бурый с рыжеватым оттенком, голова и часть спины за ней – тёмненькие. Хочется рукой погладить.
Сидит себе и продолжает глядеть на меня своими красновато-коричневыми глазёнками, обведёнными белыми кольцами. И я на него смотрю, глаз не могу оторвать. Такое живое чудо! И как домашний!
…Надо же: я уронила сумку на землю. Дёрнулась за ней – зайка и скакнул в сторону. Смотрю кругом. Как и не бывало его… Села на траву и реву, дурашка, в голос. Такое горе!
Папа подходит:
– Катюха, ты чего? Неужто опять волки пробегали?
– Нет, – отвечаю, – не волки! Зайка серенький ускакал!
– И что же ты плачешь? Вставай, пойдём. Там тенёк у меня есть. Давай обед-то мне, понесу.
…Мы идём с отцом к его стану. Вся моя пятерня в папиной широкой шершавой ладони. Папа такой большой и надёжный… А я продолжаю всё равно плакать. И сама не знаю, почему плачу. Не могу остановиться. Заливаюсь…
…Иду и словно сердцем чую, что не будет у меня больше такой… светлой моей печали… не хочется с ней расставаться…
Всё впереди будет оглушительным и страшным. На другой день объявят, что началась война. Папу в первые же месяцы войны ранят, и он вернётся без ноги. Братика Володю убьют через полгода, а потом и другого братика Серёжу убьют. И мама от такого горя станет никакая… сердечницей.
…Плакала я тогда, шагая вдоль просяного поля, будто прощалась с детством, в пять-то годков своих…
Колода
Одно время папа с мамой держали гусей. Мороки с ними!..
Один гусак, мы его звали Гошей за то, что он всех громче кричал «го-го-го», был совсем особенный. Своей жизнью жил… Летом он улетал в другие деревни, а осенью возвращался и приводил с собой к нам во двор чужих гусей. «Добытчик», – смеялся папа.
Мужики, конечно, ругались. Грозились застрелить Гошу.
В одну осень он не вернулся. Исполнили, видать, мужики свою угрозу. Так папа горевал о Гоше. Он его уважал за его такой независимый нрав и за умение летать…
…Гонять гусей на озеро было моей заботой. Намаялась я с ними.
…Когда резали гусей, хранили мясо в погребе. Набивали его весной снегом и льдом, а сверху – опилки. Когда их не было, стелили ржаную солому. Гусятину солили. Я не могла есть солонину, вообще гусятину. Так за лето к гусям привыкала, каждого знала. Разговаривала с ними. И в погреб не могла спускаться за молоком или ещё за чем-либо, когда мама попросит… Сама-то она не могла…
…Папа пожалел меня. Перестал держать гусей. На овец переключился. А я и с ними подружилась, с барашками. Они забавные. Не шипят, не гогочут громко. Тоже доверчивые, особенно маленькие когда…
Я по осени места себе не находила. Блеяли они, когда их из стада забирали, так жалобно. Точно знали, что с ними скоро будет, с наступлением осенних холодов, когда их начинали резать на мясо. Себе, на рынок…
Папа со мной и так уж, и сяк, а я только плачу…
«Вот графинечка-то у нас растёт, – досадовал он в сердцах, – достанется тебе в жизни».
Неудобная я была. Как колода поперёк дороги. Угадал отец: намыкалась я со своим характером за свою жизнь потом, когда мамы с папой не стало…
Куда денешься?
Середина 60-х годов. Я после техникума в колхозе работаю агрономом. Весенняя посевная. Из района поступила команда сеять кукурузу. Ходим который день с председателем понурые. Михаил Кириллыч зовёт меня в кабинет. Вхожу, сажусь.
– Ну что? – говорит председатель. – Надо принимать решение. Кроме угроз, последние дни из района ничего нет.
– Дак, – говорю, – не послушаемся – в тюрьме будем, а послушаемся, засеем кукурузой – без кормов останемся!
– Делать-то что? – спрашивает.
Молчу. Всё вроде бы уже сказала.
Входит секретарь наш партийный. Фронтовик. Бывший агроном наш, только без образования. И без руки. Сел на подоконник. Мы с председателем молчим.
– Что в молчанку-то играете? И меня сейчас отчитали по телефону. Кто-то донёс, что тянем с посевной. Сроки уходят!.. Куда денешься…
Я вся напружинилась, вцепилась пальцами в край стола… Вот-вот взорвусь, молодая!
А секретарь попыхтел-попыхтел беломориной своей вонючей, прокашлялся и… говорит, глухо так:
– Неужто у нас своей головы нет?
И на меня смотрит:
– Как, Мельникова, есть головы у нас?
– Есть, – говорит Михаил Кириллыч, – только тюрьмой пахнет…
А секретарь ему обыденно так:
– Коли посадят, отсидим. Хуже всех, что ли? Будем считать, что этот вопрос мы обкашляли и приняли решение.
Такого я никак не ожидала. Так вот просто!
…Решили мы засеять одну полосу, что вдоль дороги из района, которая на виду, кукурузой. А всё остальное – клеверами. Клевера на полях колхоза «Новая жизнь» всегда хорошие были.
Я нетерпеливая была. Напереживалась…
А колхоз за пятьдесят километров от райцентра. Никто и не узнал толком о нашем поступке.
Подошла пора уборки урожая. Все, кто посеял кукурузу, остались без кормов, а у нас такая удача! Соседи, которые с кукурузой связались, явились к нам с протянутой рукой.
– Удачливая ты, – похваливал меня потом Михаил Кириллыч, – повезло нам, что ты у нас такая! Нам стыдно было, мужикам, труса праздновать у тебя на глазах.
Шутил, конечно.
– А я какая? Никакая ещё… Я невысеянную кукурузу, семенную, всю на остатках показала, как есть. Ничего не думала.
К концу года районная балансовая комиссия заработала.
И возник вопрос: откуда у нас излишки кукурузы? Подсудное дело. Пришлось сознаться: куда денешься?
Комсомольский вожак
Лежу у хозяйки на печи. Простыла, грею пятки. А тут приходят и говорят:
– Вот, Кать, тебе комсомольский билет! Ты теперь комсомолка!
– Как так? – свесив ноги с печи, спрашиваю.
– А так! – отвечают ребята снизу. – Ты агроном наш, специалист – тебе надо!
А чуть позже, я ещё от простуды не избавилась, объявляют:
– Будешь нашим секретарём. Нам вожак нужен. Ты такая крепкая и разумная. Больше некому! Завтра будет комсомольское собрание.
– Да как же? Я не знаю, как это!
– Дело покажет как, – говорит наш партийный секретарь.
…И так помогло мне это в работе! Только комсомольцы и выручали. С песнями, прибаутками… За пять-девять километров в ночь приходили, на токах работали. Каждое зёрнышко берегли.
Наш колхоз передовой был. Так молодёжь гордилась этим!..
Церковь Михаила Архангела
Приехал к нам Андрей Петрович, председатель из Михайловки, и говорит:
– Давай-ка к нам агрономом. У нас дел! Как раз для тебя.
С твоей-то энергией… Наше село не твоя деревенька Сухановка, районное… Опять же освобождается двухкомнатная квартира – считай, она твоя.
…Приехали, значит, мы к ним в Михайловку. Мне нравилось это село. Все трактористы – мужики хорошие, деловые. На полях порядок.
Пошли смотреть гараж, где трактора да комбайны стоят. А гараж этот в церкви разместили.
Я как зашла! Там гул, дым синий. Матерком мужики перебрасываются. У меня сразу с головой что-то… Как же это я смогу так? В церкви-то? Хоть и неверующая, комсомолка, а не по себе стало…
Вышли на улицу. И тут старушка какая-то, как привидение…
У стен красно-кирпичных… Смотрит… И лик у неё иконный… глядит на меня глазами моей давно умершей богомольной бабушки Прасковьи. И будто насквозь меня пронзает. Молча…
Андрей Петрович мне:
– Ты что? На тебе лица нет. Плохо со здоровьем?
А я ничего сказать не могу толком…
…Отказалась я тогда от предложения Андрея Петровича. Бог с ней, думаю, с квартирой. Поживём в однокомнатной.
…А теперь церковь Михаила Архангела восстановили. Красивая такая! И снаружи, и внутри! Народ потянулся отовсюду. И я помолиться прихожу. И у меня на душе благодать. Как хорошо-то, что я не согласилась тогда… Кто-то меня предостерёг…
Может, и живу долго поэтому?
Норма высева
Я теперь комсомольский вожак! Вокруг меня всё чаще молодняк. Все друг за дружку!
Наступили сроки сеять озимые. Мы всё по нормам высева развесили. Кому сколько надо ржи, на каждую сеялку раздали. И провели посевную.
А тут – нате вам! Ко мне с арестом. Будто мы засеяли сверх нормы, и теперь зерна не хватает. Моя вина, агронома! Начали разбираться, я стою на своём: всё по норме. Парни за меня: вместе, мол, развешивали зерно, тогда всех нас арестовывайте! Коллективный документ написали. Провели органы обыск. И нашли у нашего счетовода припрятанные мешки с зерном. Всё открылось. Счетовод получил по заслугам. А дружки-то остались, с которыми половину зерна он успел пропить…
Заведующий отделением, фамилия-то у него какая была – Молотов, стал сживать меня. Подсунул сначала такой мотоцикл, что я вся измучилась с ним на полях. На себе таскала.
Это бы ладно. Вижу, делает явные приписки в нарядах на вывоз навоза на поля, мёртвые души в нарядах… Сказала ему – как уж извивается: мол, замотался, то да сё… А сам втихую воюет против меня.
Когда мотоцикл стал совсем никакой, выделили мне лошадь.
Да такую норовистую! Несколько раз она меня сбрасывала. Лежала я без сознания. Я потом домой с полей приходила пешком, еле живая. Сказала директору о приписках, не выдержала. А об издевательстве с мотоциклом и лошадью – молчок, не говорю. Гордая была. Думаю, как-нибудь утрясётся.
А он мне:
– Бери моего Вороного, остальным я позанимаюсь. А то совсем убьёшься, с кем мне работать? С этими «молотобойцами»?
Оказывается, он видел творившееся безобразие. Терпел до какого-то им определённого момента.
А Вороной! Слов нет! Чёрный! Носочки белые и звёздочка на голове белая. Высокий такой. Когда подходила садиться, он сам приседал. Так мы сдружились! Я его и не привязывала. Сяду в седло, на пробу, ребята кнутом машут, а он ни с места, пока я знак не дам! Никогда сам в галоп не переходил. И ни разу не уронил меня.
Ревела я, когда уезжала работать в другое село. От людей такой доброты не видела.
Выбор
Мама моя против была, чтоб я за Алёшу замуж выходила.
Тракторист всего-то.
А Андрей! С высшим образоанием, агроном! И умница! Заслал он сватов, а я ни в какую. Упёрлась!
Мать корила:
– Смотри, девка, против судьбы идёшь! Что с того, что твой Алёшка и высок, и голубоглаз? С лица воду не пить!
…Прошло столько уж лет!..
Мой Алёша как трактористом был, так им и остался. А Андрей стал мэром города, а потом и главой всего нашего района. Он у нас наполовину сельский, район-то. Когда перемены начались, Алёшке моему пахать нечего стало, слесарем в ЖКХ устроился. Потом попивать начал… Пошло сокращение…
Тут уж мама моя есть меня начала:
– Говорила тебе! Теперь вот близок локоток, да не укусишь!
Недосягаемая вершина, – это она про Андрея. – А твой-то даже в слесарях не удержался…
А мне беспокойно как-то стало, не по себе. Уж больно богатеть быстро стали некоторые. И Андрей богатеньким стал, тоже так быстренько. Мой Алёшка-то попивает, вроде как ущербный какой стал. То почести, уважение – лучший механизатор района, а то – никто?..
…А тут сначала старшего сына мэра нашего убили, он весь в бизнесе был. И маслобойка у него, и пекарня, и землю всю по паям этим скупил. Стал на ней зерновые сеять. Но это ладно: на этой, его теперь, земле были когда-то нефтяниками закрыты буровые. А когда открыли их заново и принялись нефть качать, начали платить аренду ему за землю. Деньги задарма потекли вместе с нефтью… Много чего этот вёрткий его сын крутил. Докрутился вот…
А потом Андрея, главу нашего района, посадили.
Вот тебе и судьба.
Все злорадствовали по поводу Андрея. А мне жалко его было.
Тужила и об Алёшке, и об Андрее. Ведь оба какие были, а? Неиспорченные… Один красавец, другой умница. Комсомольским секретарём был. Родители его – чтоб чужое взять? Да никогда! А вот что получилось…
Вышла бы за Андрея, может, у всех судьба была бы другая?!
И у Алёшки… Он знал, что Андрей сватал меня. На его глазах вырос до начальника всего района, видел. Переживал молча…
Хотя, что я плету: судьба другая! Кто я?.. Что я могу изменить?..
Говорят: «Кому что суждено». В такое времечко жить довелось…
А всё равно тягостно, вина какая-то на мне…
Барсик
Звонит мне сестра из Богородского и говорит:
– Помер у нас тут бомж, остался от него один котёнок, чёрный с белым. Может, привезу тебе, у меня-то уж три?
– Ну, привези, – отвечаю. – Скучно одной-то.
Она и привезла: как с концлагеря. Худющий – ужас! И грязный. Отмыла, расчесала я бедолагу. Понесла в туалет, сказала: тут писать, тут другое делать. Строго так распорядилась, а сама не особо верю, что в пользу. А, батюшки! Он так всё послушно и начал делать, как велела!.. А от бомжа! Я обомлела прямо…
…Хозяин звал его Душманом. А я стала называть Барсиком.
Спит и спит! Настолько, видать, настрадался при бомже-то. Отъедается. Но я слежу: постепенно чтоб… Тёпленькой водичкой пою. А он поест, попьёт и под ванну спрячется. Там коротает своё время, я не помеха его режиму.
Пришло время, стал он хоть куда. И мурлычит, и лижет меня.
Куда я, туда и он!..
Последнее время недомогала я, а тут ноги ещё! И гудят, и немеют…
И вдруг замечаю: силы ко мне возвращаются. Откуда? От него?! Приехала я в Богородское. Отец Дмитрий жалуется:
– Крысы одолели. Так много их, помоги найти хорошую кошку.
А где её такую найти? Чтоб против крыс! Не всякая…
…Когда засобиралась снова в Богородское, нечаянно подумала про Барсика. Он такой исполнительный! Попробую. А он уж вырос, мышей начал гонять вовсю.
…Несу его в сумке через плечо в Богородское. Замяукал жалобно. До конца я сумку распахнула, он на обочине сходил в туалет и опять – прыг на место, в сумку. Диву даюсь! Умница какой! Кому расскажи – не поверят, что у меня такой кот-товарищ!
Принесла его к батюшке и говорю Барсику моему:
– Вот теперь твой хозяин, послужи ему! Чтоб не стыдно было мне за тебя.
Говорю, а сама думаю: что калякаю, нашлась приказчица!..
В уме ли?
А Барсик сидит смирненько и внимательно смотрит на меня…
Безобидный такой!
Уехала я, а в Богородском началось!..
Батюшка звонит мне:
– Кого ты мне привезла? Дикого барса! Он таскает крыс мне прямо к кровати. Беседу провёл с ним, начал приносить к порогу! Со всего прихода несёт…
…Месяца два Барсик пробыл в Богородском. Лисы всех кошек поели, а его не тронули. Он сильнее их оказался!.. Как порядок навёл, я и забрала его опять к себе.
Белые сапожки
Как набралось у меня чуть поболее пяти тысяч, поехала в город на барахолку. Сапоги надо было купить к зиме самой, да внучке куртёшку какую. Большая уж, двенадцать скоро, а из одежонки ничего путного нет…
Присмотрела у одной сапоги. Беленькие такие, кожаные. Понравились мне. И совсем почти не одёванные. И просит вроде недорого. Сама-то, похоже, не от хорошей жизни продаёт. Видно, что не торгашка. Глаза грустные-грустные. Стала мерить я сапоги-то, а сумка мотается, мешает. А положить куда? Тут ещё жмутся рядом какие-то ребята, лет по пятнадцать…
– На, – говорю ей, – подержи сумку, там деньжат на трое твоих сапог! – и отдаю ей, неумёха.
А сама копошусь, копошусь… Левый сапог в подъёме малость жмёт… Носки на мне толстоватые… Так-то, может, ничего?.. «Возьму», – думаю.
Поднимаю голову, а её нет с моей сумкой-то. Как ветром сдунуло. Умыкнула мои денежки. Ах, батюшки! Туда-сюда… Ребята эти ржут надо мной!
…Всю дороженьку до дома сама не своя была. Неужто так как она можно поступать! Такая на вид своя, а воровка?!
Приехала домой. Вхожу в избу, а муж Алексей, жив был ещё, говорит:
– Что ж ты, голова, на рынок-то без денег поехала?
Смотрю, а мой кошелёк на столе лежит. Забыла его, так я торопилась. Показываю с глупым видом мужу сапоги, а он ничего понять не может. Пришла в себя, рассказала, как дело было.
И не по себе так! Это ведь я нагрешила, я сунула ей в руки пустую сумку, а сказала, что с деньгами. Она и соблазнилась… А не сунула бы… У неё глаза-то добрые… Как это всё вместе?.. Сильно опечалена она была, что-то прижало крепко её…
Алексей-то помалкивает мой. А пришедший Василий, шабёр напротив, в своей манере шутит:
– Катерина! Не прикидывайся овечкой. Жалеешь её. А она знаешь, как про тебя думает?
– Как? – спрашиваю.
– Матёрая ты, думает она, аферистка! А кто же? За так, вернее за старую холщовую, причём совершенно пустую сумку, получила сапоги! Добытчица ты! У тебя всё отработано было. Название этому – махинация!
Мне так не по себе, а он ещё тут…
Вытолкала его во двор, он только лыбится… Его-то спровадила, а сапожки стоят. Нарядные такие. Радоваться бы… Но… как укор.
Поеду, думаю, на рынок, отвезу сапоги ей, может, передумала продавать. Либо деньги отдам. Всякое в жизни бывает. Коль беда у неё – теперь ещё горше ей…
И у меня были денёчки… Чужое не брала, а не доведись кому такое…
…Два раза на рынок ездила. Нет её! И не видел её никто больше там. Спрашивала я. Как сквозь землю провалилась.
Неужто я её подвела под новую какую беду?..
Голубенький платочек
Как я с будущим моим мужем познакомилась? Обыкновенно.
Это была моя первая посевная после окончания техникума. В Усманке. Жила я тогда у бабы Зои. Вдвоём квартировали с девочкой зоотехником. Ещё моложе меня была, Варей звали. Баба Зоя так хорошо нас кормила! И приглядывала за нами, как за своими дочками.
Послали сына нашей хозяйки сеять пшеницу. Он трактористом был. Лёшей звать, год как из армии пришёл. Жил он с матерью в другой половине пятистенки. Думаю, дай-ка проверю, как у них там в поле дела. Самой всё хотелось видеть, знать, потрогать… Я как агроном – первая в ответе.
…Пришла на место-то, а они и не начинали сеять. Лёша – никакой, спит пьяный на мешках с семенами. Трактор по одну сторону дороги, сеялки – по другую. Две сеяльщицы истомились ждать, когда он проснётся. Не знаю, что делать. Ах, батюшки ты мои!.. За день надо засеять четырнадцать гектаров по норме. А тут клин в девятнадцать гектаров. И уже вторая половина дня! Попыталась разбудить Лёшу. Куда там…
– Что с ним случилось? – спрашиваю. – Вроде парень-то ничего…
– Девчонка его Зинка, – говорят, – связалась тут с одним приезжим, он узнал вот только сегодня…
Ситуация!
Мы в техникуме трактор немножко изучали, даже катались чуток. Взяла и завела. Не с первого раза. Я – в кабинку, бабы по моей команде – к сеялкам.
…Засеяли мы за ночь все девятнадцать гектаров! Я всё старалась в конце загона на поворотах поаккуратнее, чтоб огрехов не было, ровненько чтоб… И чтоб трактор, миленький, не заглох. Радость-то какая! Сама!
Лёша только под утро проснулся. Извиняться начал.
А я каждое утро потом на этот клин у дороги бегала: взойдёт пшеничка или нет? На седьмой день всходы появились. И огрехов особых нет. Чудо! Сеяла-то впервые, да ночью ещё…
Я про Лёшину пьянку никому не сказала. А то бы его выгнали с работы. А тут премию объявили в колхозе за самые хорошие посевы. Лёше дали первую. Он купил и подарил мне платок. Хороший такой, голубенький! Так мне нравился голубой цвет… И молодая, и всё моё ещё впереди!..
Никто ничего так и не узнал о нашей с ним посевной. Лёша потом часто мне помогал. Безотказным оказался.
И настало время, когда он пригласил меня в клубе на танец.
А потом впервые проводил до дома.
Варя смеялась:
– К себе домой провожает! Чудно!
…А в сентябре мы сыграли свадьбу, стали с Алёшей мужем и женой…
…Я на днях ездила в район. Не утерпела, попросила свернуть…
Сходила на свои первые поля и на этот клин тоже… Прошлась в бурьяне по пояс…
Вернулась к машине, а меня спрашивают:
– Ты что, бабуль?
– А что? – говорю.
– У тебя вся куртка в репьях и лицо в слезах?..







