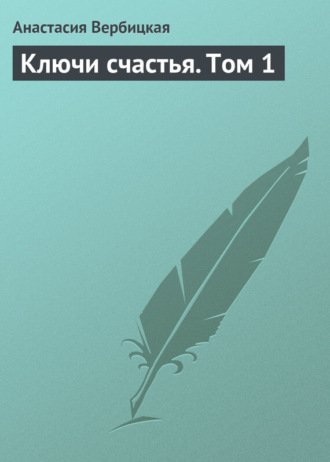
Анастасия Вербицкая
Ключи счастья. Том 1
– Разве он никуда не выходил эти дни?.
– Буквально никуда. Он дежурит у твоей комнаты до глубокой ночи.
– Марк, поди сюда! Здравствуй! «Как он похудел…»
Он целует ее руки. Они одни в большой высокой комнате, где умирает закат.
– Ты не хотела меня видеть. Почему?
– Этого я тебе не скажу, Марк. Никогда.
– Разве у меня не найдется слов, чтоб побороть твое горе?
Она улыбается так странно.
– Видишь ли… я уже не верю в слова.
Он придвигает кресло и, не выпуская ее руки, садится рядом, у постели.
– Ты очень изменилась, Маня.
– Да, Марк. Я стала другой. Я разлюбила жизнь и… любовь.
– За что?
– За то, что она ползает в грязи. За то, что она бессильна поднять нашу душу над большой дорогой. За то, что жизнь смеется над нею.
Он думает над ее загадочными словами. Вдруг, без всякой логики, повинуясь порыву, она притягивает его к себе и спрашивает шепотом:
– А ты все тот же?
О, как она пронзительно глядит!
– Я не могу измениться, Маня. Моя любовь выше жизни.
Она все глядит в его зрачки. И видит отраженное в них белое лицо, рыжие волосы, статную фигуру.
«А я смуглая и больная. У меня уже нет стройности. Скоро я буду безобразна. Устоит ли его чувство?..»
– А если… у меня будет оспа?
Он грустно улыбается и целует ее волосы.
– Я люблю душу твою, Маня. Разве может измениться твоя душа?
«Не надо такой любви! – хочет крикнуть она. – Тело мое люби и желай! Только это и верно. Только это и ценно…» Но она молчит, боясь выдать свою тайну, И сердце ее стучит.
Отчего ее оскорбляла чувственность Нелидова? И она жаждала, чтоб он видел и любил ее душу, чтоб он считался с ее внутренним миром, чтоб он был неясен, как брат.
Но здесь… Безраздельно хочет она владеть этим Человеком! Его желаниями, его порывами, его фантазией.
– Скажи, что ты меня любишь! – мрачно говорит она.
Он опускается на колени и целует край одеяла.
– Вот мой ответ!
Но напрасно думает он, что удовлетворил ее требовательность. Слишком высоко и светло его чувство! Оно похоже на молитву. А рядом встает облик другой. Рыжие волосы, белая кожа. Она вспоминает свою светлую любовь к Нелидову. Разве не тонула она без следа при первой ласке Штейнбаха? При первом взрыве чувственности? Вот где власть. Вот стихия, от которой нет спасения.
– Поклянись, что ты не уйдешь! – с отчаянием говорит она.
– Куда?
– Ни-ку-да.
Он вздыхает всей грудью. Он опять горестно качает головой. Потом берет в руки ее лицо и целует ее лоб.
Маня вдруг просыпается. Она слышала глухой звук внизу. Стук затворяющейся двери. Или это приснилось?
Она сидит несколько мгновений, спустив ноги. Потом обувается и набрасывает на себя капот. Руки ее дрожат, и губы тоже. И все у нее внутри сотрясается мелкой дрожью. Она выходит на балкон.
Все тихо. Ни звука на канале.
Со свечой в руке она спускается по лестнице.
Мрак дрогнул. Тени метнулись. Нет. Ей не страш-не. Живые глаза глядят со стены. Все равно! Она должна узнать то, что прячется за словами.
Она подходит к подъезду. Трогает замок. Все за-нерто.
Минуту она стоит, соображая. Сырость пронизывает ее ледяной волной. Но она слышала стук. Она не могла ошибиться.
Она идет ощупью вниз, из залы в другую, через коридоры и закоулки. Лишь бы не погасла свеча, жалобным пением или визгом отворяются тяжелые двери. Тут должен быть другой выход. Она его найдет.
Вот он. Низкая, темная дверь. Отсюда ходит прислуга. Но она тоже заперта. Он запер ее снаружи, уходя.
Маня смотрит в окне. Узкая набережная. И мостик переброшен на другую сторону. Агата говорила, что всю Венецию можно перейти по этим мостам, с одного острова на другой. Он прошел здесь.
«Но почему именно он? – спрашивает кто-то в ее душе. – Может, это прислуга?..»
Она идет назад в вестибюль. Вот камин. Вешалка. Его пальто тут. Но разве у него нет другой одежды?
Она вспоминает, что он был в плаще.
На лестницу она поднимается, еле волоча ноги. В сердце ее теплится и бьется последний огонек надежды. Это отчаяние ее горит, и трепещет, и мечется, то угасая, то вспыхивая, как эта свеча, которую со всех сторон душит беспощадный мрак. Угаснет сейчас.
Она идет все тише.
Вот коридор, где его комната. Наискосок от ее спальни.
У порога она замирает на мгновение. Нет сил войти. Не вернуться ли? Но отчаяние толкает ее вперед.
Дверь открывается беззвучно.
«Не так, как другая, – проносится в голове ее, точно кто-то говорит ей в уши. – Он об этом позарился».
Она с порога смотрит в комнату. Высокая спинка постели скрывает от нее подушки.
Она подходит медленно, вся дрожа.
Никого. Постель не тронута. Он не ложился.
Она стоит, закрыв глаза. У нее такое чувство, что Скрылась земля под ногами. И дальше идти некуда.
Вдруг она роняет свечу. Все погружается в мрак.
Она падает на колени перед постелью. И, обхватив подушки, прижавшись к ним губами, пряча в них лицо, она рыдает так мучительно и страстно, как будто перед нею труп Штейнбаха.
…
– Я нашла ее у постели, на полу, в глубоком обмороке, – говорит фрау Кеслер Штейнбаху.
– Можно мне ее видеть?
– Идите. Она не спит.
Штейнбах хочет овладеть собою. Но с порога он видит ее лицо. Маленькое, жалкое. Такое скорбное и страдающее. Он никогда не видел у нее такого выражения.
Чувство сильнее воли толкает его к кровати. Он обнимает Маню и прячет лицо в подушки.
Он ничего не говорит. Он целует ее волосы, лоб, холодные щеки, ее руки, беспомощно белеющие на одеяле. Он отдал бы по капле всю кровь своего сердца, чтоб сделать ее здоровой и счастливой. Хотя б с другим! Да, да. Он ни секунды не колебался бы, Но не с Нелидовым. Нет! Ему он не уступит своего места здесь, у ее изголовья.
Но на что ей его преданность? Его беззаветная любовь?
Она бесстрастна и далека. Его ласки, его первые поцелуи после такого долгого отчуждения она принимает равнодушно. Как будто она устала. Смертельно устала. Она даже не глядит на него. Она смотрит мимо.
– Ты страдаешь, Маня?
– Нет.
– Дитя мое, зачем эта скрытность? Разве я в друг тебе? Не брат? Открой мне свое сердце. Плачь Тебе будет легче.
– Я уже выплакала все слезы.
Ее голос изменился. Нет в нем звонких ноток, горячего трепета. «Прощай, девочка Маня!.. Радостная, яркая Маня!»
– Прощай…
Он поднимает голову. Послышалось ему? Или она это прошептала? Или это бред? Он не смеет спросить. Ее губы сомкнулись. Глаза закрыты. Она устала.
– Может быть, мне уйти? – тихонько спрашивает он.
– Нет. Нет. Мне лучше, когда ты здесь.
– Хочешь, я почитаю что-нибудь?
– Да.
Он поворачивается. Он уже на пороге. Не смотреть.
Тогда глаза ее раскрываются. Огромные, сверкающие. Алчные глаза. Она глядит ему вслед с таким отчаянием, как уплывающие в далекий океан, в неведомое будущее, глядят на тех, кто остался на берегу и вот-вот исчезнет в тумане.
«Прощай, моя греза… Прощай, менестрель…»
Вечером, с бесстрастным лицом, опустив ресницы, она говорит этим новым равнодушным голосом, которого так боится Штейнбах:
– Вчера ночью, Марк, я испугалась. Я видела что-то в коридоре. Мои нервы разбиты, говорит доктор. Но он не понимает… У меня к тебе просьба…
– Все, дитя мое… Все, что ты хочешь!
– Агата спит очень крепко. Вели поставить ее кровать здесь, в моей комнате. А сам перейди спать туда, рядом. Если я позову, ты ведь услышишь? Ты чутко спишь?
– О, конечно.
– Я затворю дверь. Но ты дай мне звонок на столик. У тебя есть звонок?
– Чего же ты испугалась, Маня?
– Пустяки. Это нервы. Но… может быть… тебе нужно… гулять ночью… И я тебя стесню?
– Что за вздор, Маня! Кто гуляет по ночам?
Она все глядела на карниз. Теперь она прямо острит в его лицо.
– Тебя не было вчера.
А! Он смутился. Его матовые щеки порозовели. Ресницы дрогнули. Но глаза смотрят спокойно и холодно. Глаза лгут.
Он спрашивает не сразу. Сдержанно и вкрадчиво:
– Значит, ты меня искала?
– Да.
Он опять молчит, выжидая. Он похож на путника, который ходит по трясине. Ступил на кочку и ждет, не опустится ли она под его ногой. Ни шагу дальше!
Но, ревнивая и страдающая, она становится необычайно чутка. Его осторожность она чувствует. Почти физически.
– Я кинулась в коридор. Я тебя звала.
– Ты была в моей комнате? Это ты отворила дверь?
– Да. Я пришла к тебе. И тебя не было, – доканчивает она. И голос ее звенит вдруг, как сорвавшаяся струна.
– О, Боже мой! – Он берется за голову руками.
– Ты, значит, тоже… любишь бродить по ночам.
Она старается говорить спокойно. Но и его подозрения проснулись. Он насторожился. Что она знает. Возможно ли, чтоб она догадывалась?
– Нет. Это была случайность. Я никуда больше не пойду.
Она улыбается. Хорошо, что он не видит это улыбки презрения! Он понял бы все…
Какое ласковое солнце! Совсем как весна. Можно ли подумать, что это конец декабря?
– А в России сейчас сугробы снега и мороз, – говорит фрау Кеслер. – Скоро будет Рождество. Зажгут елки.
Они обе сидят на балконе. Ноги у Мани укутав в плед. Лицо у нее стало совсем крошечное и больное. Но глаза – темные и мрачные. И холодом веет от ее улыбки.
– Скоро мы осмотрим Дворец Дожей, – говорит она. – Потом уедем.
– Ты разлюбила Венецию?
– Нет, я люблю ее. Но я ненавижу жизнь!
– Как жаль! Я мечтала увидеть карнавал.
Штейнбах выходит на балкон в плаще и шляпе. У него в руках портфель.
– Я еду к Риальто, на почту. Не надо ли вам чего-нибудь в городе? Ты, должно быть, озябла, Маня? У тебя совсем белые губы. И руки как лед.
– Вы скоро вернетесь, Марк Александрович?
– О да. Я привезу письма. Не сиди, Маня, долго на воздухе. Это опасно.
Он целует ее руку. Она остается недвижной. Опершись на балюстраду, фрау Кеслер смотрит вниз, на отплывающую гондолу.
– Маня, он кланяется. Он ищет тебя глазами.
Она не отвечает. Лицо ее как будто закаменело. она смотрит вверх, на легкие гряды облаков.
– Агата, – говорит она, когда гондола заворачивает налево, скрываясь за дворцом Фоскари, – когда у меня родится дочь, я буду опять гордой и вильной. А не такой ничтожной и презренной, какой чувствую себя сейчас. У тебя были дети?
– Трое. Все умерли в детстве.
– Как ты могла это пережить?
Фрау Кеслер пожимает плечами.
– Если б мы все умирали от любви или от горя, Что сталось бы с человечеством? Горе проходит. Скорбь бледнеет. Это жизнь.
– Опять жизнь? Великая пошлость!
– Вернее, могучая власть! Она не дает пощады, не знает остановки, не терпит уныния и отчаяния, она зовет вперед! К новым встречам, новым радостям, новым обязанностям. Как часто я думала: «Вот теперь кончено все… Опустилась в черную яму. Окружили меня глухие стены. И выхода нет…» А жизнь между тем уже распахивала тихонько передо мною двери. И я видела вверху клочок голубого неба. Не качай головой! Ты когда-нибудь научишься любить ее, не как девочка, живущая сказками, а как гордая женщина, у которой есть силы посмотреть в лицо своей судьбе. И я знаю, что недалека та минута, когда ты скажешь: «Да здравствует жизнь!»
Они уходят с балкона. Маня, закутавшись в платок, ложится на широкой старой софе. Она прислушивается к движениям таинственного существа, которое носит в себе. И глаза ее расширены от мистического ужаса.
Когда она очнулась в ту ночь от обморока, кто-то маленький и беспомощный постучал в ее грудь. «Я здесь… ты обо мне забыла?..» А когда она хотела встать, он с такой режущей болью всколыхнулся в ней! Даже в глазах потемнело.
О, с чем сравнить взрыв раскаяния! Этот поток жалости, затопивший ее душу! Да, она о нем забыла! Она не берегла себя. Своими слезами и отчаянием она губила не только себя. У того, беспомощного, крошечного, связанного с нею неразрывными узами, она отнимала силы и кровь. О, жестокость! И вот сейчас, когда душа ее опять рыдала над растоптанными иллюзиями, этот маленький кто-то постучал тихонько и жалобно, как бы прося пощады.
– Агата, закрой меня получше! Я хочу заснуть. Крепко заснуть и встать здоровой. Когда придет Марк, скажи, чтоб не мешал мне.
– Ты опять не спала? Опять прислушивалась к шагам?
«Если б Агата знала. Она не подозревает, что я была его любовницей. Довольно безумия!»
– Все будет теперь иначе, Агата. Поцелуй меня. Постой. Скажи мне: знаешь ты средство вылечиться от любви?
Фрау Кеслер смеется и гладит ее по голове.
– Знаю, Маня. Есть только одно средство: новая любовь.
– У меня она будет. Великая, глубокая, светлая любовь. Непохожая ни на что. Без измены, обид, без унизительных страданий. С белыми крыльями, как у ангелов. Я была безумная, Агата. У меня в руках сокровище, а я забыла о нем и гналась за призраками. Почему ты мне не сказала, что дети заменяют нам все ценности, что мы теряем по дороге?
– Потому что они не заменяют нам любви, – спокойно отвечает фрау Кеслер. – Любовник – одно, дитя – другое. Это земля и небо. И слить их нельзя.
– Тогда я поднимусь над землей. Мое дитя, Агата, спасет меня от пошлости. Моя любовь к нему поднимет меня над грязью большой дороги. Мы вдвоем с ним, рука об руку, вступим в жизнь. И победим ее, Агата! Победим! Ты видишь, я уже не плачу. Мое дитя не хочет, чтоб я страдала. И я буду улыбаться. Теперь обними меня. Я засну спокойно. Ах, как я устала! Как я смертельно устала!
– У вас плохие известия, Марк Александрович?
– Я получил письмо от Сони. Нелидов за границей.
– Не может быть!
– Тише!
– Нет. Она крепко уснула.
– Все равно. Пойдемте вниз, в библиотеку.
– Что она пишет? – спрашивает фрау Кеслер, садясь в кресло и оглядываясь.
Она никогда здесь не была. Комната мрачная, высокая, с огромными резными шкафами, с витринамм, под которыми красуются коллекции камней, старинных монет и украшений. Камин топят здесь целый день, но все-таки холодно.
Штейнбах вынимает письмо Сони.
«…Дядюшка говорит, что Нелидов так изменился, как будто перенес тяжелый тиф. Он угнал о попытке Мани покончить с собой, и дядюшка уверен, что именно это глубоко потрясло его. И, вообще, я начинаю думать, что он не разлюбил Маню и не скоро ее забудет. Он дошел до такого нервного расстройства, что Климов потребовал немедленной перемены обстановки. Иначе он ни за что не ручался. Вчера я опять получила письмо. Нелидов из Киева выехал не, Вену. Оттуда в Ментону…»
Он опускает письмо на колени. Фрау Кеслер испуганно глядит в его лицо.
– Неужели встреча возможна? – спрашивает она шепотом.
– Я ее не допущу! – говорит он тихо.
– Мы, значит, должны немедленно уехать?
– Почему? Пока Маня со мною, она в безопасности. Разве Нелидов не знает, что мы вместе сейчас. Этого достаточно.
– Вы думаете, это ему известно?
– Я об этом постарался.
– Что это значит?
– Я был готов ко всему и просто принял свое меры. Мое доверенное лицо выехало с Нелидовым одном поезде Киев – Вена. Третьего дня я послал телеграмму…
Фрау Кеслер вдруг вспоминает его лицо, когда он ее получил.
– Вы видели Нелидова?
– Он видел меня. Это гораздо важнее. Я был на вокзале, когда подошел поезд.
– Боже мой! И вы говорили?
Штейнбах тихо смеется.
– О чем нам говорить, фрау Кеслер? Мы постарались не узнать друг друга. Наша встреча длилась миг. Но этого было довольно. Нелидов провел одну ночь в Гранд-Отеле, против наших окон. Вы видите? Там… И я знаю, что с первым утренним поездом он выехал на Ментону. Я не люблю недоразумений, фрау Кеслер.
Она встает с пылающим лицом.
– Марк Александрович! Но ведь это именно и было величайшим недоразумением. И по какому праву? Чтоб оградить Маню от сплетен, Петр Сергеевич поручил мне увезти ее на юг. Не вам, а мне. Но, вспомните, на каких условиях! Вы должны были нас сопровождать до Вены, где живет ваша больная жена, и все, даже мои родные, думают, что вы остались с нею. Петр Сергеевич в этом убежден.
– Но не Соня. Соня знает все.
– При чем тут Соня? Мне важно оправдать доверие Петра Сергеевича. В какое положение вы поставили меня?
– Разве вы не разрешили мне сопровождать вас сюда? И всюду?
– Да, но втайне. Кто увидит нас за границей? – Думала я. – Но ведь вы знаете сами, как я щепетильна во всем, что касается наших расходов. Петр Сергеевич умер бы от горя, если б Маню приняли за вашу…
– Содержанку. Договаривайте, пожалуйста!
– Да, вы меня поняли. Вы думаете, Маня и сейчас не дорожит мнением Нелидова?
– Мнением человека, который отрекся от нее?
– Из-за вас! – экспансивно бросает она ему в лицо.
– Я ли, другой. Тут дело в принципе. Но оставим это! В чем вы меня обвиняете? Что я не отвернулся от Мани, как это сделали другие?
– Ах, Боже мой! Как вы странно ставите вопрос! – лепечет она, избегая глядеть ему в лицо. – Но согласитесь, если Нелидов, этот дядюшка и все другие будут считать теперь Маню вашей любовницей…
– Вы предпочли бы, чтоб она осталась одинокой в мире? Отвергнутой и забытой? Так? Моя любовь для нее больший позор, чем презрение Нелидова и Ко? Вы это хотите сказать?
– Нет. Кто говорит про любовь?
– Вы видите какой-нибудь выход?
– Я?
– Ну да. Вы. Раз вы критикуете мое поведение, у вас должны быть иные планы. Будьте любезны мне их сообщить!
Она бегает по комнате.
– Я ничего не знаю, Марк Александрович! Но я чувствую, что вы ступили на ложный путь. Гордость Мани…
– Подождем ее слова. Мне кажется, это единственное, что ценно.
– Но вы забываете, что она сейчас больна и слишком поглощена своим горем, чтоб считаться с последствиями того или другого шага. Но потом, когда ей придется создавать себе положение в жизни, когда от ее репутации будут зависеть поиски куска хлеба, скажет ли она спасибо вам и мне, своим лучшим, скажу даже, единственным друзьям, что мы – по беспечности – позволяли клевете расти вокруг ее имени? Вы ведь не можете жениться на ней?
– Нет. Я не свободен.
– Вот видите!
– Но, насколько я понимаю, и для брака с Нелидовым у нее отрезаны все пути. Или вы рассчитываете на то, что они опять сойдутся?
Она глядит ему прямо в лицо.
– А вы? Разве не этого боялись вы сами, когда ехали на вокзал?
– Я боялся за Маню. Неожиданность, потрясение, взрыв горя, новое оскорбление – все может быть гибельно для нее сейчас. Неужели вы верите, что он из тех людей, которые способны поставить крест на прошлом любимой женщины и никогда не упрекнуть ее? Неужели вы ждете для нее счастья от этой связи? Порыв его великодушия длился бы одну ночь, фрау Кеслер! Одну только ночь.
Она садится с беспомощным жестом.
– Это было ее дело решать. А если вы все-таки разбили ее счастье? Как знать, в чем она его видит?
– Фрау Кеслер, – холодно перебивает он. – Что сделал я, чтоб заслужить эти упреки? Я прекрасно понимаю преимущества Нелидова передо мною. Он был женихом. Я – только поклонником. Теперь наши шансы равны. Но неужели и сейчас довольно одного призрака этого экс-жениха на горизонте, чтобы все дружеские услуги топтались в грязь и обесценивались самые высокие отношения и чувства?
Он встает и подходит к окну. Прошел торопливый, переполненный пароходик, направляясь к Риальто, и мутные волны добежали до стен палаццо и лизнули его мрамор.
Она не видит его лица, но порывисто подходит к Нему и кладет руку ему на плечо.
– Не сердитесь, Марк Александрович! Поверьте, Что и я, и Петр Сергеевич, и мои родные, мы все высоко ценим ваше отношение к Мане. Нелидов приревновал к вам. Был ли он прав, мы в это не вмешиваемся. Во всей истории этого разрыва для меня и Для других осталось много темного и неясного, все Равно! Мы опускаем завесу. Если Маня и виновата, с точки зрения Нелидова, она сама разбила свое счастье. И своими страданиями искупила свою вину, мы ей не судьи.
– Вины не было.
– Тем лучше! Нелидов не знал, что она будет матерью.
– Но когда он это узнал, он кинулся сюда Она смотрит на него. Потом всплескивает руками.
– Марк Александрович, что вы сделали? Зачем? Ведь теперь он ничему не поверит.
– И не нужно, фрау Кеслер! Маня не испытает лишних унижений, ей не нужно будет оправдываться и доказывать…
– Но и не он один. Теперь все будут вас считать отцом этого ребенка.
– У него есть мать. И этого довольно! Но если даже и так. Чего вы боитесь, фрау Кеслер?
– Но с этой клеветой надо бороться!
– Зачем?
– Боже мой! Что за вопросы? Вы упорно хотите все-таки, чтоб ее считали вашей любовницей?
– Да, фрау Кеслер! Да. Я этого хочу! Не думаете ли вы, что и теперь нас считают братом и сестрой… Кого вы хотите обмануть? Кого хотите подкупить? И во имя чего? Если б я овдовел нынче, я завтра просил бы Маню венчаться со мною. Я перед всем миром готов признать этого чужого ребенка своим и усыновить его. Но этого мало. Я хочу, чтоб Федор Филиппович, Горленко, Лизогубы и tutti quauti[73], все эти люди, втоптавшие в грязь имя Мани, знали, что вся моя жизнь принадлежит девушке, отвергнутой господином Нелидовым. И если такое чувство не сможет залечить ее раны и дать ей удовлетворение, значит, я не знаю женщин!
Фрау Кеслер взволнованно обдумывает его слова.
Штейнбах берет письмо Сони, белеющее на столе, и прячет его.
– Она не должна знать ничего об этом, фрау Кеслер! Встречи не будет. По крайней мере пока не минет опасность волнений для Мани. Не допускайте до нее ни писем, ни телеграмм. Даете слово? Но вы глубоко ошибетесь, если подумаете, что в выработанном плане мною руководит ревность или жажда завладеть Маней. Я думаю только о ней. Любовь Мани к Нелидову – гибель всех ее возможностей. Всех ценностей ее души. Брак с ним был бы равносилен самоубийству. А я не хочу, чтоб Маня погибла! Нелидов – если даже уцелела искра его чувства – постарается не видать ее лица теперь. Все простит мужчина, кроме оскорбленного самолюбия. И тем лучше! Через эту любовь ей надо шагнуть, чтоб найти свой путь.
Она уходит, но он окликает ее на пороге.
– Фрау Кеслер, если вы действительно друг Мани, то перестаньте бояться слов! Как любовница моя она завоюет себе славу, свое место в жизни, независимость. И станет личностью. Как жена Нелидова она останется в тени. Она будет ничем! Эта любовь закроет перед нею ворота в будущее, которые я распахиваю настежь. Простите. Наш разговор кончен.
ИЗ ДНЕВНИКА МАНИ
Венеция. Декабрь.
Опять пишу… После долгого перерыва… В последний раз это было в гимназии. Мы с Соней встретили на станции Марка в первый раз. И вся моя жизнь стала с той минуты одним жгучим стремлением к нему.
Почему я пишу? Потому что я одинока. Потоку что я несчастна. Потому что слезы дрожат в моей груди. Кому скажу я о моей тоске? Кто поймет меня? Мои требования к людям так высоки, что я всем покажусь смешной.
Нет, нет! Не надо даже здесь, наедине с собою, вспоминать, что я выстрадала и в чем разочаровалась. Назад глядеть не буду. Разве передо мною не лежит жизнь?
Целая жизнь. И ее надо прожить.
Я любила ее. Трогательно и доверчиво, восторженно и страстно. А она поступила со мной, как предатель. Напала из-за угла, ночью. Кинула в грязь мою душу. Придушила мои мечты. И унесла мои иллюзии. И вот я лежу, ограбленная, униженная и одинокая. О, какая одинокая!
И даже умереть нельзя сейчас. Мое дитя – маленькое, беззащитное – потребует от меня ответа за каждый мой шаг. Я должна идти. Куда?
Есть ли кто-нибудь сейчас во всем обширном мире, в кого бы я могла поверить?
О вы, молодые и чистые души, которые никогда не прочтут эти строки! Вы, верившие в жизнь и мечтавшие о любви, – к вам протягиваю я руки из глубины моего падения. О вас я плачу, как о себе. Ведь любви нет, поймите! А есть желание. Ненасытное, неумолимое, непобедимое желание. В нашей душе живет стремление к небу, к беспредельному чувству, к Вечности. Это отзвук другого мира. Это эхо далекой пустыни, где бродили наши счастливые души, прежде чем мы явились на свет. Это сны нашей души, которая не может примириться со смертью и изменой. И эти сны мы – женщины – хотим осуществить на земле. И жизнь смеется над нами. Слышите? Она насмеется над вами так же. Мне говорят, что жизнь – это движение, это бег, торопливый и безудержный. Бег через свергнутые тела, через протянутые руки. Куда? Кто знает? Волна несется к скале и разбивается о нее грудью. Зачем? Кто скажет? Мы не видим смысла. Но он есть, скрытый от нас. Так говорят мне. Но может ли смириться душа? Может ли волна остановиться?
Жизнь – это тело, с его требованиями, с его капризами, страстями, с его собственной логикой, непонятной нам. Это сила, глухая и темная. Прекрасная сила, как говорил мне Ян. Могучая и яркая, как говорит Агата. Что перед нею наша маленькая душа с ее бледной грезой?
Мне страшно… Разве я сама не поступала так же?
Нелидов… Вот я сказала это имя. Оно жгло мои уста и мою душу. Но я молчала. Нелидов… Я теперь громко говорю это имя. – Разве я не одна в комнате? Разве не спит весь дом?
Ты бил моей любовью. Моей мечтой. Моим стремлением к небу. Все готова била я отдать тебе. И ничего не просила взамен. Ничего, кроме маленькой, чистой ласки. И я хотела, чтоб ты наклонился и заглянул мне в душу. И увидел там отраженным свой образ и мою жажду любить тебя.
Но рядом жило мое желание. Оно таилось на дне моего я. В глубоком мраке, куда заглянуть так жутко. Куда многие не заглядывают до седых волос. А это желание било не ты. Не ты. Другой! Оно подстерегало меня. И нападало внезапно. И душило любовь. И твой образ тонул в захлестнувшей волне.
Я не прошу прощения. Нет! Я не раскаиваюсь, нет! Они били прекрасны, эти яркие, эти грешные маки. Их посеял тот, кто покрыл все поле золотистым хлебом. Как могла я вырвать их из души моей? Убить красоту и радость? И здесь, наверное, есть скрытый смысл, таинственный закон. Но мы не видим цели. Наши очи слепи. И мы говорим: «Судьба»…
Но теперь я понимаю тебя. Я знаю, за что ты меня оттолкнул. В моей душе жила великая греза. Я разбила ее.
Прощай! Мы уже никогда не встретимся. Ты не можешь помириться на малом. И я испортила тебе будущее. Отняла семью, детей, уют, тихие радости несложной жизни, к которой стремилась твоя простая душа. Ты меня не забудешь, знаю! Но у меня нет удовлетворения при этой мысли… Я молюсь, чтоб судьба послала тебе счастье с другой, лучше, прекраснее, сильнее меня – слабой и мятежной. Желаю, чтоб ты встретил Лизу из «Дворянского гнезда», если есть такие теперь. Только такую должен ты любить. Зачем мы встретились, Николенька?
Нет… Нет… К чему эти слезы? Я не хочу бить неблагодарной. Ты дал мне много счастья. Ты подарил мне дитя. Разве может мать быть одинокой в мире? Разве дитя не наполнит нашей души? Не угасит наших стремлений? Не осуществит наши сны?
Но, Боже мой, как мне жутко! Без иллюзий, с обнаженной и израненной душой должна идти я дальше. Темно и холодно. Если б…
Из письма Нелидова к матери
Бретань.
Вы спрашиваете, почему я изменил маршрут? Почему я не осмотрел Венецию? Как я очутился здесь, когда меня послали в Ментолу? Милая мама, я чувствую между строк Вашу тайную тревогу. Не бойтесь! Встречу ли я ее, нет ли, она для меня уже умерла. Моя разбитая иллюзия будет стоять между ней и мною. И я не узнаю теперь ее лица, которое так безумно любил еще недавно. Да, любил, несмотря ни на что! Но теперь я постараюсь ее забить. Мне стыдно за мою слабость. Но вы не будете презирать меня, мама?
В Ментоне я прожил не больше недели. Там слишком людно. Пряная красота ша, тишина того моря били таким диссонансом для моей души! Я стремился к Океану.
А сейчас я на захолустном бретонском курорте, где меня никто не знает, где нет никого, кроле хозяев и местных жителей, которые считают меня ненормальным. Ведь это сезон бурь. Но я люблю север, его туманы, простор Океана передо мной, вечный отлив и прилив. Вот лучшее лекарство для моей больной души.
Целыми часами в полном одиночестве сижу я на скалах и смотрю, как бегут и пенятся волны. Куда бегут? В чем цель этого бешеного стремления? Вы улыбнетесь, мама? Но мне их жаль, эти волны. Какая громадная энергия! Какой чудовищный порыв! И все бесплодно.
Я часто думаю о Боге. Я слышу его голос в урагане. Я слышу его дыхание в буре.
Недавно я катался в рыбачьей парусной лодке. Нас унесло ветром далеко в море. Вдруг налетел шквал. Теперь, когда все миновало, не скрою от вас, что два часа мы ждали смерти ежесекундно.
Я никогда не забуду этих высоких минут! Я чувствовал себя таким ничтожным среди стихии. Я видел лицо Бога в надвигавшемся мраке. Все камни, пригнувшие к земле мою душу, вдруг скатились, утонули в шипящей пучине. И я понял, что опять свободен, опять здоров, что жизнь есть ценность, а моя боль – ничто…
Все прожитое начинает казаться мне сном. У меня нет уже ненависти. Кажется, нет и боли. Скажите Климову, что я крепко жму его руку за то, что он послал меня сюда. Он психолог – этот смешной, самовлюбленный человек, с его вульгарным красным галстуком. И он умен. Теперь я буду с ним считаться.
Я приехал сюда худой и бледный, а теперь лицо мое обветрилось, как у моряка, и вернулся прежний сон. Не бойтесь за меня! Когда мне понадобятся люди, я уеду в Шотландию, к моему приятелю лорду Файфу. Письмо его лежит передо мной. Он тоже одинок и несчастен. Жена его никогда не вылечится. И теперь он стал ближе моей душе.
Федор Филиппович пусть подождет писать сюда. Я хочу все забыть! Все!
…Что это за странный замок там на утесе? Седое море бушует под ним. И брызги летят вверх. Кричат наверху чайки. Вон взмахнула одна серебряным зигзагом на грифельном фоне туч. И села на зубцы башни.
Была я тут? Или нет? Или сплю…
Серые стены. Неприступен замок. Над воротами герб барона: чайка летит над морем.
В зале пылает камин. Отблески огня играют в рыцарских доспехах, на стене. Ждут с охоты гостей. Сумерки падают. Туман поднимается.
Сверху глядит маленькое личико с темными глазами.
«Это я?» Или нет?..
Высокая комната. У окна прялка. Все кругом просто и строго. На стене белеет Распятие. Под ним деревянная кроватка. Спит малютка, раскинув ручонки.
«О, милый… Мое дитя…»
…Чернеет что-то на подушке… Конек… Резной из дерева… Рыцарь де Трувилль сам привез его в подарок крестнику… Сейчас они вернутся с охоты. Уже поздно.
Наконец! Трубят рога. Гремят цепи моста. По мерзлой земле стучат копыта. Вон он впереди кавалькады, на белом коне. Белокурый, надменный. «Это ты, Николенька?..»
Он смотрит вверх, и лицо его смягчается. Он видит в окне маленькое личико. Он кивает ей головой.
Она спускается с лестницы. Шлейф волочится за нею. Вуаль, как облако, окутал плечи. У нее такой странный головной убор! Как у Агнессы Сорель…[74]
Гости увидали ее. Встали и целуют руку. Но она ищет глазами мужа – смиренная, кроткая, нежная.
Ее взгляд говорит: «Я ждала тебя весь день и тосковала. Но это ничего, мой милый. Пируй, веселись! День для тебя. А мне ночь. И твоя ласка. Жестокая, но блаженная ласка. И я жду ее, незаметная в свете твоей славы, в твоей бурной, мятежной жизни занимая такое маленькое, такое скромное место. Разве это не счастье? Разве есть для нас, женщин, что-нибудь выше любви?..»
– Не хочу! Нет! Не хочу! – кричит Маня…
И просыпается.
Ветер с моря стучит в окна. Слышно, как волны канала трутся о гранитные стены. Так это был сон? Только сон?







